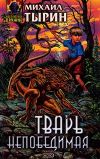Текст книги "Тума"
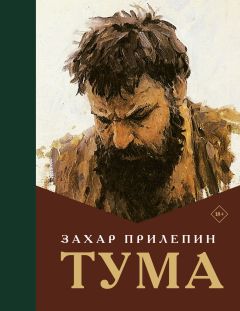
Автор книги: Захар Прилепин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Он, Стеван, он. Абидке ещё долго служить под его началом. У Абидки больная мать. Он беден. Дядя забирает часть его жалованья, а доносить на дядю Абидке некому…
– Одаклэ си то сазнао? (Откуда ты прознал о том? – срб.)
– Они говорят – я слышу.
– Зашто Абидка не иде у Литванию и Московию по заробленике да се обогати? (Отчего ж Абидка не ходит к Литве и в Московию за полоном, чтоб разбогатеть? – срб.)
– На то надобно иметь два коня. Надобно снарядиться. Ему невмоготу такое… Твои сербы догадаются его наградить за послание?
– Хоче, хоче, досетиче се (Да, да. Догадаются. – срб.), – ответил Стеван убеждённо.
Помолчав, ещё раз добавил, теперь уже раздумывая:
– …досетиче се… (…догадаются… – срб.)
С рассветом Абид занёс, едва пробившись в двери, острамок сена.
Выйдя, тут же вернулся с граблями и метлой.
Кинул Стевану:
– Темизле бу ери, кяфир! (Приберись, неверный! – тат.)
…возбуждённый Стеван ретиво трудился.
Завидя его старанье, лях поднялся и, став спиной к двери, разглядывал серба.
В наигранной строгости кивнул, чтоб серб прибрался и у него.
Стеван, потешаясь, замахнулся на ляха граблями, но, сразу же смирив замах, бросил те грабли ляху в руки. Гжегож – поймал.
Стеван, потешно хмурясь, взялся за метлу, как за секиру.
Они разыграли начало поединка, и лях тут же умело проколол черенком граблей Стевана в грудь.
Около полудня пришли с Даматом сербские купцы с лоснящимися бородами, принеся тяжёлые запахи недавно покинутой харчевни.
Оба – высокие, плечистые, в чалмах, в длинноруких дорогих кафтанах. Нарочито степенны, сдержанны. Носаты, будто отуречились даже обликом.
Взволнованный Стеван, обивая солому с шаровар, поднялся.
– Ко си ти, одакле си, из чие си куче? (Кто ты? Откуда? Из чьей ты семьи? – срб.) – глухо спросил один из пришедших.
Стеван заторопился, отвечая, моляще оглядывая гостей, и пугаясь даже взглянуть на полосатую чалму Дамата.
Сербы смотрели на Стевана так, будто видели пред собой мёртвого осла, которого продают как живого.
– О яландзы! (Он – лжец! – тур.) – коротко сказал один из них Дамату.
– Не, я нисам лажов! (Нет, я не лжец! – срб.). – воскликнул Стеван. – Тако ми Бога, говорим истину! (Клянусь Богом, я говорю правду! – срб.)
– Знам сву негову децу! (Я знаю всех его детей! – срб.) – неожиданно во весь грозный голос закричал пришедший серб. – А зна е и он! (И он тоже знает! – срб.) – серб указал на своего товарища. – Знамо их обоица! Он никад ние имао сина по имену Стеван, дяволи самозванац! (Мы оба знаем! У него никогда не было сына по имени Стеван, чёртов самозванец! – срб.)
Без замаха, не изменив равнодушного выраженья, Дамат ударил Стевана нагайкой по лицу.
Через всю щёку тут же, набухая, протянулся тёмно-розовый рубец.
Стеван закрылся руками, ожидая, что его ударят снова.
Сербы уже выходили.
Дамат, набычив свою огромную, как переспелый арбуз, голову, всё стоял.
Степан разглядывал пальцы своей переломанной ноги.
Он знал, что бить Стевана больше не станут. Всё равно ж продавать.
…на третье утро за Стеваном явился жид.
Глава вторая
I
В августе с дозволения круга Тимофей привёл к себе Матрёну и её сына Якова, на три года моложе Степана, и на четыре – Ивана.
Родом Матрёна была с посполитных украин. Батюшка её поначалу перебрался в русский окраинный городок Царёв-Борисов, а уж оттуда – на Дон.
Неутомимая малоросска Матрёна носила прозвище Говоруха – тараторила не переставая, и казалось, что не слышно её только ночью. Но даже когда в сонном забытьи она переворачивалась с боку на бок, успевала рассказать целую путаную сказку.
Речь её была повсюду. Если зажмуриться – Матрёна казалась пчелиным роем, который то удалялся, то приближался, – хотя псу, мелкой домашней скотине и курам говорливость её была по душе. Они неизменно ощущали её пригляд и заботу – и, когда Матрёна уходила на торг, волновались и прислушивались, а слыша её издалека, каждый, как умел, готовился встречать.
Матрёна была вдовой погибшего в недавнем морском походе под Тамань казака – который, редкое дело, носил прозвище по своей бабе – Говорухин. Был он к тому же приёмух – так называли казаков, живших в курене своей жены. Дом Матрёне достался в наследство от покойного отца, который тоже казаковал.
Мальчик Матрёнин – Яков – не в пример матери, был тих как ягнёнок. В глаза едва взглядывал, играл один в тихие свои игры, пропадал на птичьем дворе, где подолгу, недвижим, сидел меж привыкших к нему цыплят.
К матери обращался еле слышным шёпотом: «Матушка-а…», – и когда она отзывалась – «…что, мой Якушка?», – продолжал ещё глуше. Словно отобравшая у сына всю силу голоса, речь Якова Матрёна легко разгадывала по губам.
Степан ощущал к нему почти жалость.
Иван Якова будто не видел.
Любую вещицу – отцовскую либо свою, и тем более покойной матери, – если она оказывалась у Якова в руках, Иван не отнимал, а просто, походя, брал и уносил, ничего не поясняя.
Вскоре Степан поймал себя на том, что ему нравится, как Яков зовёт: «Матушка-а…». Никогда до сих пор это слово не звучало так ласково под их крышей.
Голос Якова вовсе не напоминал про отсутствие матери, но, напротив, делал для Степана мать словно бы ближе.
Однажды, в невольное подражание Якову, Степан тоже назвал Матрёну «матушкой». Та откликнулась настолько сердечно и просто, что днём позже Степан назвал её «матушкой» снова; и так попривык.
Яков, в свою очередь, наученный Матрёной, стал называть Тимофея «татой».
Иван, впервые заслышав такое обращенье Степана к мачехе, оглядел всех, будто сговорившихся поиздеваться над ним.
В другой раз, послушав тёплый разговор Степана с Матрёной, Иван вдруг спросил недобрым шёпотом у брата:
– Ты, случаем, не хвор?
Степан поднял на Ивана взгляд – и понял, что тот спрашивает о какой-то особой болезни, вовсе не той, когда текут сопли и гудит голова.
Матрёну Иван не признавал совсем, и не то что матерью, а даже и по имени старался не называть, только «тыкал»: «…ты, батька сказал принесть верёвку ему…».
Матрёна безуспешно старалась к Ивану подластиться, и совсем не отчаивалась о том, что толку пока не было.
Постница и молитвенница, Матрёна всегда оставалась по-хорошему пышна телом и розова лицом. Когда по утрам она молилась с Яковом, Степан вставал с ними вместе, а Иван, наскоро перекрестившись и пробубнив неразборчивую молитву, притворялся, что ему батя с ночи приказал что-то насущное, и сбегал.
Матрёна всё поспевала. В горнице неизменно были намыты стены и окна.
Добрых куреней с хозяйством в Черкасске было совсем немного, с дюжину, но Тимофеев двор заботами Матрёны стоял немногим скромней самых богатых домов.
При Матрёне, её трудами, Иван со Степаном впервые отведали мясного борща с намешанной в нём кашей.
Всякая напасть, пока в доме была Матрёна, таковой не казалась. Если не имелось возможности затопить печь или развести костёр, Матрёна, как редкий казак, умела вскипятить воду даже в деревянной плошке, кидая туда угли, – разговаривая при том и с углями, и с плошкой, и с водой, – и заодно с Иваном, в кои-то веки заинтересовавшимся тем, что затеяла мачеха.
Ковры она била с такой страстью, словно выгоняла дух покойной султанки.
В праздничные дни ярко раскрашивала щёки, наряжалась в цветное.
Умела делать всякое малое дело как самое важное, что является едва ли не главной женской добродетелью.
Вокруг мужа ходила плавными, медленными, как медовое течение, кругами. Вечером ловко стягивала с него ичиги – сапоги без каблуков, – уговаривая Тимофея выстроить летнюю кухню, а крышу куреня покрыть дранкой.
Так вскоре и сделали.
Завели двух коров и бугая. Скотина их была сыта и чиста.
У них был гнедой конь Ворон и рыжий пёс Вор. На плетнях сушились половички, кувшины, лапти, рыболовные сети, и всегда висела – от сглаза – подкова.
Земляные полы на летней кухне Матрёна застилала чабрецом.
На следующий год Матрёна высадила горох, капусту, лук, чеснок, а рядом с домом – дикую грушу.
Под окнами разлохматились цветы.
Иван нет-нет, да и сносил палкой самому большому из цветов башку.
Появился работник – крымский татарин лет пятидесяти, перекупленный Тимофеем у Корнилы. Обращённого в рабство, его никто не стерёг: он мог бы сбежать, но не бежал. Татарин обвыкся на Дону и, кажется, уже не слишком вспоминал про оставленную жизнь. Там он был беден и унижен, а здесь будто и вовсе отсутствовал – и так жить оказалось проще.
Татарин был круглолиц, улыбчив, ходил, по-медвежьи переваливаясь, и если надо было спешить – не бежал, а только скорей переваливался. Тимофею и его сынам неизменно улыбался – но не губами, а как-то всей головой сразу: лбом, ушами, скулами, глазами – наподобие собаки или коня.
Степан гуторил с ним только по-татарски.
Но однажды Степан, глядя, как татарин чистит уздечки, спросил, есть ли у него дети, – и тот вдруг ответил по-русски, словно тем самым отдаляя от себя своё прошлое:
– Два, – сказал татарин; подумал, словно вспоминая, и добавил: – Сын и сын. Как ты с Иваном.
– Не скучаешь за ними? – спросил Степан.
Ещё подумав, татарин беспечно ответил, валяя, как слипшиеся леденцы, чужие слова во рту:
– Пущай растут.
Вообще же он мало и плохо говорил по-русски.
На всякое отцовское указание отвечал: «а-люб-ба!», а от Матрёны, всегда имевшей для него работу, старался спрятаться.
Степан подыгрывал татарину.
– Стёпушка, сыночек! – звала Матрёна. – Не видел турка нашего?
– Нет, матушка…
Яков в это же время, подняв голову, переводил удивлённый взгляд со Степана на татарина, сидящего за коновязью.
Звали его Мевлюд.
Степан выспрашивал у татарина имена вещей, сравнивая с теми, что называла мать.
Так, понемногу, догадался он, что полонённая у таврийских берегов мать явилась туда из земли Османской, где, должно быть, выросла.
В Черкасске имелась Татарская станица. Там селились показачившиеся крымские татары и ногаи. Мевлюд часто дотуда хаживал, и Степан тоже.
Татары никуда не спешили и могли сидеть часами у своих домов или на крышах. Татары были щедры. У татар росли самые вкусные персики.
Другой станицей была Прибыловская: там, ещё с азовского похода, селились сечевики. Ходил Степан и до них.
Заселившись на Дону, те больше не брили голов, не растили оселедцев, зато помнили и спевали свои чудные песни.
Средь сечевиков имелись в той станице крещёный жид, три ляха, молдаванин, грек и два сербских брата-лиходея из юнаков.
Крёстному Корниле, сыну русской полонянки, был родным язык горных адыгов. Он делился с крестником, когда тот просил, наречием рода. Удивлялся без улыбки и похвальбы:
– Пытлив крестник.
На черкасском базаре торговали ясырём. Ногайский, кизилбашский, трухменский, жидовский, греческий, крымский ясырь брали чаще всего русские купцы.
Если явившиеся к Черкасску с Османии, или с Таврии, или с Персии отцы, братья или мужья готовы были взять на окуп утерянную родню, ясырь везли на Обменный яр.
Дюжину-другую турских и татарских, кизилбашских и черкесских слов помнил всякий казак. Многие сечевики понимали речь ляхов. Иные оказачившиеся татары знали язык арабов, именуемых у казаков агарянами. Порой агарянами звали всех поганых.
Степан понемногу догадался, что различать чужую человечью речь – то же, что понимать голоса птиц, повадки рыбы, след и зов зверя. Постигший голос недруга – прозорливей в своей охоте на него.
Явилась волнующая забава: проходя базар, Степан умел расслышать, о чём говорят меж собой торговцы, дошедшие из туретчины, с Черкесии, с Посполитной Литвы, с Валахии, с Венгрии. Слушал гостей эллинских, венецианских. И халдейскую речь желал распознать, и армянскую.
Взял за привычку объясняться с живущим при богатых казацких домах ясырём на их наречиях.
Говорил бы и с ясырками, да был зелен для того.
II
В проходе, теснясь, топотало непривычно много ног.
«Чалматые… снова за мной, Господи Исусе…» – догадался Степан, быстро перекрестился и поцеловал крест.
…в оконном проёме мелькнула птица – ласточка или стриж: в первый раз заметил; до сего дня только паденья летучих мышей примечал лунными ночами…
Звякнула цепь. Дверь взметнула солому на полу. Степан усмехнулся в бороду: Абид с молдаванином тащили носилки. С ними взошли двое не виданных им здесь прежде воинских людей – из янычар.
Оба – усаты и безбороды, в шитом золотом платье, в белых шалях. Бритые лица их давно выгорели. У одного через всю щёку шёл тонкий шрам – не сабельный, а кинжальный. Он держал руку на поясе; за поясом – два пистоля. На левой руке не хватало мизинца.
Возраст обоих был, как и у Степана: давно за двадцать, но ещё до тридцати годов.
Один был черняв, узколиц – должно, из черкес. Второй же – тот, что со шрамом и без мизинца, – тёмно-рус, с глазами, ещё хранившими голубизну; походил на русака.
– Погуляем, братенька? – подтвердил он Степановы догадки.
Молдаванин положил носилки возле Степана.
– Садись в каючок, поедем посуху, как по волне! – добавил словоохотливый янычар; речь его поистёрлась, приобретя татарскую торопливость и скороговорчивость.
Степан завалился на носилки.
Абидка на сей раз не хорохорился, а тут же взял носилки спереди; молдаванин – позади, и понесли.
…от фонтана пахну́ло чистой сыростью.
…стража, любопытствуя, следила, как несут Степана.
– Дожидают уже нас, – негромко пояснял янычар, идя рядом с носилками. – Муж знатен. Зла не будет тебе, когда сам не захочешь. Добром же премного сумеет одарить… Меня ж звать – Минькой… Н-но, поспешай! – и ткнул нагайкой Абидку, сделав то для Степана: смотри, земелюшка, кто кого тут может понукать: так вот бывает, а не наоборот, ежели умом жить.
Ворота были открыты. Степан увидел, как, скрипя, мимо тюрьмы проехала арба, запряжённая старым, притворявшимся глухим буйволом, на которого без злобы ругался татарский погонщик.
В сей раз была другая комната – с выходом на галерею.
На маленьком столике благоухало огромное блюдо со шкворчащими, только что с огня, ломтями камбалы.
Тут же кухонные служки внесли другое блюдо – с яичницей на дюжину яиц, а к ней горячие лепёшки и длинную, в половину стола, доску с нарезанным овечьим сыром.
– Посижу с тобой, Стёпка… – добродушно сказал Минька, поднимая стоявшие на полу кувшины и принюхиваясь. – Вот хмельное… Согрешу, пожалуй… – не спрашивая, будет ли Степан, налил и себе, и ему мутной жидкости, в которой, не пригубив, возможно было угадать кислый, холодный вкус.
Вытянув сломанную, в крепежах, ногу, Степан сидел подле столика.
Минька кивнул Абиду, чтоб тот придвинул Степану для удобства подушки, и, едва тот исполнил веленное, приказал выйти.
От запаха рыбы и приправ у Степана кружилась голова. Рот наполнился тягучей слюной.
Перекрестившись на пустой, белёный, чистый, без паутины, угол, он тут же, не ожидая приглашенья и не глядя на янычара, начал есть.
…Степан и так его рассмотрел. Не растерявшее смазливости лицо. Улыбка блудливая. Слишком белые, как у молодой собаки, зубы, хоть и не все. Подсохшие на многих ветрах губы, едва янычар пригубил вина, стали яркими, как у девки.
В спокойных движениях его рук и в самой посадке головы угадывалась жестокая сила.
Некоторое время Минька, кривя мокрые губы в лёгкой ухмылке, молчал, позволяя Степану насытиться.
Степан ел неспешно, но без остановки, впрок, помалу запивая вином, чтоб не охмелеть. Заранее решил, что, коли не погонят, съест оба блюда, потому не слишком хотел, чтоб разговор начался раньше времени.
– Лях наплёл, что ты и петь горазд на ляшском, – сказал Минька так, словно продолжал давно ведомый разговор.
Степан повёл плечами: мало ли чего скажет тот лях. Не перестав жевать, коротко глянул на Миньку и потянулся за рушником. Минька двинул рушник ему навстречу.
– И сербскую речь ведаешь, бают о тебе. И турскую, и ногайскую. Когда ж поспел? – спросил Минька, показывая до противности сияющие зубы.
– …говорят – слухаю, – ответил Степан, глотая. – Ежли не ушами слушаешь, а макушкой, – всё само открывается.
– А иной раз и речь ведаешь – а слушаешь и ништо не разумеешь, – ответил Минька и беззвучно засмеялся.
Степан смеха не поддержал, а, зацепив трепещущий желток, потянул в рот, приглядывая сощуренным глазом и за рыбой.
– Столь постиг, а ногаи тебя обхитрили, Стёпка, да? – будто даже выказывая сочувствие, выспрашивал Минька. – Аманаты бесстыжие… А ежли иначе рассудить: кабы не поломали тебя так, могли б и на галеры уже запродать… А то и умучать лютой казнью. А не лекарей к тебе водить… – Минька искал взгляд Степана. – Отчего ж так, догадался?
– Допрежь не открыл никто.
– А вот и открою тебе!.. – Минька взял веточку укропа и сунул, как травину, в зубы.
Сжимал, едва пожёвывая. Затягивал понемногу, как лис рыбку.
Сказки своей так и не начал, а вместо того спросил:
– Нагулял зипунов? Крепко живёшь?
– Казаку не пристало жить богато.
– Сколь раз ходил до крымчаков? Много ль людишек крымских побил?
– Сколько перстов надо загнуть, чтоб «много» началось? – спросил Степан, перестав жевать. – …Да и чего их бить? Бьют, ежли они сами бьются.
Минька коротко вдохнул через нос, и нежданно сменил разговор:
– Ведаешь ли, Стёпка, сколь руси зажилось в Таврии? Боле, чем татар, отвечу. И здесь, в Азаке, – немногим менее. Сечевиков-черкасов – длинная улица. И ваши донские казаки есть тож. И не в рабстве живут. Оттого, что здесь всякого раба спустя шесть лет на волю отпускают, и землицей его одаривают. Ведаешь ведь, не скрой от меня? А слыхал ли, что русских со всех украин – и московских, и посполитных – в Таврии живёт даже и поболе, чем казачков с их казачками на Дону?.. Иной раз, Стёпка, иду к дружочкам и побратимам своим – а руськие всё люди, и так мыслю: худо ли разве, что обжились тут сродники наши? Худо ли, что землицей наделили их, обжениться дали позволенье? И чад растят тут, и чадам тем землица та стала своя: кормит их. Жена-то моя скажу откель. С воронежского посада… Дон жёнку пригнал, я и споймал! – Минька сожмурил улыбку. – И сынков трое народила, – похвастался.
– Как звать? – быстро спросил Степан.
Минька скривился, будто его укололи в ладонь…
Совладав с собой, растянул в улыбке мягкие губы.
– Именами, – ответил.
Янычар Минька обасурманился – принял магометянство. Стал он – потурнак, иначе б не попал в янычары. Новое имя его было иным.
Минька начал подъедать остывшую яишню, и помногу запивать вином, подливая в свою чашку, а Степану уже нет, ставя кувшин к себе ближе. Кому надо – дотянется.
Доели молча, и только тогда Минька, утираясь скомканным рушником, предупредил:
– Слушай, Стёпка. Беседу с тобой будет вести тот, кому мы не ровня. Имя хозяина – Зульфикар. Поразмысли про то, что скажу тебе, – Минька выпрямился и снова отёр, но уже рукою, рот. – Всемилостивейший наградил тебя, не погубив. Пророк Иса присматривал за тобой все прежние годы. Разума твоего на трёх думных дьяков хватило б. Да в тот позорный день, когда ты едва не потерял живот свой, всё поменялось для тебя. Угодники твои не властны над тобою боле. Отчего ж дни твои всё ещё не кончаются, иншалла? – Минька провёл рукой по лицу, неотрывно глядя на Степана. – Длятся твои дни оттого, что есть силы более великие, чем пророк Иса. Имя ему – Аллах, да ниспошлёт он нам исполнение всех чаяний.
Откинувшись назад, Минька с пристрастием оглядывал Степана.
Будто ничего из сказанного янычаром он и не слышал, Степан сказал:
– Спаси Бог за хлеб-соль, Минька, – и во второй раз перекрестился, глядя словно бы слепыми глазами на чистый угол.
Минька вздохнул.
Распахнулся войлочный полог.
– Успенский пост нынче, последний день, – иным уже голосом говорил Минька, не глядя, тыльной стороной руки сдвигая блюда в растопыренные поспешные руки забежавшего служки, – …постился?
– Отмолю у пророка Исы, – ответил Степан. – Сам дневной намаз не пропустил?
Минька весело сморгнул: «…вот же ты собака, Степан», – означало его выраженье.
– Малой! – остановил белобрысого служку Минька.
Тот, обернувшись, склонился.
– Как звать?
– Петька, холопишка я… – глаз не поднимая, ответил тот в сальное блюдо из-под рыбы.
– Где полонили?
– Под Валуйками, в сю весну, в мае.
– Тебе ведь баяли: пойдёшь в магометянство – волю дадут?
– Так, батюшка.
– А всё отчего? Мы ж не христьяне лукавые. Тут мусульман в рабы не обращают. И всяк поверивший в Аллаха, потрудившись на хозяина в работниках, обретает вольный хлебушек свой. Ведаешь о том?
– Ведаю, батюшка, – выдохнул служка, часто моргая и глядя затравленно.
– Иди, Петро, – велел Минька, и, едва тот пропал за войлочным пологом, закончил: – Послушаешь моего хозяина – будет тебе жёнка здесь. Такие жёнки водятся тут – со всей Московии повымели! Я б каждый месяц на новой женился, когда б своей так не дорожил… И служку дадим тебе, вот мальца Петра и возьми, – и тут же, хитро скосившись, негромко добавил: – А то попортят агаряне. Им тут иной раз – всё едино: что девка, что малец, что овца.
Взгляд Миньки при том был весел и поган.
III
Взятых в полон языков пытали по весне на кругу.
Весна всегда была крикливой.
Грохотала вода; свиристели, щебетали, клоцали, каркали, перекрикивая друг друга, птицы; ржали кони, перелаивались собаки; бякаили овцы; ревела рогатая скотина.
«Целый адат!» – говорили про такое.
Гудели, двигая сизыми кадыками, собравшиеся в круг заспанные, осунувшиеся за зиму казаки, споря, как идти за добычей: конными на ногаев, или морем Сурожским по брегам Тавриды, а то и дальше, в Туретчину; или вверх по Дону, а потом вниз по Волге – на Хвалынь; и кому доверить атаманскую власть в походе.
В то время жгли огонь прямо здесь же; дым срывался в сторону, закручивался волчком, вдруг успокаивался и стелился в ноги.
Приходило время расспроса и человеческой муки.
Те, кому выпало попасться казакам, надрывались на своём языке, вспоминая то слово, которое избавило бы их от творимого над ними.
Привлечённые суетой, прибредали куры; собаки, напротив, держались поодаль, но чтоб не потерять запах; козы отбегали и блеяли так, будто дразнили пытаемого.
Палачей казаки не имели, но всегда находились умельцы работать с щипцами, с длинным, трёхжильным кнутом, а то и просто с топором, которым бережно кромсали человека, не давая ему омертветь раньше срока.
Иногда мучимый захлёбывался воплем и сознание оставляло его. Тогда пленника отливали из стоявшей здесь же кадки, или ж тёрли щёки и уши ещё лежавшим кое-где снегом. В том виделась своя забота и почти ласка.
Звали из забытья, как дитя, – и радовались, когда пленник открывал глаза.
Возвратив к жизни, продолжали искать в человеке правды, пробуя то здесь, то там. Правда могла таиться в перстах, в ухе, в глазном яблоке. Она почти всегда раскрывалась и выпархивала.
Казаки не услаждались обыденным для них зрелищем пытки, а то и не глядели на неё вовсе, – и лишь внимательно вслушивались в ответы, нетерпеливо перетаптываясь. Никто не скалил зубы и не смеялся.
Атаман выспрашивал, что затевается в городе Азове, или Аздаке; что у ногайских мурз на уме; каким шляхом пойдут ногаи и крымские татаровя на украйны руськие и посполитные литовские; собираются ли иные поганые приступать на казачьи городки.
Выведав всё, человека забывали в грязи.
Добро, если он к тому времени уже захлебнулся собственной мукой – тогда дух его нёсся прочь, стремительный, как ласточка.
Но иной раз калека ещё дышал. Казачьи рабы, ногайцы и татаровя, кидали калечного в повозку и везли к Дону, где, засунув в мешок с камнями, протыкали пикою и, под присмотром младых казачков, топили.
К месту пытки сбегались собаки и казачата. Собаки нюхали и лизали. Казацкие подростки копошились, взвешивая в ладонях отяжелевший кровью песок.
…в тот раз казаки затоптали в грязь железный штырь – и Степан нашёл его первым.
На штырь, ещё тёплый в руке, была намотана латка человеческой кожи и клок чёрных, с кудринкой, волос.
Пленник поведал: османский султан собирает воинство неслыханное – возвращать под руку свою уворованный казаками Азов-город.
…в ночи трепетали огромные зарницы.
Выхватывали непомерные пространства – в такую вышину, до какой ни один пожар не достиг бы. Будто кто-то над всей землёю вздымал багровые паруса.
Расползался по всей ночной степи величайший скрип. Словно саму землю, загрузив, тянули прочь с её места в преисподние котлы, а впряжена была саранча, скрипевшая острыми, несмазанными коленями.
Черкасские люди стояли на валах, глядели в бурлящую, как в казане, ночь.
Никто никогда на Дону подобного не видал, не слыхивал.
Птицы летели над городком в московскую сторону, оставляя свои гнездовья.
Поп Куприян, проходя по валам и кропя стены, молил Господа о спасении. Голос его то затихал, то вновь обретал силу.
В редких факельных огнях сам Черкасский городок лежал, как слабый морок.
Пламя выхватывало то конский круп, то крышу куреня, то слабый мосток и червчатую воду под ним, то одинокую казачку, ставшую посреди дороги, как врытая.
…на са́мом рассвете, когда показались застывшие по колено в дымке редкие ивы и вербы, и откатилась вдаль степь, – выехали из тумана дозорные черкасские казаки. Одежды их были волглыми от росы.
– Тьма их, браты-казаки! – кричал, надрываясь, дозорный; глаза его до сих пор хранили отсвет ужасных людских множеств. – Вода поднялась в Дону от кораблей их, от галер их и бус, и лодок, и ладей! Сколько трав в лугу – столько парусов под Азовом возможно узреть! А людишек их – со сто тысяч! Со всего свету, должно, свёз султан османский поганых!..
Матрёну качнуло, как в обмороке.
На всю жизнь казацкую обвалилась неприподъёмная тень.
…с того дня Матрёна постилась не только в среду и пятницу, но и в иноческий постный день – понедельник.
В последнюю седмицу июня принесли весть: поползли чалматые на стены, началась лютая брань.
– Тысячи труб воют, тысячи барабанов стучат! От грохота того рыба всплывает кверху брюхами! Птица гибнет посреди неба! – кричал вестовой, проносясь по городку. – Помилуй нас, Богородица!
Матрёна упала к иконам, загнав губы в рот, чтоб не завыть. Перетерпев крик, начала молиться. И Степан, и Якушка, и даже Иван стали в рядок, целой грядкой. Голоса их совпадали в каждом слове, как сшитые.
…на день другой казачья разведка приспела с радостью.
Первый приступ отбит: выстояли казаки.
Рабы турские, средь которых великое число отуреченных христьян словенских языков, роют огромный, в полёт стрелы длиной ров.
И ров тот наполняют нагими своими мертвяками, как рыбой.
…и потянулась тетива ожиданья на многие дни.
Ночами выли собаки, чуявшие недоступное человекам.
Матрёна исхудала.
Малолетки не уходили с валов. Чалматые могли заявиться и сюда – и тогда идти на рать и старикам, и бабам.
Дожидались в ночи, чтоб вышло к берегу мёртвое казачье воинство, и стало бы, сияя пустыми лицами, на страх поганым. Да, видно, огромные зарницы и дальний рёв труб даже призраков распугали.
К началу Успенского поста турки насы́пали у крепостных азовских стен огромные земляные горы. Затащили на горы те множество пушек. Начали оттуда непрестанный обстрел.
…в один день принесли весть о том, что на одной азовской башне стоит уже поганое знамя магометянское.
…в другой же день весть, что казаки ту тряпку сорвали и пожгли.
…в третий Черкасск ликовал: к сидящим в осаде пробилась в ломовой рати ещё в тысячу числом подмога – явившиеся со своих Запорогов хохлачи да казаки донских верховых городков.
Степан всё пытался размыслить: где там отец, как он там, на азовской скворчащей сковороде, за дымящимися стенами, куда летят, и летят, и летят, чевыкая о камни, мушиные тьмы пуль? Возможно ли уберечься и не сгибнуть, обретаясь средь ядер, как среди обвального града? Спят ли, смеются ли, плачут ли там? Какие святые раскрыли оберегающие длани над ними?..
Казак, бывший на пяти поисках и в пяти осадах, считался навек везучим; у деда Лариона тех осад, поисков и браней – было что зубов у собаки.
В те недели дед Ларион стал не по годам прыток: завидев на дороге следы его посоха, Степан непременно деда отыскивал.
Завидев Лариона, как воробьи слетались казачьи чада; он говорил.
– …как, ребятушки, наши казаки пережидают обстрел с земляных валов. Нарыли в земле земляных изб, покрыли их брёвнами – и там сидят, пьют-едят. А едва турки соберутся итти на стены – казаки наши из-под земли лезут непобитые, – дед Черноярец смеялся.
Он сидел в пустой базарной лавке – все купцы давно поразбежались. Вокруг ещё тлели запахи масел и сладостей. Малолетки в длинном свете заходящего солнца, повернувшись, как цветы, в одну сторону, внимали деду.
– …поганые же – рыли подкопы к Азову-городу. На стены дабы не лезть им, а объявиться посередь города, – продолжал дед, вдруг обрывая и сглатывая смех. – Наши ж казаки-атаманы, про то прознав, разгадали загадку поганых! И запустили в подкоп, поганым навстречу, воду. И смыло у поганых чрез то дело – половину табора их! И утёк табор с добром в реку. И горы, ими насыпанные, той водой подмыло. И с гор тех покатились вниз пушки басурманские, и подавили магометян – как медведь малины! А те ж горы, что устояли, казаки подорвали, – и дед снова беззвучно смеялся; стариковская голова подпрыгивала на мусклятой, но жилистой шее. – А утрось на семнадцатый уже подкоп с турской стороны казаки-атаманы задумали иной ответ. До самого нонешнего дня не открывались они, что ведают о подкопе. А сами же встречь подкопу заложили превеликий заряд пороховой. И едва поганые, собрав людишек многих, пошли тем подкопом имать азовский город, казаки и подорвали заряд! И разлетелись чалмы на три версты вокруг!
Чада казачьи, раскрыв щербатые рты, онемели.
– А вы молитеся, – заключал дед Ларион, зло втыкая посох в землю и с кряком вставая. – Выпадет – и помрём, и стар, и млад, за святыя Божией церкви, и за истинную нашу православную христианскую веру. А коли Бог даст и Пречистая Матерь пособит, так и устоим от нехристей, – дед осенял себя крестом, кланяясь на раскалённый закат. – …казакам холодов дождаться б. Подойдут снеги – басурманы сами в турску землю поспешат…
Матрёна пуще прежнего стала ласковей к Тимофеевым сыновьям, но даже Иван с происходящим мирился, оттого, что догадался: то не им, а отцу.
Яков же для Матрёны будто и вовсе начал расти в обратную сторону: он едва выпутывался из материнских рук.
Матрёна теперь мало смотрела за своими цветами, наскоро прибиралась в курене, ругалась на скотину, зато по семь раз за день бегала к войсковой избе.
То здесь, то там упорно прорастали слухи о великом московском воинстве, идущем по Дону. Де, видели уж дозорные государевы лодки у верховых городков, а за ними такой караван следует, что волна на три версты впереди бежит… И волной той выкатит в море всех магометян с-под Азова.
Каждого дошедшего до Черкасска гулящего человека с руських украин выспрашивали про московское войско. А когда те разводили руками и признавались, что по пути никого не видали, на них серчали так, что едва не колотили.