Текст книги "Господин Когито и другие"
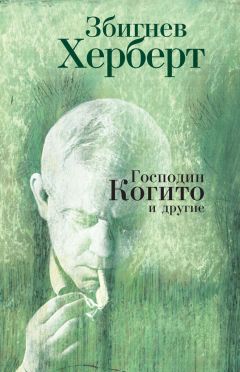
Автор книги: Збигнев Херберт
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Стихотворения
Из книги «Струна света»
(1956)
* * *Красная туча
Женщины на нашей улице[1]1
Цикл «Три стихотворения по памяти» был послан писателю Ежи Завейскому в октябре 1950; стихотворение «Женщины с нашей улицы…», третье в цикле, в той рукописи имело посвящение: «Городу».
[Закрыть]
были будничные и добрые
терпеливо тащили с базара
большой букет овощей
Дети на нашей улице
вечно мучали кошек
Голуби —
серенькие и кроткие
в парке был памятник Поэту
дети гоняли обручи
и разноцветный крик
птицы садились на руки
читали его молчанье
летними вечерами
жены привычно ждали
теплых табачных губ
Женщины не умели детям
сказать: вернется ли
и на закате города
гасили огонь руками
прикрывающими глаза
детям на нашей улице
смерть досталась тяжелая
голуби падали так легко
как подстреленный воздух
уста Поэта
стали пустым горизонтом
птицы дети и жены не могут жить
в черепках разбитого города
на холодной постели пепла
город стоит над водой
гладкой как память зеркала
он отражается от самого дна
и улетает к высокой звезде
где запах пожара такой далекий
как Илиада
Надпись[2]2
Красная туча пыли —
память о том пожаре
когда закатился город
за горизонт земли
нужно разрушить
еще одну вот эту стену
еще один кирпичный хорал
чтобы открытая рана
между взглядом и воспоминаньем
зарубцевалась
рабочие те что утром
кофе пьют с молоком шелестят газетой
отогрели дыханием рассвет и дождь
коченевший так долго в умершем воздухе
стальным канатом
напряженным молчаньем
подымают как флаг
освобожденное от руин пространство
опадает красная туча пыли
перелет через пустыню
на высоте уничтоженных этажей
выплыли окна без рам
когда падет
последняя вертикаль
рухнет кирпичный хорал
и поднимется из руин мечта
о городе который здесь был
о городе который здесь будет
которого нет
Стихотворение послано в письме к Ежи Завейскому в октябре 1949; в 1950 публиковалось в периодике.
[Закрыть]
Мой отец[3]3
Смотришь на мои руки
слабые – говоришь – как цветы
смотришь на мои губы
им не под силу словом объять мир
– покачаемся лучше на стебельке мгновенья
упьемся ветром
посмотрим как заходят наши глаза
запах увяданья прекрасней всего на свете
очертанья руин смягчают боль
во мне огонь который мыслит
ветер который полнит парус
руки мои нетерпеливы
могут
голову друга
изваять из воздуха
твержу я стих который хотел бы
перевести на санскрит
или на пирамиду:
когда источник звезд иссякнет
мы осветим собою ночь
когда окаменеет ветер
мы приведем в движенье воздух
Стихотворение послано было в письме к Хенрику Эльзенбергу в июле 1952, в 1954 публиковалось среди нескольких других в альманахе молодых поэтов. Образ отца мифологизирован.
[Закрыть]
Из цикла «О Трое»
Отец мой был поклонник Франса
курил Отменный Македонский
и в синем дыме колыхался
смакуя шик усмешки тонкой
и я в далекие те годы
отца склоненного над книгой
считал Синдбадом Мореходом
которому порой тоскливо
Бывало на ковре волшебном
он улетал от домочадцев
По атласам бежали вслед мы
он исчезал Но возвращался
в туфлях домашних снова здешний
ключами вновь звенел в кармане
жизнь шла но шла без изменений
капля по капле дни за днями
однажды занавески сняли
он сквозь окно и не вернулся
грустил ли расставаясь с нами
а может и не обернулся
в одном журнале иностранном
я видел снимок остров дальний
у них отец мой губернатор
либерализм у них и пальмы
К Марку Аврелию
Шли по ущельям бывших улиц
шли красным морем пепелищ
и как закатом красной пылью
был озарен погибший город
Шли по ущельям бывших улиц
рассвет своим дыханьем грели
и говорили что нескоро
подымется здесь первый дом
Шли по ущельям бывших улиц
надеялись найти хоть след
Поет гармошка
инвалида
об ивах
и о чьих-то милых
Поэт безмолвен
Дождь
Профессору Хенрику Эльзенбергу[4]4
Это стихотворение Херберт послал Эльзенбергу в письме от 16.12.1951. Профессора Эльзенберга (1887–1967), преподававшего после войны в университете в Торуне, Херберт избрал своим наставником в философии. Марку Аврелию была посвящена докторская диссертация Эльзенберга (1921) и книга «Марк Аврелий. Из истории и психологии этики», вышедшая в 1922, экземпляр этой книги сохранился в библиотеке Херберта с его пометками.
[Закрыть]
Марк доброй ночи свет гаси
книгу закрой Над головою
звезд яркий клич звучит в ночи
то речью говорит чужою
небо то варваров сигнал
коего нет в твоей латыни
то темный страх как темный вал
о хрупкие брега людские
бьет Он всесилен Слышишь гул
прилива Смоет твои буквы
стихий неудержимый бунт
и рухнет мира остов хрупкий
что ж нам – дрожать ли на ветру
и снова дуть в погасший пепел
грызть пальцы тщетных слов ища
тащить с собою павших тени
уж лучше Марк покой пошли
руку подай над мраком косным
в утлую лиру чувств пяти
слепой бьет неустанно космос
предаст нас космос астрономия
порядок звезд и мудрость трав
твое величие огромное
и мой о Марк бессильный плач
Варшавское кладбище
Завещание
Этой стены
последнего что они видели
нет
известь на домы и гробы
известь на память
последнее эхо залпа
затвердело в каменные плиты
краткая надпись
выбита спокойной антиквой
перед нашествием живых
умершие уходят глубже
ниже
ночам жалуются в гулких трубах
выходят осторожно
капля по капле
и вспыхивают еще раз
чуть только чиркнет спичка
а снаружи тихо спокойно
камни известь на память
на углу аллеи живых
и улицы новый свет
под надменно стучащими каблуками
взбухает как кротовина
кладбище тех которые просят
холмика мягкой земли
хоть какого-то знака снаружи
Фрагмент древнегреческой вазы
Завещаю четырем стихиям[5]5
По-видимому, это стихотворение было толчком для стихотворения Ярослава Ивашкевича, посвященного Херберту: «Четыре стихии владеют миром…» (книга «Завтра жатва», 1963, русский перевод Н. Астафьевой см.: Ивашкевич Я. Сочинения. Т. 1. М., 1988. С. 309).
[Закрыть]
то что имел в недолгом владенье
мысль отдаю огню
пускай цветет огонь
земле которую любил чрезмерно —
бесплодное зерно моего тела
а воздуху слова и руки и стремленья
то есть лишние вещи
капля воды
то что осталось
пусть кружит между
землей небом
пусть будет дождиком прозрачным
снежинкой папоротником мороза
пускай не достигая неба
к долине слез моей земле
верность храня росой вернется
камень долбить капля за каплей
скоро верну четырем стихиям
то что имел в недолгом владенье
не возвращусь к источнику покоя
Колеблющаяся Нике
На первом плане видно
статное тело эфеба
упирающийся в грудь подбородок
подогнутое колено
рука как мертвая ветка
он закрыл глаза
отрекается даже от Эос
ее пальцы вбитые в воздух
и распущенные волосы а также
линии ее одеянья
образуют три круга скорби
он закрыл глаза
отрекается от медных доспехов
от шлема который украшен
кровью и черным плюмажем
от сломанного щита
от копья
он закрыл глаза
отрекается от всего света
в тихом воздухе свисают листья
дрожит ветвь тронутая тенью улетающих птиц
и только сверчок укрытый
в живых еще волосах Мемнона[6]6
Мемнон – сын Эос, богини зари, погиб молодым под Троей от руки Ахиллеса; по преданию, спутники Мемнона после его смерти обратились в птиц. В римские времена с именем Мемнона стали связывать две статуи в Египте (колоссы Мемнона), которые на рассвете звучали: это сын приветствовал появляющуюся на небе Эос.
[Закрыть]
убедительно возглашает
хвалу жизни
Нике прекраснее всего в тот момент
когда колеблется
правая рука прекрасная как приказ
оперлась о воздух
но крылья дрожат
потому что Нике видит
одинокого юношу
бредущего длинной колеёй
военной дороги
в серой пыли среди серого пейзажа
скал и редких кустов можжевельника
этот юноша вскоре погибнет
чаша весов на которой лежит его жребий
резко качнулась вниз
к земле
Нике страшно хотелось бы
подойти
и поцеловать его в лоб
но она боится
что юноша не успевший познать
сладость ласки
познавши ее
может быть побежит как другие
во время битвы
Нике поэтому колеблется
и решает в конце концов
остаться в позе
которой ее научили скульпторы
Нике стыдится минутного колебанья
ведь она понимает
что завтра на рассвете
должен лежать этот мальчик
с отверстой грудью
закрытыми глазами
и терпким оболом отчизны
под коченеющим языком
Арион
Вот он – Арион —
эллинский Карузо
концертмейстер античного мира
драгоценный как ожерелье
или скорее как созвездье
он поет
морским волнам и купцам заморским
тиранам и погонщикам мулов
у тиранов чернеют короны
а продавцы лепешек с луком
впервые ошибаются в счете не в свою пользу
о чем поет Арион
подлинно никому неизвестно
главное он возвращает миру гармонию
море баюкает ласково землю
огонь разговаривает с водой без злобы
лежат под сенью одного гекзаметра
волк и олень ястреб и голубь
а ребенок дремлет на гриве льва
как в колыбели
гляньте как улыбаются звери
люди готовы питаться белыми цветами
и все так славно
как было в начале
это он – Арион
драгоценный и многопевный
слушателям головы кружащий
он стоит в метели песнопений
у него восемь пальцев как октава
он поет
Лишь когда из лазури на западе
тянутся шафрановые нити
что означает приближенье ночи
Арион учтиво кивнув головою
прощается
с погонщиками мулов и тиранами
лавочниками и философами
и в порту садится
на спину прирученного дельфина
– до свиданья —
как же он прекрасен —
говорят девушки об Арионе
когда он плывет в открытое море
одинокий
увенчанный венком горизонтов
Из книги «Гермес, пес и звезда»
(1957)
У врат долины[7]7
Современность XX века переплетается в стихотворении с образом «долины Иосафата» из книги пророка Иоиля; так перевели на греческий, латынь, славянские и др. языки древнееврейское выражение, означавшее «долину, где судит Иегова». Место суда неизвестно, как и время его наступления.
[Закрыть]
Притча
После огненного ливня
на луговине пепла
под стражей ангелов столпились толпы
с уцелевшего взгорья
мы можем окинуть взором
блеющее стадо двуногих
правду сказать их немного
добавляя даже тех что придут позже
из житий святых из хроник сказок
но довольно этих рассуждений
перед нами
горло долины
из которого рвется крик
после свиста взрыва
после свиста тишины по взрыве
этот голос бьет как источник живой воды
это как нам объясняют
крик матерей от которых оторваны дети
ибо как оказалось
спасены мы будем поодиночке
ангелы-хранители беспощадны
надо признать у них тяжелая работа
она его просит
– спрячь меня в зенице ока
в ладони в объятьях
мы всегда были вместе
ты не можешь теперь меня оставить
когда я умерла и нуждаюсь в нежности
старший ангел
с улыбкой разъясняет недоразуменье
старушка тащит
трупик любимого кенаря
(все животные умерли чуть раньше)
он был такой милый – рассказывает она со слезами
все понимал
что скажешь
голос ее заглушается общим воплем
даже лесоруб
о котором трудно подумать такое
старый сгорбленный мужичище
прижимает к груди топор
– он всю жизнь был мой
и теперь тоже будет мой
он кормил меня там
прокормит тут
не имеете права – говорит он —
не отдам
те которые как кажется внешне
без боли подчинились приказам
идут опустивши головы в знак примиренья
но в стиснутых кулаках прячут
ленты пряди волос обрывки писем
и фотографии
которые как думают наивно
отобраны у них не будут
так они выглядят
за мгновенье
до того как окончательно их поделят
на тех кто скрежещет зубами
и тех кто поет псалмы
Колотушка
Поэт подражает пению птицы
вытягивает длинную шею
неуклюжий кадык
торчит как палец на крыле мелодии
поющий он искренне верит
что помогает солнцу взойти
отсюда и теплота звучания
и чистота высоких тонов
поэт подражает спящему камню
спрятавший голову в плечи
он подобен обломку скульптуры
у которой редкий и слабый пульс
спящий он уверен что только он
углубляет тайну существования
что он без помощи теологов
ухватит жаждущими устами вечность
во что превратился бы мир
если бы не наполнял его
поэт копошащийся неустанно
среди птиц и камней
Избранники звезд
У иных в голове
сады расцветают
а волосы их тропинки
к солнечным городам
этим легко писать
глаза закроют
и образы потекут
лавиной
воображенье мое
кусок доски
весь инструмент мой
простая палка
ударю в доску
она мне ответит
Да-да
нет – нет
у иных зеленый колокол дерева
голубоватый колокол воды
у меня колотушка
хоть я и не сторожу сады
ударю в доску
она мне подскажет
сухую песнь моралиста
да-да
нет – нет
Это не ангел
это поэт
нет у него крыльев
лишь правая рука
оперенная
он бьет ею в воздухе
на три вершка взлетает
и тут же падает
когда он совсем уже низко
отталкивается ногами
на миг повисает
взмахивая оперенной рукой

Меблированная комната
ах если бы оторваться
от притяженья глины
он мог бы обитать в гнезде звезд
мог бы скакать с луча на луч
мог бы —
но звезды
при одной лишь мысли
что были бы его землей
испуганные падают
поэт заслоняет глаза
оперенной рукой
не мечтает уже о полете
лишь о падении
которое чертит как молния
контур бесконечности
Дождь
В этой комнате три чемодана
чужая кровать
шкаф с унылой плесенью зеркала
дверь открою
предметы оцепенеют
и охватит знакомый запах
пот бессонница и постель
на стене картинка
изображает Везувий
с пышным плюмажем дыма
я не видел Везувия
и не верю в действующие вулканы
на другой картинке
интерьер голландского дома
в полумраке
женские руки
наклоняют кувшин
из которого струйкой течет молоко
на столе нож салфетка
хлеб рыба связка луковиц
следуя за золотым лучом
подымаемся на три ступеньки
дальше за полуоткрытой дверью
виден квадратик сада
листья дышат светом
птицы счастливы сладостью дня
ненастоящий мир
теплый как будто хлеб
и золотой как яблоко
клочья драных обоев
неприрученная мебель
бельма зеркал на стене
вот настоящие интерьеры
в комнате этой моей
в комнате трех чемоданов
день растекся по полу
влажным пятном сновиденья
О переводе стихов
Когда мой старший брат
вернулся с войны
на лбу у него была звездочка
а под звездочкой
бездна
это осколок шрапнели
попал в него
под Верденом
а может быть под Грюнвальдом
(подробностей он не помнил)
говорил он много
многими языками
но больше всего любил
язык истории
он все пытался поднять
павших товарищей
Феликсяка Ганнибала Роланда
он кричал
что это последний крестовый поход
что вскоре падет Карфаген
всхлипывая он признавался
что Наполеон его не любит
мы замечали
как он бледнеет
чувства его покидают
он превращался в памятник
музыкальные раковины ушей
зарастали каменным лесом
кожа лица
оказалась застегнута
невидящими сухими
пуговицами глаз
ему осталось
лишь осязанье
что за истории
рассказывал он руками
в правой были романы
в левой солдатские воспоминанья
забрали брата
и увезли его за город
он возвращается осенью
худенький тихий
не входит стучит в окошко
чтоб я к нему вышел
мы ходим по улицам
а он рассказывает
свои непридуманные истории
касаясь лица
слепыми пальцами слез
Он взгромоздился на цветке
как неуклюжий шмель
аж гнется тонкий стебель
и лепестки перелистав как будто
страницы словаря
он рвется внутрь
туда где аромат и сладость
хоть у него катар
хоть даже вкуса
не чувствует однако лезет
покуда головой
не ткнется в желтый пестик
и здесь уже конец
проникнуть трудно
сквозь чашечку цветка
до корня
шмель вылезает
чрезвычайно гордый
и всем жужжит:
я побывал внутри
а тем
кто все-таки не очень верит
он предъявляет нос
испачканный пыльцой
Розовое ухо
Эпизод
Я-то думал
что хорошо ее знаю
мы ведь столько лет уже вместе
знаю
птичью голову
белые плечи
живот
но однажды
в долгий зимний вечер
она присела рядом со мной
и при свете лампы
падающем сзади
я увидел розовое ухо
трогательный лепесток
раковина с пульсирующей внутри
кровью
я ничего тогда не сказал
а хорошо было бы написать
стих о розовом ухе
только не такой чтобы говорили
ну и тему выбрал
оригинальничает
чтобы даже никто не усмехнулся
чтобы поняли что я разглашаю
тайну
я ничего тогда не сказал
только ночью когда мы лежали рядом
деликатно пробовал
экзотический вкус
розового уха
Шелк души
Мы идем вдоль берега моря
крепко держимся за два конца
древнего диалога
– любишь меня
– люблю
нахмурив брови
я излагаю тебе всю мудрость
обоих заветов
астрологов и пророков
лицеев и академий
монастырей
а звучит это примерно так
– не плачь
– мужайся
– видишь все люди
ты надуваешь губы и говоришь
– проповедник
и разгневанная уходишь
моралистов не любят
что же скажу над берегом
маленького мертвого моря
вода заполняет
следы исчезнувших ног
Мой город[8]8
Никогда
я не говорил с ней
ни о любви
ни о смерти
лишь слепые губы
и немые прикосновенья
сближали нас
когда погрузившись друг в друга
мы лежали вместе
я должен
заглянуть в нее и увидеть
что она там носит
внутри
когда она спала
с открытым ртом
я заглянул
и что же
что же
как вы думаете
что я увидел
я думал что это будет
ветвь
я думал что это будет
птица
я думал что это будет
дом
над водным простором
вместо этого
на чистой стеклянной глади
я увидел
шелковые чулки
господи
я куплю ей эти чулки
куплю
но что появится после этого
на стеклянной глади
ее души
будет ли это вещь
которой нельзя коснуться
ни единым пальцем мечты
Херберт, всю жизнь часто писавший о родном Львове, никогда не называл его, вплоть до последней книги «Эпилог бури», вышедшей посмертно в 1998.
[Закрыть]
Песнь о барабане
Океан укладывает на дне
звезду соли
воздух дистиллирует
блестящие камни
калечная память воссоздает
план города
звезду его улиц
площадей далеких планеты
зеленые туманности парков
эмигранты в помятых фуражках
жалуются на убыль субстанции
сокровищницы с дырявым дном
роняют драгоценные камни
мне снится что я иду
из дома родителей в школу
знаю куда иду
налево лавка Пашанды
третья гимназия книжный
в окне даже вижу голову
старого Бодека
хочу свернуть к собору
но вдруг обрывается город
нет продолженья дороги
просто нельзя идти дальше
а я же отлично знаю
что тупика тут нет
память зыблется океаном
размывает рушит картины
наконец остается лишь камень
на котором меня родили
еженощный сон
я стою босой
перед захлопнутыми воротами
моего города
Субстанция
Ушли пастушьи флейты
золото труб воскресных
валторн зеленое эхо
и скрипки тоже исчезли —
лишь барабан остался
лишь барабан играет
праздничный марш траурный марш
простые чувства вторят в такт
бьет барабанщик
в барабан
едина мысль едино слово
бьет барабан взывая к бездне
несем колосья или гроб
что барабан пророчит нам
бьет в камень в шкуру мостовых
тот шаг что превратит весь мир
в единый марш единый выкрик
все люди наконец едины
все наконец шагают в ногу
телячья шкура палки две
разбили башни одиночеств
смерть не страшна когда в толпе
над шествием колонна пыли
расступится послушно море
сойдем мы в глубь пустого ада
а также в высь и убедимся
в обманности пустого неба
и так свободное от страхов
уходит шествие в песок
несомый вдаль злорадным ветром
и стихнет эхо сгинет память
строптивой плесени земли
лишь барабанит барабан
диктатор музык усмиренных
Ответ
Ни в головах притушенных острой тенью знамен
ни в груди убитых брошенных в неубранной ржи
ни в ладонях сжимающих леденящий жезл и державу
ни в сердце колокола
ни под каменными стопами собора
не вмещается все целиком
те что толкают тачку с вещами по немощеным предместьям
убегают с пожарища с кастрюлей борща в руках
те что возвращаются на руины не взывать к умершим
но откопать железную трубу для времянки
мореные голодом – любящие жизнь
битые по морде – любящие жизнь
не назовешь их цветом земли
тело
живая плазма
руки заслоняющие голову
ноги спасающие бегством
способность добывать себе пищу
способность дышать
способность рожать даже в тюремной камере
погибают лишь те
кто красивым словам больше предан чем жирной похлебке
к счастью таких немного
а народ остается
и с нагруженными мешками вернувшись на прежнее место
воздвигает триумфальную арку
павшим смертью храбрых
Край
Ночь будет и глубокий снег
тот что шаги приглушит мягко
и тень что очертанья тел
преобразит в две лужи мрака
лежим дыханье затаив
и даже легкий шорох мысли
если не выследят нас волки
и человек в огромной шубе
грозящий скорострельной смертью
надо рвануться и бежать
под залпы как аплодисменты
на тот чужой желанный берег
земля везде одна и та же
как учит мудрость люди всюду
такими же слезами плачут
качают матери детей
луна восходит
и белый дом возводит нам
ночь будет после трудной яви
конспиративная мечта
как хлеба вкус как легкость водки
но выбор оставаться здесь
лишь подтверждают сны о пальмах
сны вдруг прервет приход троих
тех из резины и железа
прочтут твой документ твой страх
прикажут выйти и спуститься
взять не позволят ничего
лишь взгляд привратника печальный
Эллада Рим Средневековье
край кватроченто край Шекспира
а Франция уж та особо
немножко Веймар и Версаль
все-все отчизны наши тащит
один хребет одной земли
но избраннейшая из всех
единственнейшая на свете
лишь здесь где втопчут тебя в землю
где заступом звенящим твердо
выроют яму для мечты
В самом углу этой старенькой карты находится край, о котором я так мечтаю. Это родина яблок, холмов и долин, медленных рек, терпкого вина и любви. Но, увы, большущий паук сплел тут свою паутину и липкой слюной преградил дорогу мечте.
Вечно что-нибудь: ангел и пламенный меч, паук со своей паутиной, совесть.
Эпизод в библиотекеСветловолосая девушка склонилась над стихотворением. Острым, как скальпель, карандашиком она переносит на белую страничку слова, превращая их в черточки, акценты, цезуры. Элегия погибшего поэта выглядит теперь, будто саламандра, объеденная муравьями.
Когда мы несли его под обстрелом, я верил, что его холодеющее тело воскреснет в слове. Теперь, когда вижу смерть слов, начинаю понимать, что нет предела распаду. После нас останутся в черной земле разбросанные отдельные слоги. Акценты над прахом и небытием.
Рай теологовАллеи, длинные аллеи, обсаженные деревьями, тщательно подстриженными, как будто в английском парке. Иногда здесь прогуливается Ангел. У него тщательно завитые локоны и крылья, шумящие латынью. В руке у него изящный инструмент, который называется силлогизмом. Ангел проходит быстро, не пошелохнув ни воздуха, ни песка. Он минует в молчании каменные символы добродетелей, чистые качества и множество иных вещей, которые совершенно невозможно представить. Он никогда не исчезает из виду, потому что здесь нет перспективы. Оркестры и хоры безмолвствуют, но присутствие музыки ощущается. Пусто. Теологи пространно рассуждают. Это тоже должно, по-видимому, служить доказательством.
КлассикОгромное деревянное ухо заткнуто ватой и цитатами Цицерона. Великолепный стилист – говорят о нем все окружающие. Никто уже теперь не умеет сочинять такие длинные фразы. К тому же, такая эрудиция. Даже камни читает. Но никогда не догадается, что прожилки мрамора в термах Диоклетиана – это лопнувшие кровеносные сосуды рабов из каменоломен.
ИмператорЖил-был император. У него были желтые глаза и хищная челюсть. Жил он во дворце, полном мрамора и полицейских. Один. Просыпался ночью и кричал. Никто его не любил. Он же больше всего любил охоту и террор. Но фотографировался с детьми среди цветов. Когда он умер, долго никто не решался снять его портрет. Посмотрите, может быть, есть еще у вас в доме его маска.
Комната смехаКачели, колесо обозрения, тир – это развлечения людей вульгарных. Утонченные интеллекты, рефлексирующие натуры предпочитают комнату смеха. Ее возвышающая и скрытая цель – подготовить нас к самому худшему. Вот в одном из зеркал она показывает нам наше тело после колесования – бесформенный мешок поломанных костей, в другом зеркале наше тело, снятое с крюка после сухой перегонки воздуха.
Посещайте комнату смеха. Посещайте комнату смеха. Это преддверье жизни, предбанник пытки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































