Текст книги "В пути"
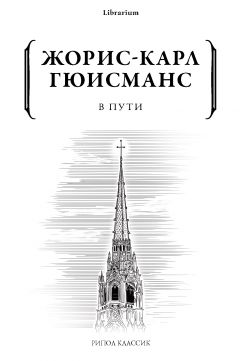
Автор книги: Жорис Гюисманс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
VI
Протекло несколько месяцев. По-прежнему жил Дюрталь в чередовании развратных дум с благочестивыми помыслами, не имея сил бороться, покорно плывя по течению.
– Как все это туманно! – яростно воскликнул он, подводя однажды итоги, бесстрастный менее обычного. – Объясните мне, что это значит, аббат? Мои религиозные порывы бледнеют всякий раз, как ослабевает моя похоть.
– Это означает, что ваш противник раскинул вам свои сокровеннейшие сети, – ответил священник. – Он стремится внушить вам, что вы ничего не достигнете, не погрузившись в бесстыднейшее распутство, старается убедить вас, что к Господу ничто не может привести вас, кроме пресыщенного отвращения к утехам сладострастия. Он подстрекает вас предаться им, чтобы тем ускорить свое освобождение. Под предлогом охраны от греха, он вас вводит в него. Будьте тверже, пренебрегите этими софизмами, отвергните его.
Дюрталь навещал аббата Жеврезе каждую неделю. Любил терпеливую сдержанность старого священника, который беседовал с ним, когда он ощущал потребность высказаться, бережно выслушивал, не выказывая никакого изумления пред его неумолчными приступами плоти и падениями. Аббат ограничивался лишь всегдашним повторением первых своих советов, настаивал, чтобы Дюрталь правильно молился и по возможности ежедневно посещал церковь. Раз он даже прибавил: «Для успешного действия этих средств далеко не безразличен час. Если хотите, чтобы церкви помогли вам, вставайте на заре, ходите к ранней обедне, к обедне служанок, и не забывайте почаще посещать святыни, когда истекает ночь».
Очевидно, священник составил определенный план, вполне еще не разгаданный Дюрталем, который не мог не заметить, однако, как осторожно влияют на него и исподволь очищают душу этот режим самообуздания и этот неумолчный призыв к Богу его помыслов, создаваемый ежедневным посещением церквей? Достаточно уже того, что он, не находивший раньше в себе по утрам молитвенного настроения, теперь молился, пробудившись. Выпадали дни, когда даже в полдень его охватывала потребность беседовать уничиженно с Богом, неудержимое стремление просить прощения Господа, молить о помощи.
Казалось, Господь мягкими перстами стучится в его душу, едва лишь хочет привлечь его внимание, напомнить о Себе. Но, растроганный и умиленный, Дюрталь пытался углубиться в самого себя и искать в душе своей Бога. Равнодушно произносил слова молитвы и, говоря с Ним, думал о другом.
Когда он посетовал священнику на свои плутания, на неспособность сосредоточиться, тот ответил:
– Вы на пороге жизни очистительной. И неспособны почувствовать нежную, родную ласку молитв. Не печальтесь, что еще доходит до вас голос вашей крови. Бодрствуйте и ждите. Если не можете молиться горячо, молитесь, как умеете, но все-таки молитесь. Не забывайте также, что всем ведомы были раздирающие вас тревоги; поверьте, мы действуем не наугад, и мистика есть вполне точная наука. Она предугадывает большинство событий, развертывающихся в душе, которую Господь предназначил к жизни совершенной. Она исследует движения духовные не менее отчетливо, чем физиология разбирается в телесных состояниях.
Из века в век учит она о сошествии Благодати и о влияниях ее, то бурных, то медлительных; она установила даже видоизменения телесных органов, перевоплощающихся, когда душа целиком растворяется во Господе.
Святой Дионисий Ареопагит, святой Бонавентура, Гуго и Ришар Сен-Викторские, святой Фома Аквинский, святой Бернар, Рейсбрюк, Анджелла де Фолиньо, оба Эккарта, Таулер, Сюзо, Дионисий Шартрский, святая Гильдегарда, святая Екатерина Генуэзская, святая Екатерина Сиенская, святая Магдалина де Пацци, святая Гертруда и другие учителя церкви изложили основы и учение мистики. И наконец явилась святая, бывшая удивительным психологом, женщина, наделенная ясновидением сверхчеловеческим, которая подвела итог исключениям и правилам этого учения и на себе самой удостоверила истину описываемых ею сверхъестественных превращений; я разумею святую Терезу. Читали вы ее «Замки души»?
Дюрталь утвердительно кивнул.
– Значит, вы осведомлены; вы должны знать, что она прошла сквозь горнило тягчайшей пустоты, мучительнейших испытаний, прежде чем достичь пятого круга в замке внутреннем, этого молитвенного единения, когда душа бодрствует, устремленная к Господу, и совершенно утратила восприятие всего земного и даже себя самой. Утешьтесь. Попытайтесь в источник смирения превратить мрак вашей души и не ищите в нем тревог. Следуйте наставлению святой Терезы, несите безропотно свой крест.
– Она страшит меня, эта изумительная и грозная святая, – вздохнул Дюрталь, – Я читал ее творения, и знаете, она производит на меня впечатление белоснежной лилии, но лилии металлической, лилии выкованной из железа. Согласитесь, что страждущим не найти в ней истинного утешения!
– Да, вы правы, она обращается к тем, кто ступил уже на мистический путь. Возделывает поле вспаханное, душу, освобожденную от наиболее сильных искушений и безопасную от бурь. Ее исходная точка слишком возвышенна, слишком недосягаема для вас, она поучает, главным образом, монахинь, женщин, заточившихся в монастыри, существа, живущие вне мира и подвинувшиеся на путях подвижничества, по которым уводит их Господь.
Но попытайтесь духовно вознестись над вашей грязью, забудьте на несколько мгновений свои муки и несовершенства, последуйте за ней. И вы убедитесь, как искушена она в царстве сверхъестественного! Как мудро и отчетливо изъясняет, несмотря на повторения и длинноты, механику души постепенно приближающейся к Богу, запечатленной Его прикосновением. Слова бессильны, выражения тусклы для описания этих событий духа, и она все же находит понятную речь, показывает, дает почувствовать, почти рисует взору непостижимое зрелище Бога, таинственно нисшедшего, проникшего в душу. Она проникает в сокровеннейшую тайну, доходит до предела, поднимается в конечном устремлении к порогу небес, изнемогает в обожании, исчерпав язык слов, утончается, описывает круги, словно обезумевшая птица, и самозабвенно парит, с воплями любви!
– Да, я согласен, господин аббат, что святая Тереза глубже, чем кто-то другой, исследовала неизведанные плоскости души, стала как бы географом ее, составила карту душевных полюсов, отметила широты созерцания, сокровенные области человеческих небес. До нее проникали в эти области и другие, но не оставили нам ни такой последовательной, ни такой точной топографии. Я предпочитаю, однако, мистиков менее рассудочных, не столь умствующих, но раскрывающих на всем протяжении своих творений вдохновение, которое святая Тереза дает лишь в конце. Пламенных от первой страницы до последней и самозабвенно припадающих к стопам Христовым. Рейсбрюк – один из них. Какой пламень в маленьком томе его творений, переведенным Элло! Из женщин следует указать на святую Анджелу де Фолиньо, судя не столько по книге о видениях, местами бездейственной, сколько по дивной повести ее о самой себе, которую она продиктовала своему исповеднику. Еще задолго до святой Терезы объясняет она основы и влияния мистические, и если отличается меньшей глубиной, менее искусно разбирается в оттенках, то зато каким проникнута умилением, какою дышит искренностью! Как ласкает она душу! Она – точно вакханка божественной любви! Истинная менада непорочности! Христос любит ее, подолгу беседует с ней, и превыше всякой литературы воспринятые ею от Него слова; это венец красоты из всего когда-либо написанного. И не суровый это Христос, не испанский Христос, который попирает творение свое, добиваясь покорности, нет, это исполненный милосердия Христос Евангелий, кротчайший Иисус святого Франциска. Богочеловек францисканцев милее мне Христа кармелитов!
Аббат, улыбаясь, ответил:
– Что скажете вы тогда о святом Иоанне де ла Круа? Сейчас вы сравнивали святую Терезу с выкованной из железа лилией. Он тоже лилия, но лилия пыток, царственный цветок, который налагали некогда палачи как герб на тело каторжников. Он и пламенен, и мрачен, подобно раскаленному железу. Святая Тереза местами склоняется к нашим страданиям и скорби, а он неотступно неумолим, погребенный в своей душевной бездне. Главным образом его поглощает описание мук души, которая, распяв вожделения свои, шествует чрез «непроглядную тьму», или иными словами отрекается от всего видимого, сотворенного.
Он требует, чтобы человек обуздал свое воображение, сковал его подобием летаргического сна, утратил восприятие форм, задушил чувства, уничтожал свои способности. Хочет, чтобы жаждущий единения с Господом, как бы заключился под воздушным колоколом, создал бы в себе пустоту, в которую, в ответ стремлению его, снизойдет божественный Странник и сам окончит дело очищения, искоренит остатки грехов, исторгая последние следы пороков!
Безмерны испытываемые душой страдания. Блуждая, изнывает она в совершенном мраке, падает от усталости и уныния, мнит себя навек отринутой Тем, которого она умоляет и Кто сокрыт, ничего не отвечая. Счастье еще, если агония не отягчается ужасами чувственности и тем мерзостным наитием, которое Исайя именует «духом заблуждения», и которое есть ни что иное, как болезнь совести, дошедшей до предела напряжения.
Вы трепещете, читая описание этой скорбной, страшной тьмы душевной, этого ада, в котором заживо погребено окутанное ею существо! Но свет блистает, и Господь нисходит, когда человек совлечет с себя ветхую оболочку, очистится от всех рубцов, опустеет со всех сторон. Подобно ребенку, бросается тогда душа в объятия Божии, и творится непостижимое слияние.
Как видите, глубже других проникает святой Иоанн в недра первых мистических шагов. Святые Тереза и Рейсбрюк также исследуют духовные трапезы, сошествие Благодати и даров ее, но он первый осмеливается тщательно описать мучительные ступени, которые до него лишь трепетно отмечались.
Дивный богослов, он в то же время есть святой, ясный и суровый. Чуждый естественной женской слабости, он не запутывается в отступлениях, не допускает беспрерывных повторений. Прямо шествует вперед, и часто видишь его в конце пути грозного и окровавленного с воспаленным взором!»
– Неужели, – воскликнул Дюрталь, – все души, которые хочет вести Христос мистической дорогой, обречены на такие испытания?
– Да, почти все, в большей или меньшей степени.
– Сознаюсь, духовная жизнь мне казалась менее тернистой и сложной. Я воображал, что целомудрием, усердной молитвой и причастием можно без особых страданий достичь, если не бесконечного блаженства, уготованного святым, то, по крайней мере, быть с Господом, обитать возле Него в душевном мире.
Я лично готов удовольствоваться этими мещанскими радостями. Меня смущает, что слишком дорогой ценой оплачивается ликование, о котором повествует святой Иоанн…
Аббат молча улыбался.
Дюрталь продолжал:
– Но знаете, если так, то мы довольно далеки от проповедуемого нам католицизма. По сравнению с мистикой, он такой благодушный, житейский, мягкий.
– Он создан для душ посредственных, каковы почти все окружающие нас. Вращается в атмосфере умеренности, чужд излишней муки, необычного восторга. Он приспособлен для толпы, и священники правы, поднося его таким, потому что иначе верующие или его бы не поняли или обратились бы в бегство, устрашенные. Но если, по Воле Божией, толпе достаточно с избытком религии умеренной, то поверьте, что от людей, которых Создатель удостаивает посвятить в сверхобожаемые таинства своего Лика, Он требует и тягчайших усилий. Неизбежно и справедливо, что Господь истязает их прежде, чем приобщить к упоению в слиянии с Ним.
– Значит, главная цель мистики, это видеть, чувствовать, почти осязать того самого Бога, который скрыт для всех и безмолвен.
– Да, и низвергнуть нас в глубину Его, в безмолвную бездну наслаждений в Нем! Но говоря так, надлежало бы забыть мирское значение загрязненных слов. Чтобы определить мистическую любовь, мы вынуждены пятнать Творца нашей срамной речью, искать сравнений в человеческих действиях. Мы прибегаем к выражениям: «единение», «брак», «бракосочетание», к словам, которые смрадны! Но как иначе именовать невыразимое, как передать нашим низменным языком неисповедимое погружение души в Бога.
– Вы правы, – пробормотал Дюрталь… – Но снова относительно святой Терезы…
– Она также, – прервал аббат, – коснулась непроглядной тьмы, которая страшит вас. Но она посвятила ей лишь несколько строк и определила ее, как агонию души, как скорбь, которая столь сурова, что тщетно пытаться ее изобразить.
– Конечно, но я предпочитаю ее святому Иоанну де ла Круа, она не наводит такого уныния, как этот непреклонный святой. Согласитесь, что он слишком яркое олицетворение страны великих Христов, которые истекают кровью в подземельях!
– А из какого народа святая Тереза?
– Да, я прекрасно знаю, что она испанка, но испанка слишком сложная и необычная, в которой следы ее племени кажутся стертыми, менее отчетливыми.
Бесспорно, что она дивный психолог. И наряду с этим она в причудливом сочетании выказывает себя пламенно-мистической и холодной деловой женщиной. Да, природа ее двойственна. Она созерцательница, живет вне мира, но в равной степени она государственный человек. Она Кольбер монастырей. Мы не знаем другой женщины, которая созидала бы с такой изумительной проницательностью, обладала бы столь мощной силой устроения. Если подумаешь, что она, поборов невероятные помехи, основала тридцать два монастыря и подчинила их уставу, который следует признать образцом мудрости, уставу, который предусматривает и исправляет самые неизведанные ошибки сердца, то невольно смущаешься, когда сильные умы называют ее истеричкой и безумной!
– Полное равновесие, совершенный здравый смысл, как раз один из отличительных признаков мистиков, – ответил аббат, улыбаясь.
Такие беседы поднимали дух Дюрталя, залагали в нем семена мыслей, дававшие всходы, когда он оставался один. Он увереннее полагался на мнения священника следовать его советам и ощущал на себе всю благотворность этой перемены, заполнившей чтением, церквами, молитвами его праздную жизнь и исцелившей его от скуки.
«Я обрел, по крайней мере, мирные вечера и спокойные ночи», – думал Дюрталь. Он познал умиляющую помощь благочестивых вечеров. Посещал Сен-Сюльпис в те часы, когда удвоялись колонны при тусклом освещении лампад и ложились на пол длинные тени ночи. Чернели открытые приделы, а в корабле церкви перед главным алтарем, словно букет, распускалась в сумрачной пустоте одна только люстра лампад, светившихся, подобно кусту мерцающих алых роз.
Безмолвие иногда нарушалось глухим шумом двери, скрипом стула, крадущейся поступью женщины, торопливыми мужскими шагами.
Дюрталь почти один сидел в сумерках любимого придела. И чувствовал себя тогда таким далеким от всего, таким далеким от этого города, который бурлит от него в двух шагах. Он опускался на колени, но не волновался. Готовился говорить, и нечего было ему сказать. Ощущал порыв наития, из которого не выходило ничего. Наконец, погружался в туманную истому, отдавался ленивой неге, тому неопределенному благодушию, которое охватывает тело, растянувшееся в минеральной ванне.
Задумывался над судьбой женщин, изредка рассеянных вокруг него на стульях. Бедные черные косынки, жалкие рюшевые шляпки, печальные пелеринки, скорбные капли четок, струящиеся в сумраке!
Одни, в трауре, стенали все еще безутешные, другие сгибались, склонив на бок голову, иные молились, вздрагивая плечами, закрыв руками лицо.
Кончилась дневная тягота. Излишества жизни вопияли о пощаде. Повсюду коленопреклоненное горе. Богатые, довольные, счастливые не молятся вовсе. В церквах увидишь только бесстрастных старух, женщин или вдовых, или покинутых или терзаемых дома, просящих о лучшей доле, о том, чтобы утишились неистовства мужей, исправились порочные дети, окрепло здоровье любимых существ.
Расцветает истинный букет страданий, скорбный аромат которых, подобно фимиаму, возносился к Богоматери.
Немногие из мужчин приходили на это свидание, в котором укрывалось горе, и совсем мало юношей, не истерзанных еще судьбой. Лишь несколько старцев и недужных, которые плелись, опираясь на спинки стульев, да маленький горбун, которого Дюрталь видал здесь всякий вечер, обездоленный: его могла любить только одна, которая выше телесного!
Пылкое молитвенное настроение охватывало Дюрталя при виде несчастных, сходившихся просить у неба частицы той любви, в которой отказывали им люди. И он, не могущий молиться за самого себя, сливался с их молениями, молился за них!
Церкви, столь безразличные после полудня, по вечерам облекались истинною убедительностью, дышали неподдельной нежностью. Казалось, что они волнуются, когда наступает ночь, и сострадают в своем уединении мукам болеющих существ, внимая произносимым теми жалобам. Не менее трогательное впечатление оставляла ранняя обедня, обедня работниц и служанок. За ней не бывали ни ханжи, ни любопытные, только бедные женщины, которые домогались в причастии почерпнуть силу, чтобы нести бремя тяжкого труда, унизительных услуг. Уходя из храма, они знали, что они живой сосуд Господень, и что лишь в их убогих душах радуется Тот, кто в неизменном уничижении пребывал здесь на земле. Они сознавали себя его избранницами, не сомневались, что, вверяя им под видом хлеба воспоминание о своих страстях, Он требует взамен, чтобы они оставались смиренными и печальными. И что тогда для них тягости дня, который протечет в постыдно честной низменной работе!
Понятно, думал Дюрталь, вот почему аббат так настаивает, чтобы я посещал церкви в эти утренние или поздние часы – единственные, в сущности, когда раскрывается душа.
Но, ленясь бывать часто за раннею обедней, он довольствовался послеобеденными скитаниями по церквам. В общем выходил умиротворенным, даже когда молился плохо или не молился совсем. Но выпадали, наоборот, вечера, когда, утомленный уединением, безмолвием, мраком, он покидал Сен-Сюльпис и направлялся к Нотр-Дам-де-Виктуар.
Унылого отчаяния жалких бедняков, которые, доплелись до ближней церкви, и опускались на колена в темноте, не было в этом ярко освещенном храме. Богомольцы приносили Богоматери животворность упования, веру, смягчающую скорбь, горечь которой растворялась во взрывах надежд, в струившемся вокруг нее лепете боготворения. Два течения пересекали это убежище: одно из людей, испрашивавших прощения, другое из тех, которые, получив его, источали благодарение, стремились выразить признательность. Церковь обладала особым обликом, скорее радостным, чем печальным, и, несомненно, более пылким, менее грустным, чем другие храмы.
Она выделялась еще тем, что в ней бывали очень многие мужчины. Но под ее сенью ютились не столько святоши с бегающим взором и белесоватыми глазами, сколько люди всевозможных общественных слоев, богомольцы, не носившие на лице презренного отпечатка ложного благочестия. Только там встречались лица ясные, с откровенным выражением. А главное, никогда не возникала скверная гримаса участника католических кружков, истинный дух которого пробивался сквозь дурно наложенную елейность очертаний.
В церкви, покрытой приношениями по обету, выложенной до самых сводов мраморными надписями, прославляющими радости дошедших молитв и обретенных благодеяний перед алтарем Пресвятой Девы, где сотни свечей вонзали в воздух синевшие фимиамом золотистые свои острия, творилась каждодневно в восемь часов вечера общая молитва. Священник перебирал на кафедре четки, потом исполнялись литании во славу Девы Марии, своеобразный музыкальный набор, составленный неведомо из чего, очень ритмичный, беспрерывно меняющий тона. Быстрый и потом вдруг угрюмый, на миг пробуждающий туманное воспоминание церковных песнопений XVII века и крутым изгибом впадающий в мелодию шарманки, современную, почти пошлую.
И, однако, каким пленительным было это нестройное смешение звуков! После «Кирие Элейсон» и начальных призывов Мадонну окружал ритм пляски. Но музыка делалась странно благоговейной после того, как раскрыты были некоторые свойства Девы, возвещены некоторые ее символы. Она замедлялась, затихала, трижды изъяснив тем же мотивом некоторые ее свойства, между ними «Refugium Peccatorum»[28]28
Убежище для грешников (лат.).
[Закрыть], потом вновь устремлялась прежним темпом и вновь изливалась весельем.
Если не бывало проповеди, то сейчас же начиналась вечерняя молитва.
Силами хоровых отбросов – одного простуженного баса и одного-двух гнусавых детских голосов – исполнялись литургические песнопения: «Inviolata», этот гимн медлительный и жалобный, мелодия непорочная и растянутая, такая изнеможденная, такая хилая, что, казалось, ее могут петь лишь убогие. Затем «Parce Domine»[29]29
Избави, Господи (лат.).
[Закрыть] – антифон, столь умоляющий и скорбный, и, наконец, отрывок из литургии Фомы Аквинского, уничиженный и задумчивый, медленный, благоговейный.
Хору оставалось скрестить руки и умолкнуть, когда звучали первые органные аккорды и начиналась мелодия древних песнопений. Воспламенялись верующие, подобно свечам, связанным между собой нитью, и, предводимые органом, сами воспевали смиренные напевы. Коленопреклоненные, виднелись они на скамеечках или, распростертые на плитяном полу и, когда после обмена антифонов и ответствий, после «Помолимся», священник с белой шелковой перевязью, облекавшей плечи его и руки, восходил к алтарю, чтобы взять дароносицу, то словно дуновение проносилось при торопливом прозрачном звоне колокольчиков и склоняло в единый миг все головы.
В целостном самозабвении воспламенялись эти души, застывали в неслыханном молчании, пока еще раз не призывали прерванную жизнь замедлившиеся колокольчики осенить себя большим крестным знамением и продолжать свой путь.
Дюрталь вышел из церкви, когда не кончилось еще «Laudate»[30]30
Славься (лат.).
[Закрыть] и не разошлась толпа.
Вернувшись к себе, он задумался:
– Усердие этих верующих, не местных прихожан, как в других церквах, но паломников, отовсюду, неведомо откуда, есть истинное чудо в смраде нашего пошлого времени.
В Нотр-Дам можно, по крайней мере, услышать отрадные песнопения. И он вспоминал необычные литании, которых не слыхал больше нигде. А он столько переслушал всего, когда бывал в церквах! В Сен-Сюльпис, например, они пелись на два лада. Когда действовал хор, они развертывались по древнему церковному напеву, в котором на звук басовой трубы откликалась флейта тонких дискантов. В месяце же Пречистой Девы на девиц возлагалась обязанность исполнять литании ежедневно по вечерам, кроме четвергов. И тогда стадо юных и престарелых овец вокруг расстроенной фисгармонии распевало их под звуки ярмарочной музыки.
В других церквах, например, в Сен-Тома, где женщинами распевались Богородичные литании, они были точно покрыты пудрой, надушены амброй и бергамотом. Своими напевами они напоминали менуэт в соответствии с архитектурой церкви, походившей на оперу. Конечно, это не имело ничего общего с церковной музыкой, но, по крайней мере, не огорчало слух. Для полноты впечатления следовало бы только заменять орган клавесином.
Иной привлекательностью обладали древние церковные мелодии, худо ли хорошо, но все же исполняемые в Нотр Дам в те дни, когда не бывало торжественных обрядов.
«Tantum ergo»[31]31
Славься жертва (лат.).
[Закрыть] не так звучало здесь, как в Сен-Сюльпис и в других соборах, где оно почти всегда облекалось тупоумными припевами, мелодиями, годными для военных парадов или банкетов.
Церковь, не позволявшая прикасаться даже к тексту святого Фомы Аквинского, давала любому регенту хора возможность уничтожить старинную мелодию, которая окутывала гимн с самого его рождения, проникала в сокровенную его глубь, сливалась с каждой его фразой, была его телом и душой.
Это чудовищно. Доподлинно, священники утратили не понимание искусства, всегда бывшее им чуждым, но самые основы литургического разумения, если принимают подобные ереси, сносят такие покушения в своих церквах!
Воспоминания об этом выводили Дюрталя из себя. Но он успокаивался, мысленно возвращаясь понемногу к Нотр-Дам-де-Виктуар, и, пытливо исследуя ее со всех сторон, находил ее не менее загадочной, единственной в Париже.
Явления ниспосылались Лурду и Ла Салетт.
Не важно, думал он, подлинны они или измышленны. Положим, что в миг провозглашенного пришествия Богоматери, Она отсутствовала, но ныне Она пребывает там, привлеченная, тронутая приливами молитв, порожденными народной верой. Там творились чудеса. Неудивительно, что с тех пор туда устремляются толпы. Но никакого явления не наблюдалось здесь у Нотр-Дам-де-Виктуар. Никакая Мелания, никакая Бернадетта не видели и не описывали сияющего появления Прекрасной Дамы. «Здесь нет ничего: нет ни купелей, ни медицинских врачеваний, ни всенародных исцелений, ни горных вершин, ни гротов. В 1836 году в один прекрасный день приходский настоятель аббат Дюфриш де Жене вдруг утверждает, что во время, как он служил обедню, Богородица возвестила ему свою волю, чтобы храм этот был посвящен преимущественно ей. Этого оказалось достаточным. Безлюдная дотоле церковь никогда не оскудевала с той поры, и тысячи обетов свидетельствуют о милостях, дарованных Мадонной богомольцам!
Да, но в общем следует признать, что не слишком необычны души всех этих челобитчиков, решил Дюрталь: большинство похоже на меня. Они приходят для собственной выгоды, себя самих, но не ради Ее.
И он вспомнил ответ аббата Жеврезе, которому сообщил как-то свою мысль:
– Вы удивительно подвинулись бы на пути совершенства, если б приходили лишь ради Нее.
Он внезапно поколебался после стольких часов, проведенных в церквах. Вспыхнуло тело, угасшее под пеплом молитв, и мучительный пожар разгорелся, питаемый низменным огнем.
Флоранс опять преследовала Дюрталя, дома, в церквах, на улице, повсюду. Он все время пугливо озирался, встревоженный новым явлением прелестей блудницы.
Способствовала этому и погода. Пылала небесная твердь и свирепствовало бурное лето, несло расслабленность, притупляло волю, выпускало на влажный простор пробужденное стадо грехов. Дюрталь бледнел перед ужасом долгих вечеров, пред отталкивающей меланхолией неумирающих дней. Солнце не закатывалось в восемь вечера и, казалось, все еще бодрствовало в три утра. Неделя превращалась в один бесконечный день и совсем не останавливалась жизнь.
Он перестал выходить из дому, подавленный неистовством солнца и голубого неба, утомленный купаньем в потоках испарины, наскучив ощущать под шляпой точно потоки Ниагары. Но тогда в одиночестве его осаждали похотливые видения.
Призрак, владевший мыслью, воображением, всем существом его, был страшен тем, что не колебался, определился, сосредоточивался всегда в одном и том же. Пропадали облик Флоранс, ее тело, даже обстоятельства вожделенных утех и его охватывала тьма, в которой эта женщина вела теперь осаду его чувств. Дюрталь сопротивлялся, потом бежал обезумевший, пытался переломить себя долгим хождением пешком, рассеяться прогулками, но позорное лакомство, наперекор всему преследовало его на ходу, вставало перед ним в кафе, застилало от глаз его газету, которую он хотел читать, провожало к столу, закрадывалось в складки скатерти, сквозило в очертаниях плодов. После часов борьбы он падал и, побежденный, отдавался наконец девке; потом уходил от нее разбитый, полумертвый от стыда и отвращения, чуть не рыдающий. Тяжелая борьба не доставляла ему никакого облегчения. Даже наоборот. Ненавистные чары не покидали его, но осаждали еще яростнее, упрямее. И Дюрталь принял наконец решение, предложил себе странный компромисс. А что, если сходить, думал он, к другой женщине, которую я знаю, и испытать влияние обычных ласк, быть может, хоть этим удастся мне усмирить нервы, изгнать наваждение, насытиться без тревог и угрызений. Он так и сделал, стараясь убедить себя, что такой поступок менее греховен, более извинителен.
На деле оказалось, что попытка эта повлекла за собой вынужденное сравнение пережитых бурь, навела на мысли о Флоранс, на признание превосходства ее пороков.
Не ослабевала власть этой блудницы, пока, после длившегося несколько дней припадка возмущения, но не вырвался из рабства мутной тины и не вернул себе самообладания.
Ему удалось опомниться, собраться с духом, и он с омерзением отринул самого себя. Не смея признаться аббату Жеврезе в своих бесстыдствах, он избегал его во время этой бури. Но теперь устрашился, предчувствуя по некоторым признакам новые натиски, и направился к нему.
Намеками объяснил ему свою душевную смуту и почувствовал себя таким безоружным и печальным, что слезы у него выступили на глазах.
– Вы раньше жаловались на отсутствие истинного раскаяния, уверены ли вы в нем теперь? – спросил аббат.
– Да, но какая в том польза? Когда человек убежден, что в своей слабости поддастся первому же искушению!
– Это другой вопрос. Я вижу, что вы, по крайней мере, хоть защищались и что сейчас нуждаетесь в помощи, выбившись из сил. Не тревожьтесь. Идите с миром, грешите меньше. От вас отринет большинство ваших соблазнов. При доброй воле вы справитесь с остатком. Заметьте лишь одно. Если вы падете теперь, то нет вам больше оправдания, и я не поручусь, что, вместо улучшения, ваше положение ухудшится…
Дюрталь пробормотал ошеломленный:
– Вы думаете…
– Я верю, – продолжал священник, – в мистическую замену, о которой говорил. Вы испытаете ее на себе самом. Святые помогут вам, вмешавшись в ваш поединок. Примут на себя избыток покушений, которые вы не в силах одолеть и, даже не ведая вашего имени, по моему письму за вас помолятся кармелитки и клариссы в тиши глухих монастырей.
И действительно, с этого дня исчезли самые яростные наваждения. Он не знал, чему приписать это затишье, эту передышку: вмешательству ли монастырской братии или перемене погоды, потокам дождя, которые заволакивали солнце. Но несомненно одно: искушения утихли, и он безнаказанно мог их отражать.
Дюрталь вдохновлялся, думая о монастырях, сострадательно освобождающих его от грязи, которая душила его, милосердно протягивающих руку помощи. Его потянуло на Саксонскую аллею, чтоб помолиться у сестер, которые страдали за него.
Он не застал здесь залитой светом толпы, виденной им в то утро, когда совершалось пострижение. Не пахло ни воском, ни фимиамом, и не мелькала пурпуровая ряса с золотой тиарой. Царила пустынная тьма.
Одиноко сидел он во влажном сумраке церкви, напоминающей дремлющие воды, и не перебирая зерна четок, не повторяя заученных молитв, грезил, пытаясь хоть немного осветить свою душу, разобраться в самом себе. Далекие голоса донеслись из-за решетки в то время, как он собирался с мыслями и понемногу близились, процеженные сквозь черную пелену вуали, раздробленно упадали вокруг алтаря, туманные очертания которого высились в полутьме.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































