Текст книги "Работа любви"
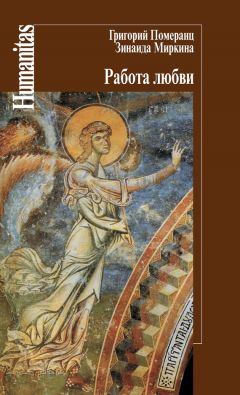
Автор книги: Зинаида Миркина
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В судьбе Перголезе земное, казалось бы, полностью перегорает. Невеста, не получив родительского благословения на брак, ушла в монастырь и через год умерла. Перголезе тоже постригся и вскоре умер. Но в «Stabat Mater» сочиненном незадолго до смерти, страдания Богоматери сливаются со страданиями возлюбленной и собственными мучениями. То, что разделено на уровне слов, сливается в музыке.
В Новое время любовь, шаг за шагом, обретала внешнюю свободу и теряла поэтичность. Атеист Стендаль, всю жизнь думавший о любви, делает героинями своих романов верующих женщин. Только глубоко веровавшая мадам де Реналь могла сказать любовнику: «Я чувствую к тебе то, что должна была бы испытывать к Богу: благоговение, страх, любовь». Рационалистка Матильда де ла Моль этого чувства не знала. И в любви Фабрицио дель Донго очень много значит его вера. На первый взгляд, религиозное служение препятствует чувству и делает невозможным соединение с Клелией Конти. Но любовь вырастает от препятствий, и Фабрицио умирает, как Перголезе, сплетая небесное с земным в своем последнем вздохе.
В течение всего Нового времени падали, один за другим, запреты; но одновременно вырастала другая сила, враждебная любви: пошлость. Только в конце XIX в. к этой опасной теме стали прикасаться: Мопассан в «Жизни», Толстой в «Крейцеровой сонате». Наконец, Рильке (уже в наш век) произнес странные слова о работе любви.
Первая часть этой непривычной работы – освобождение места для любви, утверждение веры в реальность любви. Иногда эта работа проходит в семье, где умные сердцем родители незаметно передают свой опыт ребенку и подростку. Главное здесь – пример. Мне рассказывала женщина о незабываемом следе любви, оставленном в ней отцом с матерью. Каждый день, проведенный без жены, отец считал вычеркнутым из жизни. У меня такого примера не было. Наоборот, папа и мама постоянно ссорились друг с другом, потом фактически разъехались и наконец формально разошлись. По отдельности они очень любили меня, но жить вместе не сумели, и опасность неудачного союза врезалась в мое сознание. А потом я остался без всякого примера и поддержки, мне было двенадцать лет, когда мама уехала в другой город. Отец с утра до вечера был занят своей работой. В одиночестве стремительно развивался мой ум, и радости ума, радости яркой мысли, пробудившейся во мне довольно рано, вытеснили во мне воспоминания о нежности матери. Я хорошо помню, что чувство полноты жизни я испытывал какой-то точкой посередине лба. И меня выбирали в товарищи умные мальчики, искавшие собеседника; а девушки головастиков не любят. Я отвечал им тем же.
Лет с пятнадцати на меня наваливались острые приступы полового голода. Но именно голода, а не любви. Было стыдно выказать свое желание девушке. Что-то во мне осталось от детской нежности к матери, я не мог прикоснуться к женщине без нежности, попробовал раз – ничего у меня не получилось, обжегся, почти буквально обжегся от собственного грубого прикосновения и больше никогда не повторял, не участвовал в подростковых играх. А душевного порыва, захваченности женской душой я не испытывал. Может быть, просто не встречались в школьные годы такие, которые вызвали бы во мне потребность быть всегда вместе.
В институте были два случая, затронувшие меня. Первый длился один миг, но я его помню: острая жалость к девушке, неудержимо рыдавшей наутро после ночного ареста отца. Захотелось подойти, сказать какие-то слова… И тут же почувствовал, что не умею утешать, не знаю нужных слов, нет чего-то в моем сердце, жалость была, а слов не было. Простоял нерешительно минуту и отошел.
Другой раз восторг вызвала во мне Агнесса Кун – внутренней силой, с которой она царила при надоевшей тогда скучной процедуре исключения из комсомола «за потерю политической бдительности» (в отношениях с отцом, матерью и мужем). Меня залил восторг, а казалось бы – чего еще нужно для любви? Но был еще муж, и я не видел никакой достойной роли, кроме роли друга; усилием воли я повернул себя к дружбе.
Но вот вопрос: почему мне нужен был именно чрезвычайный случай? Почему не вышла тихая любовь к какой-нибудь обыкновенной девушке в обыкновенной, не чрезвычайной обстановке? Отчетливо помню одно: я боялся быть связанным и пропустить что-то… Что именно? Вызревавшее во мне самом? Готовое встретиться? Обычная семейная жизнь, без заложенной в ней духовной пружины, казалась мне ловушкой и может быть действительно была ловушкой… Особенно если ребенок связал бы нас вопреки чему-то главному, как я когда-то связал отца с матерью еще лет на десять после того, как мама внутренне ушла из семьи. Призрак неудачного союза, в котором я родился, стоял передо мной как запретительный знак и мешал накручиванию симпатии, а попросту говоря самообману, без которой не обходится средняя любовная история. Может быть, а даже наверняка, я слишком высоко себя ценил, но я не хотел обыденного семейного счастья. Там, где обычно разгорается воображение, у меня оно гасло. Я возвращался к бесплотным идеям, кружившийся в моей одинокой голове.
И вдруг – война. Ей нет дела до моих мыслей. Ей нужны солдаты, мои аналитические способности как-то сразу поблекли, и великая иллюзия завладела мною. Я перестал быть одиноким мыслителем, я стал рядовым необученным, ждавшим вызова, и почувствовал нужду, в которой не стыдно признаться женщине: нужду в существе, которое будет ждать меня, нужду в матери, которая родит сына, когда меня самого убьют. Для этого не требовалась подруга с необыкновенной силой и душевным богатством, довольно было мало-мальского понимания друг друга, и два раза за время войны дружеские отношения с девушкой перерастали в роман (разгоравшийся в письмах). Одна из этих историй завершилась опытом совместной жизни, длившимся три года.
Я пишу о любви, но все время приходится вспоминать аресты. Такая была жизнь. Арест оборвал мою связь с Миррой: она послушалась матери, предостерегавшей ее от поездок на свидание. Мое чувство собственного достоинства было оскорблено, и после нескольких месяцев тягостных сомнений я решил все оборвать. Не имеет смысла восстанавливать семью, где я буду на третьем месте, после папы и мамы, при этом я понимал, что Мирра дождется меня, но не из-за глубокого личного чувства, а по примеру папы и мамы. Мне это было не нужно. Если я не способен вызвать настоящей любви, то не надо мне никакой. Останусь один. Я, по-видимому, просто создан не для любви, а для дружбы. И не надо садиться не в свои сани.
Между тем, судьба незаметно проделывала со мной работу, необходимую именно для любви. Сперва на войне, захватывая страхом и победой над страхом, втягивая в сердце душу, слишком переместившуюся в голову. Мне открылся мир простых радостей: солнца в синем небе в перерывах между боями, печурки в блиндаже, письма от девушки… Но я все еще был слишком полон собой. Освободил меня от этого груза лагерь. Началось, кажется, в один из первых дней, когда мне было велено собирать самодельные ножи, выброшенные в запретную зону. Скорчившись на этой работе, я очень отчетливо почувствовал себя рядовым рабом, ничем не отличающимся от других рабов, начиная со времен фараонов Древнего Царства. Но решающим был один смешной случай. Я уже рассказывал о нем в «Записках гадкого утенка». Мы бродили от вахты к столовой и от столовой к вахте и беседовали. В «Пережитых абстракциях» я дал трем персонажам имена: Виктор, Николай и Евгений. Евгений – действительно имя Евгения Борисовича Федорова, будущего писателя. Николай – это я. Виктора так и оставил Виктором. Он очень мягко, вежливо и поэтому долго объяснял, что его ум обладает и способностью философствовать, как я, и одаренностью в позитивной науке. Женя (моложе нас на 11 лет – тогда это значило: на треть жизни) молча слушал, а потом коротко сказал: «А я думаю, что я всех умнее». И вдруг я с ужасом почувствовал нелепость положения: я ведь тоже считал себя умнее всех. Но ведь это похоже на Поприщина, уверенного, что он – испанский король. Сошлись три Поприщина и спорят, кто из них настоящий король. И все трое – сумасшедшие.
Разговор оборвался. Мы вошли в сортир по малой нужде. Через очко было видно, как в жиже копошатся черви. Почему-то на этом фоне высокомерие трех интеллектуалов выглядело особенно жалким. Я почувствовал себя обязанным сказать и сказал: ну что ж, оставляю вас двоих спорить за первое место, а себе беру второе. Сказал и почувствовал такую боль, словно ножом вырезал из себя тщеславие. И я его вырезал. Впоследствии мне пришлось читать у Достоевского, что самое важное в жизни – найти в ней второе место после Бога. После любимого. Пока я не пережил этого, я читал об этом – и не замечал, не вчитывался, не вдумывался. Только пережив – понял. Задним числом.
Это понимание очистило место для любви. Она вспыхнула, когда первая встречная захватила меня сочувствием и жалостью. Здесь не было узнавания, не было догадки, что рядом с этой душой, вместе с ней моя душа будет расти. Только готовность всю себя отдать ей. Которой это было не нужно. Во время недолгих встреч я был сдержан и не возникало никаких проблем. Мы просто разговаривали друг с другом. Вспышка произошла, когда девушку списали с предприятия (она собственно заменяла заболевшую уборщицу). Взрыв чувства захватил меня ночью. Я плакал и в слезах написал первое письмо.
Выздоровевшая уборщица сидела по статье 58–12, недоносительство. Я доверил ей свое послание; на другой день получил ответ. Полетели письма-голубки. Роман тянулся года два. Вскоре я вышел на волю – и приехал к ней на свидание. Потом и она оказалась дома. Я съездил на Кавказ – тогда совсем мирный – и вдруг понял, что она права, объясняя мне, что мы не созданы друг для друга. Осталось только сознание, что во мне есть способность к большой любви, такой, о которой поэты пишут, а в жизни почти не бывает.
Эта способность дремала во мне года два, до случайно сложившихся, почти ежедневных, встреч с Ирой Муравьевой. Она болела, я ее навещал. Чтобы не скучать, мы стали читать стихи; и меня захватило, как она их читала. Я почувствовал ее по интонациям в стихах Ахматовой, Гумилева, Цветаевой. Она не просто читала. Чужие стихи становились ее стихами, слово становилось плотью. Выглядела Ира плохо, губы посинели, одета была небрежно, но все это не имело значения. Захватывала личность, захватывала судьба, жившая в этом смертельно больном теле.
Все это подробно описано в моей книге «Сны земли». Я написал странички «В сторону Иры» лет пятнадцать после ее смерти и почти столько же лет после счастливой встречи с Зинаидой Миркиной, но все эти годы во мне жила задача – написать об Ире, и думая об этом, я становился писателем. Мне говорили, что на страничках об Ире я косвенно описал самого себя, но впрямую писать о себе мне было неинтересно. Прошло еще десять лет, пока, по просьбе читателей, я взялся за «Записки гадкого утенка».
За три года жизни с Ирой я понял вторую работу любви: борьбу с «самым большим препятствием», с отсутствием всяких препятствий. Ира несколько раз повторяла французскую поговорку: самое большое препятствие любви, когда не остается никаких препятствий. У нее был опыт угасания любовной вспышки. Я столкнулся с задачей впервые и долго бился, пока решил ее; порою доходил до отчаяния: ускользала, угасала любовь, оставалось только чувство связи с больной женщиной, которую нельзя было просто бросить и начать другую историю.
Шаг за шагом я изучал работу любви. Перво-наперво – сдержанность. Усталость превращает близость в сладкую каторгу. Прикасаешься к женщине с мыслью, как завтра будет болеть голова. Но никакого чуда сдержанность не дает. Только здоровье. А как же чудо, которое обещали стихи, обещали глаза, встретившиеся с моими глазами? Я верил, что глаза не лгали, и искал, как подтвердить правду, которую знала моя душа и не знало тело. Разгадка была в музыке осязания. Но здесь нужно долгое отступление – о музыке.
Однажды сидел я в кино. На экране «Чапаев». Еще не заигранный, еще не ставший анекдотом: психическая атака каппелевцев, Анка-пулеметчица, артист Бабочкин выразительно тонет в реке… Я был захвачен. И вдруг, на волне захваченности, меня перехватила «Лунная соната». Играл белогвардейский полковник. Он был несколько тучен (так полагалось эксплуататору в 1934 году; генералов рисовали с брюхом Тараса Бульбы). И, конечно, интеллигентская внешность прикрывала зверя: доиграв, он приказал пороть пленного шомполами. Но Бетховен выдержал; он перешагнул через сюжет. Я не был приучен к серьезной музыке. Читал в книгах, как она заполняла и переполняла душу, но понимал это – одним умом. Попытки слушать кончались одним и тем же: звуки рассыпались, я не улавливал музыкальной мысли. И вдруг – сложилось! Этот кусок «Лунной» я понял. Разумеется, слово «понял» здесь имеет другой смысл, чем при понимании математической задачи. Когда говорят о понимании музыки или живописи, речь идет скорее о передаче чувства, об углублении жизни до того уровня, на котором жил художник. Понять, чувствовать, любить здесь синонимы. Адам познал Еву: тут сразу и любовь, и знание души…
Я попросил знакомую девочку, немного бренчавшую, сыграть «Лунную». Увы! Под ее пальцами волна рассыпалась на отдельные неуверенные всплески. Все же я иногда просил поиграть, напомнить то впечатление. Больше того: я нашел учительницу и стал брать уроки музыки (дома стояло заброшенное фортепьяно). Мои пальцы не слушались, поздно начинать в 16–17 лет. Пробовал ходить на концерты – и скучал. Наконец – повезло. Мне было уже 18. В Москву заехал дирижер Вилли Ферреро. Исполнялось (помнится, в Доме ученых) «Болеро» Равеля. И оно взяло сразу за шиворот. Колдовство не прерывалось и нарастало, нарастало… Повторялась одна и та же музыкальная фраза, мне не в чем было запутаться, ритм не отпускал, и я отдался этому ритму, как в море – покачиванью мертвой зыби. Все было прекрасно.
Однако на другие симфонические концерты этот контакт не перешел. Музыка опять была сама по себе, и я сам по себе. Пришлось ограничиться оперой и старинными романсами. Пантофель-Нечецкая, Доливо (кажется, Анатолий), почти хрипевший вместо пения, но я прощал ему хрип за верную интонацию: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать…» И в опере меня захватывал трагический текст вместе с музыкой: «Пускай погибну я!..», «Что наша жизнь? Игра! Добро и зло – одни мечты…» Без слова, в стихии чистой музыки, я по-прежнему шел ко дну. И встретившись со стихами Мандельштама, не понял их. Понимал Блока, в ритмах которого скрыт романс. А «Моцарт на воде и Шуберт в птичьем гаме» не доходили до меня.
Война здесь ничего не изменила. Только снизила уровень запросов – до «Землянки» Суркова, до «Темной ночи» (не помню чьей). Хотя – кто знает! Очень может быть, что привычное обострение чувств под огнем, острое восприятие красоты земли и неба особенно в дни затишья, но иногда и в бою – сказались на восприятии природы много лет спустя.
Неожиданно помог моему музыкальному образованию лагерь. Я попал туда в июне и сразу окунулся в белые ночи. Входить в игру света и цвета меня научили импрессионисты (в студенческие годы я каждую неделю, как в церковь, ходил в Музей Нового западного искусства). А здесь платье «Обнаженной» Ренуара, небрежно брошенное на кресло, развернулось в целое небо и зажило, меняя и меняя свои переливы. С вечера до полуночи я не мог оторваться от симфонии, которую импровизировал свет, и, прячась от надзора, продолжал бродить после отбоя. Жалкие человеческие затеи – бараки, вышки, колючая проволока – тонули в северном небе, «как урна с окурками в океане» (метафора, которую я впоследствии подобрал у Кришнамурти).
Потом фестиваль света кончился. Началась тоска черных зимних ночей. Только музыка, лившаяся из репродукторов, доносила переливы духа. Тогда народ приучали к русской музыке XIX века, передавали по радио симфонии Чайковского, одну за другой. Народ жался поближе к печке и забивал козла. Даже моих друзей, интеллектуалов, тридцатипятиградусный мороз загонял в бараки. Нашелся только один меломан, молча бродивший – взад и вперед, от вахты к столовой и от столовой к вахте. Вторым был я. Качество звука на морозе было сносным, но конечно, хуже, чем в консерватории. Что же помогало моему восприятию? Тоска по Москве. Симфонии были приветом оттуда, они так же перешагивали через колючую проволоку, как белые ночи. И привычка созерцать абстрактное искусство света помогло войти в абстрактное искусство звука, войти в прямой разговор с Богом и судьбой, мимо всех человеческих уродств.
Вернувшись в Москву, я в одном из первых домов, куда зашел, увидел на столе томик Мандельштама, сборник 1930 года. Стал читать – и все понимал. Понимал так, как белые ночи, как музыку зимой. Мандельштам уходит корнями в ту самую серьезную музыку, где я раньше терялся. Мне открылось целое измерение действительности, как бы наряду с тремя измерениями физического пространства, исчерпывающими школьное представление о бытии. Я думаю теперь, что европейская музыкальная классика была ответом на вызов бесконечности пространства и времени, испугавший Паскаля. Раскрытие внутренней бесконечности уравновешивало внешнюю, дурную бесконечность, тьму внешнюю. «Прекрасное, – писал Рильке, – это та часть ужасного, которую мы способны вместить», страх «всепоглощающей и миротворной бездны» (не могу не вспомнить Тютчева) музыка вместила внутрь, и он стал трепетом вечной жизни.
С этих пор я стал чувствовать музыкальное измерение во всем, в том числе в любви. Музыка взглядов не требует никакого мастерства, она возникает, как птичье пение; сохранить музыку, когда встретились не только глаза, действительно трудно. То есть трудно на первых порах. Трудно учиться музыке, потом складывается что-то вроде искусства флейтиста. Меня учила любовь, бережность к любви, желание сохранять любовь. Какой-то минимум мастерства сложился. Он очень невелик: чтобы сдержанная чувственность слушалась сердца, а сердце слушалось музыки. Шопен писал Жорж Санд, что в только что сочиненном ноктюрне он записал пережитую с ней ночь. Я его понимаю.
К сожалению, эти простые истины совершенно не стали общим фактом культуры. А между тем, они просто снимают ряд надоевших моральных проблем. Пара, связанная музыкой, так же устойчива, как содружество Казальса (виолончель) и Хоршовского (фортепьяно), десятки лет концертировавших вместе, безо всякого желания сменить партнера. Хотя в таком, музыкальном складе нет ни брачных уз, ни заботы о детях: достаточно общего чувства музыки. Сколько несчастий можно было бы избежать, скольких надрывов, разрывов, самоубийств!
Почти что стали поговоркой стихи Надсона:
Только утро любви хорошо. Хороши
Только первые, робкие речи…
Хотя это опыт рано умершего юноши, так и не успевшего втиснуть свою страсть в строгую музыкальную форму. Или опыт человека, до старости не сумевшего сладить со своими страстями, – как герой «Крейцеровой сонаты». Все, что я здесь пишу, – спор со Львом Толстым, опыт, противопоставленный опыту. Опыт целой жизни – от юности до старости.
Вопреки общему мнению, близость мужчины и женщины может быть не только музыкой, но и молитвой. Вся жизнь может стать музыкой и молитвой: прогулка в лесу, закат на берегу моря – все измерения твоего бытия. До конца это удается немногим, я не волшебник, я только учусь. В шорохе ветвей, в кружении осенних листьев и в пении птиц весной я учусь слышать музыку, дыхание Целого, где хаос фактов связан «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Костер в лесу может дать мне радость, сравнимую с любовной встречей, и в тишине я слышу «хоры ангелов» (Миркина). Я гляжу на Троицу Рублева и вижу в ней не только образы ангелов, а волны музыки, переливающихся от правого ангела к среднему и от него к левому, – музыки, замыкающейся в кружении вокруг незримого центра. В этом кругу бесконечность страдания и сострадания тонет в бесконечной радости творчества, в творческом огне. Я собираю себя под образом этой внутренней бесконечности и не чувствую хворей, не чувствую убывания сил; есть только волны божественных энергий, разлитых вокруг и переливающихся во мне. Я думаю о бедных людях, не слышащих этой музыки, и молюсь за души, не сумевшие затихнуть. Я вспоминаю стихотворение Зинаиды Миркиной:
Тишину измеряют сердцем.
Тишиной измеряют сердце.
Все, кто стихли, – единоверцы.
Все мы слушаем Одного.
Нам открылись такие дали!
Мы с тобой в этот миг узнали,
Не придумали, а узнали
Сердцем Господа своего.
Работа любви не прекращается ни в праздники, ни в будни. Без этого праздник кончится похмельем, а будни все поглотят. Работа любви – это соблюдение первой заповеди (всегда помнить). Это собирание себя под образом любви, чтобы не оставалось никакой почвы для столкновения самолюбий, для раздражения, срывов, ссор. А если нечаянно случится ссора – спохватиться и собраться и помириться еще до вечера, со всеми поводами ссоры, потонувшими в любви, на той глубине, где есть только любовь.
Только пережив все это, я смог понять странные слова Рильке о работе любви. И слова Сент-Экзюпери – о том же (французский писатель не расставался с томиком «Записок Мальте-Лауридса Бригге»).
В этих «Записках», неожиданно переходящих с одной темы на другую, Рильке несколько раз возвращается к одному клубку идей, сплетающихся в его понимании любви. Первая – превосходство женщин, взявших всю работу любви на себя, оставив мужчинам самую легкую долю (наслаждение). «Разве мы не могли бы сделать попытки хоть немного развиться и мало-помалу, постепенно, взять на себя свою долю работы в деле любви?» («Записки», перев. Горбуновой. М., 1913, часть 2, с. 6).
Почти никогда этого еще не было. И в переписке Гёте с Беттиной фон Арним величие любви – не на его стороне: «Все читают его ответы и верят им больше, нежели тебе самой, потому что поэт для них понятнее… Но, может быть, когда-нибудь окажется, что в этих ответах сказалась граница его величия. Ему была ниспослана воплощенная любовь, а он не смог вместить ее… При всем своем величии, он должен был бы смириться перед нею и, как Иоанн на Патмосе, стоя на коленях, писать то, что она диктовала ему» (там же, с. 94).
Вторая идея – то, что «такая любовь не нуждается во взаимности, в ней самой заключается и призыв, и ответ на него» (там же, 94). «Возлюбленная всегда выше возлюбленного, потому что жизнь выше судьбы. Ее самопожертвование жаждет быть безграничным – в этом ее счастье» (с. 55).
Третья идея – что любящий всегда выше любимого: «Плохо живется тем, которых любят, и всегда им грозит опасность. Ах, если бы они побороли себя и стали любящими! Любящие находятся вне опасности… в них тайна приобретает единство, в них она не распадается на части, и они, подобно соловьям, всю ее целиком разглашают вокруг. Оплакивают они одного, но вся природа присоединяется к ним: в них говорит тоска по вечному. Они бросаются во след исчезающему, но с первых же шагов обгоняют его и оказываются перед лицом Бога» (с. 130).
Эта идея – что в любящих говорит тоска по вечному, по Богу, – развита в «Цитадели» Сент-Экзюпери (Соч. М., 1994, т. 2): «Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь «она» и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведешь разговор о смысле вещей, и «она» для тебя – Божественный узел, благодаря которому все вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей» (с. 269).
«Теперь я знаю, полюбить – значит разглядеть сквозь дробность мира картину, любовь – это обретение божества.
Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, – я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменилось» (там же, с. 294).
«И я подумал: „даже те, кто умеет видеть за вещами Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину – немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов увидеть, если вызрело в тебе еще не знаемое тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Поэтому я и приготовляю их к любви долгой молитвой. Этот приготовился, и робкая улыбка сразит его, будто меч“» (там же, с. 293).
Любовь углубляет жизнь, и углубление жизни открывает дорогу любви.
Подлинное и призрачное счастье
Первый раз я написал о счастье в 1958 году. Моей задачей было убедить молодого человека, что ничего пошлого, недостойного в счастье нет. Что это даже долг – быть счастливым, уметь быть счастливым при малейшей возможности, в самых скверных условиях (на войне, в лагере), при малейшем просвете радости, и делиться с людьми счастьем, а не своим мрачным видом и срывами больных нервов. Впоследствии я написал о счастье статью для словаря; приведу оттуда первый абзац:
«Счастье – понятие, сложившееся на опыте миллионов людей, чаще созерцавших счастье извне, чем испытавших его. Отсюда разные синонимы счастья: удача, успех, благополучие. Это первый ряд значений. Такое счастье – незаслуженная милость судьбы или Бога (дуракам счастье). Другой ряд синонимов счастья встречается в поэзии: полнота жизни, полнота любви, блаженство. В понимании идеологов и политиков счастье народа означает благополучие (часто мнимое). Пушкин, говоря о Юсупове, называет счастьем жизнь в свое удовольствие: “Счастливый человек, для жизни ты живешь!”. Свое собственное счастье он (в зрелые годы) понимает иначе: “О, как мучительно тобою счастлив я!”. У героев Достоевского счастье всегда смешано со страданием, и это не только его личная черта. Мы находим и у олимпийца Гёте, в песенке Клерхен: “Быть полным радости, страдания и мысли…”».
На протяжении почти сорока лет мое представление о счастье очень мало менялось. И вдруг его поставил под вопрос Фазиль Искандер. Герой маленького рассказа «Сон» просыпается и думает о непрочности семейной жизни. «И хотя они с женой жили дружно, он подумал: в жизни всё может случиться. Чего-то главного им всегда не хватало.
Но чего? Он подумал: люди связаны прочной близостью, только если вместе молятся или вместе совершают преступление. Ни того, ни другого у них не было. Да, подумал он, прочно людей связывает или небо, или ад. Всё остальное непрочно. И даже имеет право на непрочность. И он затосковал о Боге и ощутил свою вину, что не затосковал о нем раньше.
Внезапно он вспомнил, что несколько дней назад распалась семья его друга. Не этим ли объясняется его сон? Он считал, что это счастливая, верующая, озвученная громкоголосыми детьми семья. И вот все рухнуло. Вера не помогла.
Да и есть ли счастливые семьи? Он крепко задумался. Да, вспомнил он, одну такую семью он знал с самого детства. Это была патриархальная крестьянская семьи. В этой семье муж и жена не только не стремились к какому-то счастью, но даже не подозревали, что оно существует (существует!) и к нему надо стремиться. Для них добросовестное выполнение долга и было счастьем, но они не знали, что это так называется. Само стремление к счастью греховно, подумал он. Счастье как бы предполагает тайный, только для меня солнечный день. Счастье – это утопия, направленная на самого себя, в неисполнении которой мы обвиняем других. Все шире охватывающая мир наркомания – ответ на идеологию счастья» («Континент», № 92, с. 196).
Я подчеркнул то, что меня поразило. Рассуждение, ведущее к неожиданному выводу, слабое, а вывод сильный. Что-то здесь Искандер припечатал, какую-то болезнь времени. И скорее всего вывод пришел в голову раньше, чем рассуждение, скачкообразное и переходящее от одного спорного тезиса к другому. Общее преступление чаще связывает бандитов, чем супругов, и неверно, что адские связи так же прочны, как небесные. Ангелы солидарны в своей любви к Богу, а черти скорее грызутся между собой – как Сталин с Гитлером. У них было общее преступление (раздел Польши); но продержалась заклятая дружба менее двух лет. Замечу как бы в скобках: я не думаю, что адское – это небесное наизнанку и в аду такая же строгая иерархия, как на небе. Небесная иерархия замешена на любви; иерархия власти – всегда только до поры, до времени.
Что может связать супругов, кроме любви? Чувственная привязанность? Она слабеет с годами. Общие дети? Расходятся, бросая детей. Общие денежные интересы? Они не всегда сильны. Общая молитва? Искандер в ней разуверился. По-моему, молитва молитве рознь. Если она связывает с Богом, то все свяжет. А если бормочут люди привычные, с детства выученные слова, то такая молитва – разговор по выключенному телефону (беру этот пример у Габриэлы Босси[4]4
Бельгийская писательница, издавшая книжку своих разговоров с Христом.
[Закрыть]).
На чем основана крепость патриархальной семьи? На традициях, не всегда хороших. В том же Чегеме – кровная месть. И еще на одном: на патриархальном терроре против нарушителей порядка. Мне запомнился фильм «Древо желания»: девушку выдали за нелюбимого, и когда она не сумела скрыть своих чувств, ее убили. Те же идеи у купца из «Крейцеровой сонаты» Толстого: женщине надо дать «укорот», забить до совершенной потери грешных желаний.
Любопытно, что в повести «Морской скорпион», написанной до перестройки, Искандер ставит тот же вопрос, о непрочности семьи, но положительный пример у него другой: приятель, полюбивший девушку за что-то прекрасное в душе (и, видимо, она его за то же); рассказчик удивлен, чем эта курносенькая, с косичками, могла пленить, а потом корит самого себя: почему он думал, что за ямочками на щеках непременно скрывается чуткая, нежная душа? Так что виноватым оказывается не идея семейного счастья, а поверхностный выбор подруги, и напрашивается итог: прочная семья основана на другом выборе, на захваченности всей полнотой личности и судьбы…
Что изменилось за 15–20 лет? Почему сама идея счастья попала на скамью подсудимых? Я думаю, непосредственный личный опыт остался тем же; но изменилось общество. Рассыпалась связка ценностей и целей, где рядом со счастьем, перекликаясь с ним, были долг, достоинство, вера в лучшее будущее и т. п. Связка, в которой ни одна ценность не была всемогущей, а все поддерживали друг друга и ограничивали друг друга. Эта связка слабела, слабела и наконец совсем распалась, как веник на отдельные прутики. И люди стали хвататься за отдельные прутики. А каждый прутик по-отдельности легко сломать. Взамен распавшейся советской связки нам широко раскрылся Запад. Но там медленно развивался другой кризис, частью которого (острой формой болезни) был и наш российский кризис. Право на поиски счастья было официально записано в текстах американской революции, более 200 лет тому назад. Но в этих текстах была записана и воля Божья. Для американских протестантов это не было простой фразой. Бог велел Адаму в поте лица своего зарабатывать хлеб свой, а Еве в муках рожать детей. Никаких контрацептивов, никакого вольного секса. Право на счастье означало право на свой участок земли, на свой малый бизнес, на выбор подруги по своей воле, но при общей вере в Бога и при общем понимании семейных обязанностей. Идея счастья в этих условиях вдохновляла на труд и помогла создать гигантскую промышленную державу.









































