Текст книги "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма"
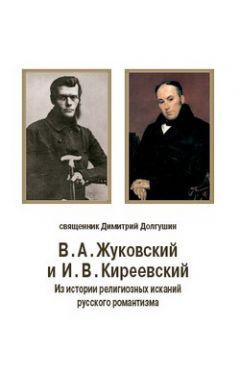
Автор книги: Дмитрий Долгушин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Беспрестанно живя мыслями в Москве, с вами, мне казалось, что и вы знаете все меня окружающее, что и вы следовали за всем ходом моих впечатлений. Мысль, что вы около двух месяцев не получали от меня писем, ужасно меня разбудила из какого-то странного сна [РА 1894, кн. 3, 214].
Вообще, если бы надо было одним словом назвать нашу Мюнхенскую жизнь, нужно было бы сочинить новое слово между скукою и пустотою. Мы здесь плывем на корабле вокруг света, не входя в гавани, по морю без бурь, и от нечего делать читаем Шеллинга, Окена и проч. [Киреевский, I, 45].
Без дома, без родных жизнь превращается в бессмысленное скитание под «сводом темного неродного неба Германии» [Киреевский П. В., 17], «которую, – писал И. В. Киреевский в минуту раздражения, – я <…> ненавижу как цепь, как тюрьму, как всякий гроб, в котором зарывают живых» [Киреевский, II, 221].
Разлуку стараются победить или хотя бы обмануть – соединить разорванный ею круг «милого вместе». Первое средство для этого – конечно, переписка.
Письма приобретают исключительное значение. Отношение к ним – почти религиозное.
Наконец письмо от вас! Я не умею выразить, что мне получить письмо от вас! Несмотря на то, что оно грустно, что почти каждое слово в нем тема на целый концерт тяжелых догадок, я читал его с таким наслаждением, которого давно не имел. <…> Судите ж, после этого, как живительны, как необходимы мне ваши письма [Киреевский, I, 29].
…ваши милые святые письма [Киреевский, I, 23].
Не только чтение писем, но и написание ответных позволяло общаться с родными. Писание письма становилось иногда отдыхом, праздником, который можно устроить себе в награду за плодотворно проведенный день. «Это письмо… я начал … сегодня только потому, что доволен своим днем, т. е. сегодняшнею деятельностью, и чувствую, что стою награды – разговора с вами» (письмо И. В. Киреевского родным от 3 марта 1830 г.) [Киреевский, I, 30–31]. «Дни мои проходят все одним манером. Поутру я встаю поздно, часов в 11, пишу к вам, потом одеваюсь» [Киреевский, I, 19], – описывает он родным уклад своей повседневной жизни в письме из Петербурга. «Вся жизнь проходит теперь в этих благословенных каракульках, получение и отправление которых одни интересные эпохи в жизни» [Барсуков, 60], – признавалась Авдотья Петровна М. П. Погодину, имея в виду свою переписку с сыновьями. П. В. Киреевский позже признавался брату, что письма от него ему так же необходимы, «как слону в пустыне звуки флейты» [Киреевский П. В. Письма, л. 47].
Но общение сердец не вмещалось в каракульки письма, перехлестывало через край. Письма читались между строк. Недосказанное в письме договаривало воображение. «Смешно мне не узнать что-либо до вас касающееся: ведь для души нет пространства» [Елагина, л. 3], – писала Авдотья Петровна сыновьям в Мюнхен.
Н. О. Лосский заметил как-то, что Киреевский имел замечательную способность схватывать «те неуловимые оттенки душевной жизни, которые близки к мистическому опыту и вынуждают нас верить в существование глубоких и внутренних связей между людьми» [Лосский 1991, 30]. Прежде всего это сны. М. О. Гершензон называл внимательное отношение к снам «фамильной чертой» Киреевских [Гершензон 1989, 299]. Целую теорию сновидений содержит письмо И. В. Киреевского сестре из Мюнхена от 8 (20) августа 1830 г.:
Знаешь ли ты, что я во всяком сне бываю у вас? С тех пор как я уехал, не прошло ни одной ночи, чтоб я не был в Москве. Только как! – Вообрази, что до сих пор я даже во сне не узнал, что такое свиданье, и каждый сон мой был повторением разлуки. Мне все кажется, будто я возвратился когда-то давно и уже еду опять. Сны эти до того неотвязно меня преследуют, что один раз, садясь в коляску, тоже во сне, чтобы ехать от вас, я утешался мыслью, что теперь, когда сон мой исполнился, по крайней мере я перестану его видеть всякую ночь. Вообрази же, как я удивился, когда проснулся и увидел, что и это был сон. Это род сонного сумасшествия… <…> Сны для меня не безделица. Лучшая жизнь моя была во сне. Не смейся же, когда я так много говорю об них. Они вздор, но этот вздор доходит до сердца. <…> Слушай же: первое свойство снов то, что они не свободны, но зависят от тех, о ком идут [Киреевский, II, 220–221].
Конечно, эту теорию нельзя принимать совершенно всерьез, как это делает Н. О. Лосский: письмо написано после трех бутылок шампанского. И все же во время поездки в чужие края Киреевского и вправду преследовали сновидения с мотивом разлуки. 11 (23) февраля он сообщал из Берлина:
Голубушка, милая сестра! <…> Сегодня я видел тебя во сне так живо, так грустно, как будто в самом деле. Мне казалось, что вы опять собираете меня в дорогу, а Маша сидит со мною в зале подле окна и держит мою руку и уставила свои глазки на меня, из которых начинают выкатываться слезки. Мне опять стало так жаль ее, как в день отъезда, и все утро я сегодня плакал, как ребенок [Киреевский, I, 24–25].
5(17) августа он опять писал об этом из Мюнхена: «Я всякий день вижу во сне, что воротился к вам и опять собирался ехать. Что это значит?» [Киреевский 1907, 95]. В пасхальную ночь 5(17) апреля он писал письмо домой. Его воображению представлялась картина того, как родные собираются в храм. Заканчивает он в 2 часа ночи и, собираясь ложиться, приписывает: «Попробую, не удастся ли мне повидаться с вами во сне» [Киреевский, I, 40]. Петр долгое время не был спокоен после того, как еще в начале своей поездки, в Бреславле, увидел какое-то тревожное сновидение о родных.
Таким образом, сны для Киреевских были и правда не безделицей, а чем-то вроде «воздушных дилижансов», о которых они мечтали: сновидения могли во мгновение ока освободить от Германии («…я надеюсь по крайней мере во сне освободиться от Германии» [Киреевский, II, 221]) и соединить с родными. Но и на снах лежал отпечаток грусти. Ни сны, ни письма, ни постоянные мыли о родных не могли победить разлуку, не могли вырвать родных из потока бренного бытия.
«Милое вместе» Киреевских – это лодка, которая в бурю плывет по морю, в борт ее постоянно бьют волны, и каждая может захлестнуть и потопить ее. Семья, как и все на земле, подчинена «своенравному року», который «приводит то к утехам, то к бедам» [Баратынский, 18]. Как уже говорилось выше, Киреевские живут в постоянном напряженном ожидании несчастия. «Во всей семье нашей господствующее, ежедневное чувство есть какое-то напряженное, боязливое ожидание беды. С таким чувством счастье не уживается» [Киреевский, I, 218], – пишет И. В. Киреевский брату. Оно доходило до мнительности, и Киреевские были, по выражению М. О. Гершензона, ее мучениками[139]139
«Общей особенностью всей семьи была также взаимная мнительность относительно здоровья, державшая всех в постоянном беспокойстве и превращавшаяся в панический страх при малейшем поводе. Письма П. В. Киреевского, можно сказать, на три четверти наполнены тревожными запросами, увещаниями и пр. насчет здоровья матери, братьев, вообще родных; пустячное нездоровье кого-либо из них заставляет его скакать на место – в Бунино, Петрищево, Москву, бросая все дела, и это повторялось много раз ежегодно. Иван Васильевич тоже был мучеником этих страхов» [Гершензон 1989, 322].
[Закрыть]. Особенно это обострялось во время разлуки, которая «натягивала нервы» и производила «тяжелое уничтожение настоящего и перевод в воображаемое будущее» [Елагина, л. 3], откуда ожидали неминуемой и грозной беды. Поэтому в письмах Киреевских преобладает какой-то скорбный тон, да и вообще на атмосфере семьи лежала «печать меланхолии», грусти. Даже слово «весело» в устах Киреевских отдает печалью. Оно означает не то, что им не было грустно, но что им было «лучше грустно» [Киреевский, I, 37].
Победить мучительные волнения беспокойства было для них насущной необходимостью. Что нужно для этого? Во-первых, научиться жить настоящим. Лучшим выражением правильного устроения жизни, к которому нужно воспитать себя, для Киреевских становятся евангельские слова «довлеет дневи злоба его» (Мф. 6, 34). «Когда испытываешь, какую пустоту производит волнение мечты о будущем; какую пустоту оставляет скорбь о прошедшем, то с благоговением стараешься, чтобы à chaque jour souffite son mal» [Елагина, л. 3 об. ], – пишет Авдотья Петровна сыновьям. Маша Киреевская писала о том же брату Ивану, который просил ее в каждом письме выписывать несколько строк из Евангелия. «…Вот текст, который она выбрала в своем последнем письме, – сообщает он Петру. – Ne soyez donc point iquiets pour le lendemain, car le lendemain se mettra en peine pour lui-même: à chaque jour souffite son mal. "Как бы мы были спокойны, прибавляет она, если бы исполняли это. Но мы никогда не думаем о настоящем, а заботимся только о будущем"» [Киреевский, II, 218]. Разгадка счастия, как ее понимали Киреевские, может быть сформулирована словами «Цвета завета» Жуковского:
Все лучшее мы зрели настоящим;
И время нам казалось нелетящим [ПССиП, II, 134].
Во-вторых, необходимо чувствительность сердца сочетать с твердостью, «спокойствием и мужественною неустрашимостью перед ураганами судьбы» [Киреевский, II, 218]. Киреевские знали, что «un coeur sensible est une cadeau mechante de la bonté divine»[140]140
«Чувствительное сердце – злой дар божественной благости» (франц.).
[Закрыть] [PC 1883, № 9, 540], и поэтому чувствительность необходимо сочетать с неколебимостью воли; они знали, что «l'imagination est riche et qu'elle tourmente beacoup plus que la realité»[141]141
«Воображение – богато и оно гораздо более мучительно, чем действительность» (франц.).
[Закрыть] [Елагина, л. 41], и поэтому нужно воображение обуздывать. Соединение чувствительности с твердостью становится для них предметом восхищения и мечты. «Признаюсь, ничто так меня не трогает и не возбуждает моего почтения, как спокойная твердость чувствительного человека» [PC 1883, № 1, 202], – писал Жуковский А. П. Киреевской в 1813 г.
М. О. Гершензон говорит, что И. В. Киреевский «страстно желал выработать в себе жизненную храбрость и ей, кажется, больше всего завидовал в людях» [Гершензон 1989, 302]. Он хотел стоять перед несчастьем в позе античного героя – отбросив всякий страх и всякую надежду (ср. [Аверинцев 1974]). Уезжая в 1830 г. из Москвы, он переживал именно за то, что проявил слабость, поддался чувству. «Может быть, мне удастся твердостью, покорностью судьбе и возвышенностью над самим собою загладить ту слабость, которая заставила меня уехать, согнуться под ударом судьбы» [Киреевский, I, 15], – пишет он родным из Петербурга.
В этой стоической твердости он видит спасение не только для себя, но и для всей семьи. «Если бы нам удалось дать сестре столько же твердости и крепости духа, сколько у нее нежности, чувствительности и доброты, то мы сделали бы много для ее счастья» [Киреевский, II, 218], – говорит он в письме брату. Конечно, это была бы не победа над судьбой, а лишь трагически-героическое противостояние ей.
Смертный, силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи…[ПССиП, III, 160]
Был еще один выход. Можно было за этой «гнетущей силой» увидеть Промысел. В несчастии – узнать «громогласного проповедника Провидения и вечности» (см. с. 290). По этому пути пошел П. В. Киреевский. В самое тревожное время своей разлуки с родными он искал опоры и успокоения в молитве. В 1830 г. он писал им из Вены:
Только здесь, где я раздвоен, где лучшая часть меня за тысячи верст, вполне чувствуешь, осязаешь эту громовую силу, которая называется судьбою и перед ней благоговеешь; чувствуешь полную бессмысленность мысли, чтобы она была без значения, без разума, и остается только один выбор между верою или сумасшествием. Что до меня касается, то я спокоен, как только можно быть, и делаю все, что могу, чтобы вытеснить из сердца всякое бесплодное беспокойство, оставя одну молитву [Лясковский, 32].
Но если вера ограничивается только этим, то понятие о Промысле в минуту испытания может обратится вновь в ощущение гнетущей судьбы.
И оно не избавит от мучительных волнений беспокойства. Когда эти волнения доходят до последней точки напряжения – И. В. Киреевский узнает, что в Москве холера и родные, быть может, в смертельной опасности, – он не выдерживает и бросается домой. Позже он неоднократно жалел, что его путешествие так быстро закончилось, но это был порыв измученного сердца.
Идеал «милого вместе» во всю широту встал и здесь. Он был не только формулой счастья, но и нравственным императивом: когда житейское море так разбушевалось, и судьба готовит такой страшный удар – нужно быть вместе. «Я хочу быть вместе под бурею», – объясняет его Киреевский в письме брату. То, что Киреевский не может в полной мере следовать этому императиву (он хотел оставаться в Москве, даже если не найдет там родных и «служить полицейским, либо помощником у какого-нибудь доктора» [Киреевский – Жуковскому, л. 5 об. ]), он сам считал слабостью.
Таким образом, «милое вместе» и для Жуковского, и для Киреевского является идеалом, но оно не может преодолеть бренность мира. Стены его не выдерживали напора волн «реки времен». Можно еще попытаться укрыться от них в деятельности.
Глава 2. «Деятельность»: идеал общественного служения в мировоззрении молодого И. В. Киреевского
И. В. Киреевский в 1830 г. отправлялся в чужие края именно для того, чтобы забыться в деятельности. Накануне поездки он писал брату в Мюнхен:
Одна деятельность, живая, беспрестанная, утомительная, может спасти меня от душевного упадка. Вот почему я думаю ехать в чужие край и учиться, утонуть в ученьи. Возвратившись – опьяниться деятельностию… Теперь я весь принадлежу одной мысли, одному стремлению, одной цели. Вся жизнь моя будет посвящена литературе [РА 1894, кн. 3, 215].
Это спасительное средство от несчастий Жуковскому было известно давно, и еще в 1813 г. он прописывал его А. П. Киреевской, скорбевшей после смерти мужа: «Самое действенное лекарство от огорчения есть занятие» [PC 1883, № 1, 202], – писал он ей.
Сила этого лекарства не в том, что оно одурманивает и развлекает, а в том, что оно напоминает о долге – перед ближними, перед Отечеством. И тогда человек поневоле подтягивается, и «убийственное горе» не может победить его. Счастие не делается возможным, происходит отречение от счастия, во главу угла становится долг. Но стоит совершиться этому отречению, как счастие неожиданно возвращается. «Слово счастие я перевел на свой язык: деятельность и бодрость духа, и в этом смысле оно мне кажется доступным» [Киреевский, I, 37], – писал И. В. Киреевский родным. Это не счастие в оригинале, это добытая многими трудами его копия, но все хоть что-то. Такой же перевод счастия в деятельность и деятельности в счастие производил и молодой Жуковский.
В 1810 г. во время белевского уединения он погружается в самообразование – и обнаруживает, что «работа – средство к счастию, она же и счастие» [ПСС, III, 563]. «Мое настоящее положение весьма может быть названо счастливым» [ПСС, III, 564], – заключает он. Императивом служит та же идея долга. «Авторство мне надобно почитать и должностию гражданскою, которую совесть велит исполнять со всевозможным совершенством» [ПСС, III, 564], – говорит Жуковский. Но для того, чтобы исполнить эту должность, нужно себя подготовить к ней самообразованием. В связи с этим изменяется отношение ко времени. Нельзя терять ни минуты, ведь и без того, сколько их потеряно. И вот Жуковский нащупывает в реке времен опору, обретает возможность жить настоящим, ловить ускользающие мгновения: «Я открыл в себе и способность дорожить временем (способность, которую однако надобно поболее усовершенствовать), а прежде время летело между пальцев» [ПСС, III, 563]. То же происходило и с Киреевским, когда, живя один в Берлине, он окунулся в пучину академической и культурной жизни. «Я стал так деятелен, как не был никогда. На жизнь и на каждую ее минуту я смотрю как на чужую собственность, которая поверена мне на честное слово и которую следовательно я не могу бросить на ветер» [Киреевский, I, 24].
Идеал деятельности как особого, нравственно-возвышенного состояния духа был усвоен Киреевским еще в веневитиновском кружке. Он был обусловлен там особой концепцией «дружества». Веневитиновцы воспринимали дружбу как условие добродетели. Одинокому человеку трудно противостоять морю соблазнов поступить безнравственно. Ему нужны единомысленные, единочувственные друзья. Дружба имеет нравственный смысл, решает нравственную задачу: сохранить душевное здоровье, способствовать самоусовершенствованию участвующих в ней. Нравственность должна быть главным критерием оценки любых дел, совершающихся в кругу «дружества», она – в основе всего. 17 сентября 1832 г. И. В. Киреевский пишет А. И. Кошелеву:
И я заключу так же, как ты: у нас должна быть твердая и молодым душам свойственная нравственность, и стремление к ней должно быть главною, единственною целью всякой деятельности; в ней патриотизм и любомудрие, в ней основа религии… [Киреевский, II, 226]
Нравственный же человек – это, прежде всего, деятельный человек. Бездеятельное состояние осуждалось веневитиновцами как недостойное, ведь только деятельность дает жизни смысл, позволяет «жить, а не прозябать». Бездеятельность же приводит человека в состояние, которое «справедливо назвать состоянием ничтожества». «Трудно жить, когда ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего – нельзя» (Д. В. Веневитинов, письмо М. П. Погодину от 7 марта 1827 г.) [Веневитинов, 399–400].
Бездеятельная дружба – «ничтожна». Простая, не обязывающая ни к чему серьезному близость с друзьями не принесет человеку пользы, она может только повредить ему в нравственном смысле, отвлечь от служения Отечеству, развить в человеке своеобразный эмоциональный гедонизм. «Если мы не примем решительных мер против dolce far niente, то в удовольствии быть друг с другом мы найдем сильное поощрение к празднолюбию» [Колюпанов, II, 16], – беспокоится А. И. Кошелев по поводу общения с московскими друзьями (в письме к С. П. Шевыреву). Настоящая дружба должна возникать вокруг определенной деятельности, этой деятельностью оправдываться и на ней основываться.
Боязнь пустого, бесполезного общения выразилась у любомудров, например, в том, что они условились запечатлевать свои «дружеские, искренние беседы» по вторникам у Д. В. Веневитинова «каким-нибудь неизгладимым штемпелем». Их результатом «должно оставаться какое-нибудь произведение недели, следствие той мысли, которая нас занимала или того чувства, которому мы предавались» [Веневитинов, 231], – пишет Д. В. Веневитинов о «торжественном обещании», данном участниками этих вечеров. Дружеское общение, таким образом, не должно было пропасть втуне, не оставив «сухого остатка», полезного человечеству.
Одним из назначений веневитиновского кружка становится борьба с ленью, поощрение друг друга к «постоянным, прилежным и дельным» занятиям, к самообразованию. Наиболее ярко эта характерная черта дружеского общения любомудров выявилась в любопытной попытке А. И. Кошелева и С. П. Шевырева основать в 1831 г. «общество трудолюбия», «коего главною целью долженствовало быть: противодействовать свойственной нам, русским, лености». Предполагалось, что в общество может войти всякий трудящийся постоянно, но предназначалось оно прежде всего для дружеского круга Шевырева и Кошелева. В письме Шевыреву А. И. Кошелев излагает свой проект устава:
Цель нашего общества – поощрять к трудолюбию <…> Всякий член общества обязан трудиться ежедневно 8 часов.<…> Всякий член общества означает в таблице, как он употреблял время. Буде окажется, что кто-либо не занимался постоянно, прилежно и дельно, то получает замечание, во-второй раз – выговор, а в третий раз запрещается ему приезжать на съезд в продолжении одной, 2-х, 3-х или 4-х недель. <…> Съезды бывают еженедельно. На этих съездах сперва всякий дает отчет в употреблении времени. Потом сообщаются важнейшие изобретения или самые интересные сведения, даются отчеты в прочитанных книгах и, наконец, читаются сочинения, представленные кем-либо из членов. Члены общества должны разделить между собою журналы и новейшие книги; каждый обязательно докладывает по прочтении доставшегося ему на долю [Колюпанов, II, 15–17].
«Общество трудолюбия», правда, так и осталось в планах, но сам идеал «трудолюбия», деятельности, был прочно усвоен любомудрами, в том числе и Киреевским.
Но какую деятельность Киреевский считал своей? Какое место она занимала в его внутренней жизни и мировоззрении? Ниже мы постараемся проследить, как изменялось видение Киреевским своего призвания и деятельности в 1820-1830-х годах.
В одной из первых статей Киреевского, в «Обозрении русской словесности 1829 г.», можно обнаружить автобиографическую основу. Здесь Киреевский говорит о том, что русскую литературу «девятнадцатого столетия можно разделить на три эпохи, различные особенностью направления каждой из них, но связанные единством их развития. Характер первой эпохи определяется влиянием Карамзина; средоточием второй была муза Жуковского; Пушкин может быть представителем третьей» [Киреевский 1998, 57]. Первая эпоха – это французское влияние, ее черта – филантропический образ мыслей и преобладание жизни действительной. Вторая – немецкое влияние, преобладание мечты, идеальности. Третья – синтез двух предыдущих, который выражается идеей о том, «что семена желанного будущего заключены в действительности настоящего», что «из совокупности существующего должно образоваться лучшее прочное» [Киреевский 1998, 60–61]. В статье «Девятнадцатый век», применяя практически ту же триаду к общеевропейской истории, Киреевский первый период называет «разрушительным» (Французская революция), второй – «насильственно соединяющим», третий – «мирительным соглашением враждующих начал». Но и этот третий, синтез, начинает рассыпаться, изменяется. На первый план выступает жизнь действительная – и уже не так, как в XVIII в. «Стремление к Жизни и к Поэзии сошлись, <…> и час для поэта Жизни наступил» [Киреевский 1998, 88].
Эти построения отразили жизненный опыт Киреевского, и в то же время сами, несомненно, повлияли на его жизненные приоритеты в к. 1820-х – нач. 1830-х годов.
В ранней юности Киреевский, несомненно, был увлечен политикой и следовал, таким образом, «французскому» идеалу. Источником подобных настроений в семье был второй муж Авдотьи Петровны А. А. Елагин, который из заграничных походов 1812–1816 годов мог, подобно своему товарищу и сослуживцу Г. С. Батенькову, вывезти не только интерес к немецкой философией, но и убеждение «в выгодах свободного правления». Авдотья Петровна, как уже говорилось выше (с. 82), не любила ни политических, ни метафизических «софизмов» своего мужа и старалась оградить от них детей. Об этом она недвусмысленно пишет в одном из писем к старшему сыну в 1823 г. [Елагина, л. 47–48]. В салоне А. П. Елагиной циркулировали либеральные идеи, но сама она вряд ли была их сторонницей и вовсе не хотела, чтобы ее сын стал жертвой входящего в моду романтического увлечения политическим радикализмом.
Семья Елагиных-Киреевских находилась в орбите декабристских влияний. Как указывают Л. Г. Фризман и А. Д. Соймонов, у Елагиных хранились списки политических стихотворений Пушкина [Фризман 1989, 391]. В 1823 г. Авдотья Петровна, видимо, сама переслала из Москвы в Долбино список «Кинжала». Вскоре она спохватилась и написала Ивану письмо, в котором дает резко отрицательную характеристику этого стихотворения (текст письма см. [XXX]).
Здесь же Авдотья Петровна сообщает, что задумала галерею портретов великих людей – в подарок Ивану, чтобы он имел перед глазами примеры для подражания – и хочет начать ее с портрета Брута. Имя римского тираноубийцы расшифровывалось в 1820-е годы однозначно политическим кодом. Брут фигурирует и в «Кинжале». Почему же Авдотья Петровна пишет, что решила включить его в свою галерею, да еще и начать с него? Она пользуется письмом к Ивану, чтобы развести в его представлении античного Брута – героя-гражданина – и современных брутов – головорезов образца Франции 1793 г. Это еще раз доказывает ее педагогическую интуицию. Революция во Франции, по известному выражению Ф. Энгельса, рядилась в античные одежды. В те же одежды кутались и декабристы. Поступки греческих и римских героев были для них не просто образцом гражданской добродетели, но программой жизненного поведения[142]142
«Поведение декабриста было отмечено печатью романтизма: поступки и поведенческие тексты определялись сюжетами литературных произведений, типовыми литературными ситуациями вроде «прощания Гектора и Андромахи», «клятвы Горациев» и пр. или же именами, суггестировавшими в себя сюжеты» [Лотман 1988, 174].
[Закрыть]. Они жили в России XIX в., но действовали в древней Греции или Риме. Авдотья Петровна хотела показать, что это невозможно, хотела погасить приманчивые блуждающие огоньки античного очарования на декабристском пути.
Насколько ей это удалось, трудно сказать. Еще в 1832 г. Киреевский считал Робеспьера по меньшей мере фанатиком добродетели. 1 июня 1829 г. он записал в альбом украинского этнографа, поэта и историка Н. А. Маркевича стихотворение своего сочинения, которое звучит вполне в духе поэзии «гражданского подвига»:
Когда про щастливые годы
Святой украинской свободы
Ты мне стихи свои читал, —
Любовью к [воль]древности согретый
Тебе печально я внимал,
И говорил: Украйна!! Где ты? [Оксман][143]143
Киреевский в 1828 г. читал принадлежавшую Н. А. Маркевичу рукопись «История руссов», которую ошибочно приписывали архиепископу Георгию Конисскому [Оксман, 212]. В библиотеке Жуковского имеется такая же рукопись (см. [Описание]).
[Закрыть]
Характерно это исправление: Киреевский начал писать «вольность», но зачеркнул и заменил «древностью».
В начале 1820-х годов он читал Гельвеция, Локка, но более всего увлекался А. Смитом, политической экономией. А. И. Кошелев безоговорочно признавал его первенство в этой области. П. В. Киреевский в письмах 1823–1824 г. называл брата «политическим экономом» и «Юсуповым политическим» [Парилова, Соймонов, 19; 22]. К этому же времени относится работа И. В. Киреевского над сочинением о добродетели.
Увлечение немецкой философией приходит позже, в кружке любомудров (см. выше, с. 53–56). Этот кружок часто рассматривают как чисто философский, но уже давно было замечено наличие политических увлечений по крайней мере у трех его членов – И. В. Киреевского, H. М. Рожалина и А. И. Кошелева – об этом говорят «Записки» последнего. Пик этих увлечений приходится на 1825 г. А. И. Кошелев вспоминал о декабрьских днях этого года.
…Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали [Кошелев 1991, 53].
Восстание, арест и казнь декабристов отозвались в семействе Елагиных-Киреевских грустно. Среди арестованных были знакомые, в том числе ближайший друг семьи Г. С. Батеньков. Авдотья Петровна не могла быть спокойна за старшего сына. В Москве ждали арестов.
Вероятно, в январе – феврале 1826 г. И. В. Киреевский ездил в Петербург, и тогда состоялась первая за много лет встреча Киреевского с Жуковским. Поэт приблизительно в это время получил назначение быть наставником наследника престола. В приписке к письму А. П. Елагиной И. В. Киреевский сообщал ему свои мысли по поводу его новой должности.
…Вам предстоит дело гораздо труднейшее, нежели равнодушное принятие смерти, – причина падения стольких в наше время. Близко трона, пользуясь милостями Царя, быв, может быть, свидетелем многих его хороших дел: всякий другой сделался бы его слепым обожателем, – Вам предстоит остаться свободным. Если Вы падете… Прощай моя вера в человечество [Киреевский – Жуковскому, л. 1].
В этих словах скрыта уже известная и опробованная в русской культуре XIX в. дилемма политического поведения (она описана Ю. М. Лотманом). Первый путь – «брутовский» – путь Радищева, декабристов; второй – путь маркиза Позы, свободного советника-друга при Царе. Именно он теперь кажется Киреевскому наиболее достойным и правильным.
Его мысль продолжает работать в этом направлении, и в августе 1826 г. он шлет А. А. Елагину письмо [Киреевский, I, 7–8], в котором рисует идеал, далекий от всякого политического радикализма, зато близкий идеалу Жуковского 1805–1806 гг. и тому, чему учила Авдотья Петровна: «величайшее счастие», «средства к общему нашему достижению оного», «самоусовершенствование». «Разрушительный» идеал Французской революции навсегда перестает привлекать Ивана. На смену ему приходит идеал «немецкий» с его преобладаением мечты, идеальности, что выразилось в увлечении Киреевского шеллингианством. Но вскоре молодой философ начинает искать синтез «французского» и «немецкого» идеала – то самое «мирительное соглашение враждующих начал», соединение Поэзии и Жизни, о котором он напишет в статье «Девятнадцатый век».
Поначалу черты нового идеала проступают сквозь туман будущего не вполне отчетливо. «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностию, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов, и чистоту жизни возвысим над чистотою слога» [Киреевский, I, 10], – так Киреевский формулирует новую программу в письме А. И. Кошелеву 1827 г. Многое здесь напоминает молодого Жуковского. Так, выражение «истинная религия», видимо, нужно понимать в том смысле, какой оно имеет в письмах Жуковского 1814 г. и в новиковской традиции вообще – т. е. как «религию сердца» в противопоставлении ее суеверию. В ту же сторону указывает и акцент на нравственности: «стремление к ней должно быть главною, единственною целью всякой деятельности; в ней патриотизм и любомудрие, в ней основа религии…»[144]144
Ср. Жуковский: религия – «та же совесть, но только более возвышенная и определенная» [PC 1883, № 1, 435].
[Закрыть] [Киреевский, II, 226]. Близко Жуковскому и «мы», с которого начинается приведенный отрывок. Это уже знакомое нам «милое вместе» – семейный и дружеский круг как его продолжение. Его Жуковский считал необходимым для поэтической деятельности.
Хотя новый идеал общественного служения еще до конца не определен, но для Киреевского ясно одно – поприщем, на котором будет вестись работа по его воплощению, является литература. У Киреевского складывается такое отношение к литературе, что он мог бы вместе с Жуковским сказать: «Авторство я почитаю службою Отечеству». Но в отличие от Жуковского в отношение к ней вплетаются романтические черты.
О романтизме и сентиментализме Жуковского много спорили, и сейчас этот вопрос, по-видимому, нельзя считать до конца разрешенным. Но можно сказать, что, хотя Жуковский и писал романтические произведения, его личность не воспринималась как личность романтическая. Лирический герой его стихотворений и переписки принадлежит «эпохе чувствительности» – так его понимали современники. Недаром и некоторые исследователи к. XIX – нач. XX вв. (А. Н. Веселовский, В. М. Истрин, А. С. Архангельский), пытавшиеся написать биографию Жуковского как биографию его лирического героя [Гуковский, 143–144], видели «психологический субстрат» [Лотман 1997, 650] его творчества именно в сентиментализме. Можно спорить о том, насколько это соответствует действительности, но, несомненно, к этому дает повод «автоконцепция» поэта, которую он предъявляет в своих поэтических произведениях, и особенно, в дневнике и переписке. Ему было совершенно чуждо то, что называют «романтическим мессианизмом». Жуковский умел трезво и адекватно относиться к значению и масштабу своей литературной деятельности. Она была для него «служением Отечеству» – точно так же, как и педагогическая деятельность, например. Образ романтического поэта, овеянный мессианским флером, не посещал даже юношеских его мечтаний. Однако в 1820-е годы происходит смена «эпохальных типов личности [Гинзбург 1971, 23–26], и романтизм все чаще начинает восприниматься как «руководство к действию». Он оказывает влияние и на Киреевского.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































