Текст книги "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма"
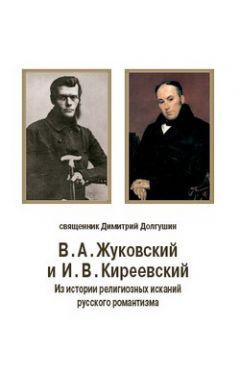
Автор книги: Дмитрий Долгушин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«3 Дек.<абря> (1846. – Д. Д.) Вчера я ездила к о. Макарию. Долго не решалась, все растаяло, и я боялась дороги, думала, что это будет против воле Т.<воей> так неблагоразумно поступать, не знала на что решиться, – но ни Мам.<енька>, ни Петр, и никто из моих не удерживали меня, и я обрадовалась тому, что никто не противоречил мне, – велели закладывать и поехали в 9 час. – Благополучно, хорошо съездили слава Богу! – Мак.<ария> нашла окруженного Волховскими – он очень мило меня ласково принял. – Но между тем занят был с ними, – много прекрасного он говорил им, между прочим одно<й: когда> поутру ты встаешь, то отворишь окно, чтобы осветить и освежить комнату – так и душу, что бы осветить ее надобно помолиться, впустить в нее лучи солнца, освещающего и согревающего. – Друго<й>: зажги лампадку в сердце, – чтобы огонь любви и молитвы беспрестанно теплился. – Не давай ему угаснуть, – и даст тебе Господь непрестанную молитву! и проч. – Я с ним мало успела говорить, и ничего не сказала из того, что хотелось сказать! – Он мне сказал: Вы живете в кругу, в котором все умничают, – есть безумные, которые говорят: нет Бога! Но это явные безумные, – но и те, которые умны не дают себе порядочного отчета во что они верят, им некогда. – Хотя бы затвердили одно: что Бог сотворил мир и человека, что Он премудр, что Он Отец благой, милосердый, и потому не бросит нас сирыми беспомощными. Он дал нам Слово Свое, что бы не оставить нас при одном нашем разуме, который легко заблуждается. – Признавши раз это, мы всем сердцем должны изучать Его Слово, – верить, надеяться, любить! – Если мы любим людей за их хорошие качества, тем больше Бога, совершенного, святость Которого слабо отражается в нас».
«20 (февраля 1847 г. – Д. Д.) Встала в 6 – в 8 уехала в Волхов. <…> В 12 была у о. Макария. Святой он человек. – Жаль, что я не умела с ним говорить, открыть бы ему всю душу, – он сказал бы, что мне делать, – подкрепил бы! <…>
Как трогательно о. Макарий говорил на Иоанна да не смущается сердце ваше и пр. – о беспрестанной молитве, беспрестанном присутствии Божием, о Церкви – Единой, Апостольской, о Библии – каждое бы слово глубоко сохранила в сердце! – но немощны все мы, – все так скоро забывается и изглаживается! – Господи! милостив буди мне грешной! – Дай Своею любовию покоряться Твоей воле. – Благой Отец, не остави меня!» [Киреевская М. В. Дневник, л. 18–20 об.].
Эти страницы, донося до нас живое слово архимандрита Макария, свидетельствуют о последних месяцах его жизни и о его деятельности как старца и духовника. Темы его наставлений традици– онны для старческой традиции – о непрестанной молитве, о том, чтобы быть непрестанно в присутствии Божием. Подробнее об отношениях архимандрита Макария с семейством Киреевских см. [Долгушин 2001; 2008].
XII (С. 113). Кажется, еще не было отмечено, что выбор главного героя (им Киреевский делает Александра Палеолога, отдаленного потомка византийских императоров) объясняется одной из мюнхенских встреч 1830 г., о которой П. В. Киреевский сообщал в письме родным 5(17) августа: «Самым интересным происшествием, случившимся с нами между прошедшим письмом и этим, был один визит, который нам сделал один монах с молодой дамой и о котором, вероятно, брат описал подробнее; и еще интереснее, что этот монах был потомок греческих императоров, Палеолог, а дама воспитывалась и жила в Москве 9 лет; это племянница Палеолога, которую зовут Катерина Павловна Попандопуло. Чтобы принять их торжественнее, мы велели открыть еще две комнаты, стоявшее подле нас впусте, и убрать их так, чтобы они казались длинною анфиладою, и угощали их незрелыми персиками и мороженым, пир этот закончился тем, что Палеолог поцеловал у брата руку с комплиментом совершенно восточным: «Теперь, сказал он, вы уже совсем купили нас себе в плен». – Еще интересно было то, что часть разговора шла через переводчиков, потому что с Палео– логом был еще его брат, не знающий никакого языка, кроме греческого, <и> у нас был еще один поляк, Потоцкий, который не говорит по-русски» [Киреевский П. В. Письма 2, л. 14] (ср [Киреевский П. В., 29]). В последующие две недели до своего отъезда из Мюнхена Палеолог (бывший в сане архимандрита) нанес Киреевским и жившему с ними Рожалину еще несколько визитов – так. что, по выражению, П. В. Киреевского, «надоел нам пуще горькой редьки» [Киреевский П. В. Письма 2, л. 19 об. ], [Киреевский П. В., 30].
XIII (С. 116). В дневнике А. И. Герцена создается яркий образ Киреевского, связанный многими нитями с эстетикой романтизма. Киреевский предстает жертвой страшного времени, которое раздавило его: «Что за прекрасная, сильная личность Ивана Киреевского! Сколько погибло в нем, и притом развитого! Он сломался так, как может сломаться дуб» [Герцен, II, 273]. «Деспотизм его жал, жал, и он сломился, наконец. Сломился как благородная натура, – он не изменил своему направлению, а бросился в самый темный лес мистицизма и там ищет спасенья» [Герцен, 321]. Со страниц дневника этот образ переходит в «Былое и думы».
Как уже давно отмечено исследователями (прежде всего Л. Я. Гинзбург), «Былое и Думы» – «воспоминания особого рода по природе своей: едва ли не столько же воспоминания, сколько художественное произведение, где действует не только субъективная память автора о реальных событиях прошлого, но и объективная художественная логика данного сюжета, развитие обстоятельств, лирического героя» [Нович, 53]. Причем эта логика иногда сокрушительно подминает под себя факты.
Так, описывая примирительный обед западников и славянофилов 22 апреля 1844 г., Герцен сообщает, что в конце его, после «многих тостов, не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и облобызались по-русски с славянами. И. В. Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамилье ы вместо е и через это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев и этого не требовал, напротив, обнимая меня, повторял своим soprano: «Он и с е хорош, он и с е русский» [Герцен, IX, 166]. Но Киреевский на этом обеде не мог присутствовать. В это время его не было в Москве, он был в Долбине о чем свидетельствуют и его сохранившиеся письма этого времени.
Еще одну характерную аберрацию можно найти в описании Герценым его спора с А. С. Хомяковым. В главе «Не наши» из «Былого и дум» Герцен рассказывает о своей словесной баталии с вождем слафянофильства следующим образом. В ответ на слова Хомякова о том, что, основываясь только на разуме и признавая существование одной лишь «бродящей материи», невозможно доказать, что «история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой», Герцен хладнокровно отвечает:
«– Я вам и не говорил, что я берусь это доказывать, – я очень хорошо знал, что это невозможно.
– Как? – сказал Хомяков, несколько удивленный, – вы можете принимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции, и в вашей душе ничего не возмущается?
– Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет» [Герцен, IX, 158].
В этом описании из «Былого и дум» Герцен предстает рыцарем позитивизма и даже материализма – sans peur et sans reproche. Ho на самом деле все происходило совершенно иначе. Спор с Хомяковым описан не только в «Былом и думах», но и в дневнике Герцена (запись от 21 декабря 1842 г.). Из этой записи видно, что Герцен не был столь хладнокровен, и слова о «свирепейшей имманенции» принадлежат ему, а не Хомякову. В ответ на рассуждения славянофила о том, что, если не существует ничего, кроме «брожения вещества», то все может погибнуть от любой случайности, и все искания человечества, все многовековое развитие может в любой момент оборваться какой-нибудь планетарной катастрофой, – в ответ на это «я сказал ему, что это свирепейщая односторонность имманенции, и доказывал кругом ограниченные влияния случайности etc., etc.» [Герцен, I, 251], но, видимо, эти доказательства не очень-то убеждали и самого Герцена.
Если нет Провидения, то случай господствует в мире. Мысль о случае преследует Герцена как кошмар. Он не может забыть о «свирепой случайности», которая висит над миром, как Дамоклов меч. Это чувство проходит красной нитью через весь дневник. 3 февраля 1844 г. он записывает: «Но что же это за страшное бытие наше – беспрестанно и с физической, и с нравственной стороны ждешь ударов, или и не ждешь, но поражаешься ими» [Герцен, I, 330]. 23 июля этого же года: «Кто поручится за то, что какая-нибудь перемена в солнце вызовет катаклизм во всю поверхность земного шара и тогда мы с зверьми и растениями погибнем и на наше место явится новое население, прилаженное к новой земле? Страшная вещь, а отвечать нельзя» [Герцен, I, 369]. 6 августа 1844 г… у него вырывается почти вопль отчаяния: «что это за страшный омут случайностей, в который вовлечена жизнь человека, – я иногда сознаю себя бессильным бороться с тупой, но мощной силой, во власти которой личность и все индивидуальное» [Герцен, I, 370] (подробнее см. [Долгушин]).
Из всего вышесказанного следует, что мемуарами Герцена в качестве исторического источника о его собственных взглядах первой половины 1840-х годов и о взглядах его собеседников следует пользоваться очень осторожно. Например, нельзя считать адекватным изложением взглядов Киреевского известный рассказ об Иверской иконе в передаче Герцена [Герцен, IX, 160], как это делают Г. Князев, Вл. Астров и др.
XIV (С. 118). Условия, на которых И. В. Киреевский приступал к изданию «Москвитянина», были сформулированы М. П. Погодиным в записке, посланной им Ивану Васильевичу, следующим образом: «Еще вариант: возмись издать три книги вполне по твоему намерению. За все статьи, кот<орые> ты поместишь, я заплачу по твоим назначениям, не входя ни на волос в твои рассуждения. Если после трех книг ты увидишь, что можешь издавать журнал, и выгодно для себя, на первых условиях, то он твой, а если нет, то я возьму его себе со всеми убытками. Надеюсь, что против этого предложения ничего сказать нельзя, если ты не решился отказаться по своим причинам. Вот тебе – испытание» [Погодин – Киреевскому, л. 1].
XV (С. 119) П. В. Анненков считает, что в статьях, опубликованных в «Москвитянине» славянофилы «сделали первый шаг навстречу западникам» [Анненков, 243]. Ответного шага не было. Грановский, оскорбленный тем, что Шевырев и Давыдов хотели вернуть ему диссертацию, отказался помещать свое имя в числе сотрудников обновленного журнала (хотя и обещал давать туда отдельные статьи и рецензии на исторические книги). Герцен откликнулся на первый номер «Москвитянина» язвительной рецензией в «Отечественных записках». Далекий от московских споров Плетнев, сообщая о ней Жуковскому, считал, что ее причина – это желание Краевского устранить конкурента: «Вы дурную услугу оказали Москвитянину, поспешив послать ему новые свои Две повести, – писал он поэту. – Он же и сам подсолил себе, тиснув самое письмо ваше, при котором они присланы. Краевского так озадачило это обилие капитальных статей журнала при его открытии новою редакциею, что он поспешил в Отеч. Зап. пустить ругательнейшую на него статью, под замысловатым названием: Москвитянин и Вселенная. Так как цензор не пропустил его острот на ваши пьесы, то вся желчь излилась на бедных Погодина и Киреевского» [Плетнев, III, 551]. Последнее замечание не совсем справедливо – о статьях Киреевского и Погодина Герцен говорит вполне уважительно, но все-таки это не меняет общего тона статьи.
XVI (С. 124). Своими раздумьями по этому поводу Киреевский делится в письме А. П. Елагиной: «Главное, что я боюсь, и что точно страшно, это зараза безверия с ее последствиями. – Но можно ли уберечь сына от прикосновения с общим воздухом? – Если бы даже и возможно это было при домашнем воспитании до некоторых лет, то кто знает: не сильнее ли зараза подействует? – Не разовьются ли в нем сами собою, если не мысли, то чувства отрицательные тогда, когда он будет чувствовать неудовлетворенную потребность жизни и деятельности и скучать однообразием семейной тишины? – К тому же этот общий дух проникает и в семейное воспитание: им дышат все книги, которые он будет читать, им воняют все гувернеры, которых он будет иметь. – В этом случае можно схватиться только за одну надежду: надежду на милость и покровительство Божие. Он может спасти его, если не захочет за мои грехи наказать меня на нем. – Насколько можно было до 14 лет посеять в нем семена веры, то это мы делали, особенно Наталия Петровна. Эти труды ее, добросовестные, сердечные, верно Бог примет как жертву Ему благоприятную и не посрамит упования на Него» [Киреевский – Елагиной 32, л. 2–2 об.].
XVII (С. 133). 1840-е годы – это время дружеского сближения Жуковского с Хомяковым. История их отношений еще по-настоящему не исследована. Основные пути и перспективы ее изучения намечены в статье А. С. Янушкевича «В. А. Жуковский и А. С. Хомяков в 1840-е годы (к дневнику Жуковского)» [Хомяковский сборник, 34–44].
Мы не знаем точно времени создания главного богословского сочинения Хомякова «Церковь одна». Ясно только, что к 1846 г. оно уже существовало. Во время пребывания Хомякова в Эмсе в июле 1847 г. они с Жуковским (и, вероятно, с Гоголем) живо обсуждали тему о Церкви. Хомяков пообещал поэту прислать свою рукопись «Церковь одна» (он выдавал его за некий греческий манускрипт) и выполнил это в декабре того же года. В ответном письме Жуковский называет ее «памятником … наших эмсских вместе проведенных часов» [Хомяковский сборник, 41]. Как видим, поэт имел возможность познакомиться с учением Хомякова о Церкви как из первых уст, так и из его главного богословского сочинения. Жуковский отнесся к этому сочинению очень сочувственно (правда, поддавшись на мистификацию Хомякова, считал его «чудесно-прекрасным» переводом с греческого оригинала) и озаботился, как издать рукопись таким образом, чтобы она имела резонанс на Западе. С своей стороны, Хомяков считал ее издание «общим делом» и доверял Жуковскому выбрать вариант предисловия к ней.
XVIII (С. 133). В 1846 г. в письме М. П. Погодину по поводу его «Похвального слова Карамзину» Жуковский спрашивал: «Есть ли у вас полная (имеется в виду полный текст записки, в отличие от сокращенного варианта, опубликованного в «Современнике» Пушкиным – Д. Д.) записка его о России? Не знаю, существует ли ее оригинал. Ее у самого Карамзина не было; он был так совестлив, что у себя не хотел иметь того, что для всех должно было остаться тайною. Вероятно, что оригинальная записка осталась в руках Jly– бяновского, который тогда находился при великой княгине Екатерине Павловне. Мне доставил ее Константин Иванович Арсеньев; а он от кого получил – не знаю. Я передал ее Екатерине Андреевне Карамзиной; у себя же списка не оставил; но теперь весьма бы желал иметь его» [Барсуков, VIII, 214].
Характерно, что в заметках Жуковского 1840-х годов встречаются почти буквальные совпадения с выражениями Карамзина (Карамзин: «священная особа <монарха> есть образ отечества» [Карамзин, 240]; Жуковский: «в царях выразилось отечество»; Карамзин: «самодержавие есть палладиум России» [Карамзин, 241]; Жуковский: чувство веры в самодержавие – «палладиум… трона, на нем стоит Россия»).
XIX (С. 134). Монархизм Жуковского проделал некоторую эволюцию. В 1820-1830-е годы он имел вполне ощутимый либеральный привкус. В беседе с наследником престола в 1835 г. Жуковский высказался в том смысле, что «благоденствие государства зависит менее от формы, нежели от духа правления» [Янушкевич 1994, 43], и, следовательно, ценность самодержавия скорее относительная. Даже для России Жуковский не отрицал возможность конституции в будущем, хотя и говорил об этом достаточно условно: «Придет ли когда пора конституции, этого мы знать теперь не можем» [Янушкевич 1994, 43]. Еще ранее, в 1828 г., конституционный путь казался Жуковскому вообще неизбежным, и он считал, что Государь «должен и сам готовить к нему народ свой, без спеха, без своекорыстия, с постоянством благоразумным» (речь идет, конечно, о конституционной монархии, а не о республике). В конспекте по русской истории для наследника престола (подготовленном, кстати, по Карамзину) он указывал даже, что революция может иметь полезные плоды – в будущем, когда лава остынет – хотя и не оправдывал ее. Впрочем, эти взгляды Жуковский держал при себе и высказывать считал возможным только наследнику престола – потому и воспротивился предложению императора Николая опубликовать Конспект по истории для общего употребления в учебных заведениях.
XX (С. 134). И в своем консервативном (де Местр), и в своем радикальном (Ламенне) варианте оно сформировало в России целое направление (П. Я. Чаадаев, И. С. Гагарин, отчасти В. С. Печерин). Но не был ли русский католицизм 1830-1840-х годов эпизодом из истории романтизма с его хилиастическими томлениями? Чаадаев, например, в 1830-е годы подчеркивал, что его вера – это не религия богословов, но и не религия народа. Это некая «предвосхищенная религия, к которой в настоящее время взывают все пламенные сердца и глубокие души, и которая, по словам великого историка будущего, станет в грядущем последней и окончательной формой поклонения и всей жизнью человечества» [Чаадаев, II, 100]. Это романтический синтез, а не вера отцов. После крушения режима Реставрации во Франции в 1830 г. Чаадаев чает спасения то ли от Сен-Симона, то ли от Ламенне, то ли от Шеллинга. Рим для него – «это связь между древним и новым миром», точка, в которой можно «конкретно, физиологически соприкоснуться со всеми воспоминаниями человеческого рода» [Чаадаев, II, 80]. Конечно, в этом нет ничего специфически христианского. Католицизм Чаадаева – это эпизод романтизма и рецидив александровской эпохи с ее теократическими мечтаниями (недаром портрет Александра висел у Чаадаева в кабинете рядом с портретами Римского папы и Пушкина).
XXI (С. 135). Экклезиологические взгляды славянофилов во многом определились во время спора о Церкви, который охватил скалдывающийся славянофильский кружок зимой – весной 1841–1842 гг. Непосредственными участниками спора были Ю. Ф. Самарин и А. Н. Попов. И. В. Киреевский также участвовал в полемике. Д. Ф. Самарин сообщает, что «сохранился набросок программы спора Самарина с Киреевским по этому вопросу». Местом споров были салоны, в том числе и салон Елагиных. При полной возможности устного общения Самарин и Попов писали друг другу письма – своеобразные конспекты своих речей (это вообще характерный прием для 1840-х годов). Эти письма до нас дошли (см. [Самарин, XII]). Характерно, что сохранились они в архиве Киреевского. По ним мы можем судить о ходе полемики. Точку зрения Попова можно считать в основном совпадающей с точкой зрения Хомякова и Киреевского.
Речь шла о приложимости к Церкви категории развития. «Мы, т. е. пока Аксаков и я, исповедуем Церковь развивающуюся», – формулирует свою позицию Ю. Ф. Самарин. В «полном, живом организме» Церкви он видит две стороны: «непосредственную жизнь, как конченную и всегда действительную, и сознание, постоянно развивающееся». Большую важность он отдает второй стороне, и смысл церковной истории для него состоит в том, что Церковь на Вселенских соборах «приводит к своему сознанию вечную, неисчерпаемую истину, которой она обладает», «сознает себя».
Ответную позицию А. Н. Попова (находившегося в то время под сильным влиянием А. С. Хомякова) можно сформулировать так: он исповедует Церковь не развивающуюся, но растущую (сам Попов от термина развитие не отказывается, но употребляет его в смысле, совершенно отличном от Самарина). Церковь для него – новое творение Божие, вновь созданное во Христе человечество. Развитие, рост Церкви состоит в присоединении к ней новых лиц, «в творении из них новых созданий». Церковь – не простое сообщество верующих, но живое тело, живой организм, по слову Апостола, которого глава Христос. Каждое присоединение к ней нового члена развивает ее организм».
Самарин называет философию «областью для себя чуждой», но гегельянский фон его рассуждений очевиден. Он смотрит на Церковь сквозь призму категорий гегелевой диалектики с ее саморазвивающейся к самосознанию Абсолютной Идеей. Экклезиология, выраженная в письмах А. Н. Попова, напротив, персоналистична и из немецкой философии невыводима. Здесь «привходит иной и новый опыт – опыт церковности» [Флоровский, 252].
XXII (С. 136). Характерно, что именно этих тем Жуковский касается в письме Гоголю «О поэте и современном его значении», опубликованном в 4 номере «Москвитянина» за 1848 г. В нем Жуковский развивает мысль о том, что поэзия есть «товарищество создания» с Богом. «Творец вложил Свой дух в творение: поэт, его посланник, ищет, находит и открывает другим повсеместное присутствие духа Божия» [ПСС, III, 229]. Жуковский говорит здесь о религиозном призвании и истоке искусства, но подчеркивает, что это не значит, что «поэт должен ограничиться одними гимнами Богу и всякое другое поэтическое создание считать за грех против Божества и человечества». Нет, «поэзия живет свободою; утратив непринужденность (похожую часто на причудливость и своевольство), она теряет прелесть; всякое намерение произвести то или другое определенное, постороннее действие, нравственное, поучительное или (как нынче мода) политическое, дает движениям фантазии какую-то неповоротливость и неловкость – тогда как она должна легкокрылою ласточкою, с криками радости, летать между небом и землею, все посещать климаты и уносить за собою нашу душу в этот чистый эфир высоты, на освежительную, беззаботную прогулку по всему поднебесью» [ПСС, III, 230]. Тайна освящающего действия искусства заключена не в предмете художественного изображения, а в душе самого художника.
XXIII (С. 149). В 1814 г. Л. Тик переиздал статьи В. Вакенродера отдельной книгой. В 1826 г. она была переведена на русский любомудрами С. П. Шевыревым, В. П. Титовым и Н. А. Мельгуновым. Жуковский в 1820-1830-е годы также находился под влиянием вакенродеровской традиции. Этот факт был неоднократно отмечен и отчасти исследован (см. [Янушкевич, 124–127], [Семенов]). Во время поездки 1821 г. в Германию русский поэт близко общался с Л. Тиком, который подарил ему экземпляр своего романа «Странствия Франца Штернбальда» с авторской правкой [Янушкевич 1987]. Книга эта, несомненно, привлекла внимание Жуковского и была им прочитана. Она сохранилась в его библиотеке. Но «Штернбальд» – это прежде всего художественная разработка идей Вакенродера. Как признавался сам Тик, эта книга «перекликается с вакенродеровским „Отшельником“» [Тик, 224], по крайней мере, задумывался роман, видимо, Тиком и Вакенродером вместе. Впрочем, Жуковский был знаком и с самими статьями Вакенродера, в том числе и по русскому переводу, сохранившемуся в его библиотеке. Прямой перекличкой с Вакенродером наполнены многие его письма, стихотворения и очерки 1820-х годов.
XXIV (С. 149). Это нередко приводило к обвинениям славянофилов в непоследовательности и неискренности: обличая Европу, они пользуются идеями западных мыслителей. Такие разные люди, как Ф. Ф. Вигель и Б. Н. Чичерин с пренебрежением считали их «немцами». Но о болезни рационализма, угрожающей Западу, говорили не только романтики, – достаточно вспомнить «философию веры и чувства» XVIII в. Можно заглянуть и еще дальше: «мертвяще-холодная безжизненность науки, знания, – эта тема трагедии Фауста, давно уже стала избитым местом» (Флоровский). С другой стороны антирационализм в смысле неприятия отвлеченного логицизма немецкой философии был свойственен и Герцену, и Белинскому, например. Герцен искал выхода из него в обращении к позитивной науке.
В цикле статей «Дилетантизм в науке» Герцен строит своеобразный романтический проект, с реальной наукой, впрочем, имеющий мало общего (см. [Менцин]). Славянофилы оценили науку более сдержанно. Для них она – сфера формального разума и к реальной действительности имеет отношение лишь косвенное. Один из споров на тему о науке Герцен записал в своем дневнике 5 апреля 1843 г.: «Длинный разговор о философии с Ив.<аном> Киреевским. <…> Наука, по его мнению, – чистый формализм, самое мышление – способность формальная, оттого огромная сторона истины, ее субстанциальность, является в науке только формально и, след<овательно>, абстрактно, не истинно или бедно истинно. Философия не может решить свою задачу, не достигнет примирения и истины, потому что ее путь недостаточен…» [Герцен, II, 274]. Герцену, собственно, нечего возразить на это. Он признает, что «наука par droit de naissance абстрактна и, пожалуй, формальна» [Герцен, II, 274], она не вмещает в себя жизни, хотя, быть может, отражает ее диалектическую основу. Об этом Герцен пишет в своей статье «Буддизм в науке», которая при чтении ее И. В. Киреевскому и А. С. Хомякову произвела большой эффект и вызвала их рукоплескания [Герцен, II, 281].
XXV (С. 156). Вот как этот опыт излагается в одной из современных духовных книг: «наука и философия ставят себе вопрос: «ЧТО есть истина?», в то время как подлинное христианское религиозное сознание всегда обращено к истине «КТО». <…> Истина «КТО» рассудком никак не познается. Бог «КТО» познается только через общение в бытии. <…> Православное богосозерцание не есть отвлеченное созерцание Блага, Любви и прочего. Не есть оно и простое совлечение ума от всех эмпирических образов и понятий. Истинное созерцание ДАЕТСЯ Богом через пришествие Бога в душу <…>. Подлинная духовная жизнь чужда воображения, но во всем до конца конкретна и положительна. Подлинное богообщение ищется человеком не иначе, как чрез личную молитву к Богу Личному» [Силуан, 103–104].
XXVI (С. 158). Что касается святоотеческой литературы, то особое значение для него, несомненно, имели «Слова подвижнические» преп. Исаака Сирина. Эту книгу Киреевский впервые прочитал в 1836 г. О некоторых темных для него местах он спрашивал у старца Филарета Новоспасского. В статье «В ответ Хомякову» (1839 г) Киреевский называет ее «глубокомысленнейшим из всех философских писаний» [Киреевский 1998, 162]. Видимо, именно учение преп. Исаака о трех образах ведения открыло столь важную для него мысль, что «образ разумной деятельности изменяется, смотря по той степени, на которую разум восходит». Киреевский участвовал и в публикации церковнославянского (старца Паисия Величковского) перевода этой книги, который, как он считал, «гораздо превосходнее русского», подготовленного в МДА. В 1853 г., в день, когда была закончена корректура этой книги, он записал в своем дневнике: «Слава Богу, что удалось мне хотя чем-нибудь участвовать в издании этой великой мудростью духовной книги» [Das Tagebuch, 185].
Круг богословского чтения Киреевского в 1840-х годах вообще был довольно обширным. Из одного из писем нач. 1840-х годов видно, что он собирался изучать даже Оригена (может быть, это связано с замыслом «Истории Древней Церкви»). Но главными для его мысли были именно писания отцов-аскетов.
В литературе, правда, существует мнение Ю. В. Манна, который вслед за Э. Мюллером утверждает, что наследование Киреевским святоотеческой традиции, «не было прямым и порою приобретало драматический характер. Это были диалогические отношения» [Манн 1991, 110]. Тезис подтверждается ссылкой на различие «развиваемой Киреевским категории цельного знания» (необходимого для постижения истины) от «очищения сердца» преп. Исаака Сирина. «Очищение сердца как предпосылка мистического видения определенно означает у Исаака Сирина не собирание различных способностей, с помощью которых оно (сердце) соотносится с предметом, но, напротив, разрыв, исключение каких-либо предметных связей. Целостность Киреевского и очищение Исаака Сирина противостоят как полнота и пустота» [Манн 1991, 110], – приводит Ю. В. Манн цитату из книги Э. Мюллера Russischer Intellekt in europaischer Krise. Ivan V. Kireevsky (1806–1856). Но для определения того средоточия, той сущности человека, о которой идет речь и у Киреевского, и у преподобного Исаака Сирина применимы термины и «пустоты», и «полноты» – они равноправны, как равноправны апофатический и катафатический методы богословия, ибо речь идет о личности, которая, естественно, ни с чем не сравнима и, следовательно, принципиально неопределима.
Добавим здесь еще одно свидетельство того, что «развиваемая Киреевским категория цельного знания» «как мобилизации всех душевных и интеллектуальных сил в некоей высшей познавательной способности» была совершенно в русле традиций Оптиной пустыни. 14 ноября 1909 г. послушник Николай Беляев записал в дневнике слова своего наставника, одного из последних оптинских старцев схиархимандрита Варсонофия (Плиханкова), сказанные им о таком «высшем познавательном состоянии: «В сущности говоря, это означает соединение всех сил душевных воедино для устремления их всех к Богу, что невозможно при разъединенности их» [Никон (Беляев), 136]. Эти же слова мог бы повторить и И. В. Киреевский.
XXVII (С. 159). Интересно то, что в христианской философии Жуковского, который с церковно-аскетическим преданием почти не соприкоснулся, выделяются, хотя в менее явном виде, те же черты. Так же, как и Киреевский, он утверждает, что вера основывается не на логических доводах, а потому требует от человека выйти за пределы формального разума: вера «есть произвольное действие души, принимающей что бы то ни было без убеждения или до убеждения рассудка». Также, как и Киреевский, он считает, что вера возможна лишь при целокупном действии всех сил души: «Вера есть … результат сих трех врожденных сил души: чувства, постигающего откровение, разума, смиряющегося пред непостижимым, и воли, принимающей его непринужденно». Жуковский настойчиво подчеркивает свободный характер веры: «Вера есть верховное действие нашей свободы» [ПСС, III, 289–292].
Но, в отличие от Киреевского, для Жуковского вера остается преимущественно гносеологической категорией, и не переходит в онтологический план. Вера – это всегда в конечном итоге доверие. Она никогда не превращается в знание. Вера – это всегда вслепую, иначе она перестанет быть верой. Для Киреевского же вера и знание – это в конце концов одно и то же. «Вера не противуположность знания: она его высшая ступень, – записал он в дневнике 24 августа 1852 г. – Знание и вера только в низших степенях своих могут противупологаться друг другу, когда первое еще рассуждение, а вторая предположение» [Das Tagebuch, 173]. Вера – это ведение вещей Божественных; то, что принято называть разумом – ведение земных вещей. Он мог бы повторить вслед за митрополитом Вениамином (Федченковым) вытекающую из православного духовного предания мысль: «Всякое познание … происходит от бытия» [Вениамин (Федченков), 215]. Вера – это знание, а знание – это со-бытие. Вера – со-бытие с Богом. Жуковский так сказать не мог. Он мыслит в других категориях и никогда не говорит, что вера – это боговидение. В этом сказывается отличие его духовного опыта от духовного опыта Киреевского. Но несмотря на эту разницу, мы видим, что в их гносеологии много общего.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































