Текст книги "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма"
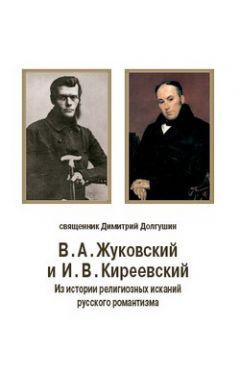
Автор книги: Дмитрий Долгушин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Он спрашивает у старца совета и благословения по самым разным поводам: и собираясь отдавать сына в Лицей, и собираясь напечатать статью, и принимая то или иное решение по хозяйству. И. В. Киреевский признается, что молитвы старца для него – «незаслуженный мною … дар Божий на подкрепление шатких и слабых к добру движений моего сердца» [Четвериков 1988в, 128]. «Низко кланяюсь Вам, прошу Вашего благословения и Ваших святых молитв, чтобы Господь простил мои согрешения вольные и невольные и изменил бы милосердно мою внутреннюю и внешнюю жизнь на лучшую, твердо и до конца» [Четвериков 1988в, 142], – пишет он старцу Макарию, собираясь исповедоваться и причащаться, 18 ноября 1852 г.
Киреевский встал не только на путь послушания старцу в житейских вопросах, но и на путь «умственного послушания». Об этом свидетельствует история его участия в издательской деятельности Оптиной пустыни.
На долю Киреевских в ней выпало, в основном, держать корректуры, осуществлять связи с цензурой (духовным цензором изданий был протоиерей Феодор Голубинский), типографией и с московским митрополитом Филаретом, покровительствующим оптинским изданиям. Но часто старец Макарий просил у И. В. Киреевского совета в литературных затруднениях, встречающихся при переводе, или чего-то вроде рецензии на уже сделанную работу. Иногда Киреевскому приходилось и готовить рукописи к печати или помогать старцу Макарию в переводе.
Всего более И. В. Киреевский боялся уподобиться тем «ученым исправителям», которые, по его выражению, вторгаются с требованиями своего «естественного разума» в сферу, доступную лишь разуму духовному и потому «больше мешают, чем помогают» [Четвериков 1988в, 124]. Он с благоговением относится к тексту, написанному старцем Паисием (Величковским) – человеком святой жизни, и боится хотя бы и невольным вмешательством своего «голого разума» разрушить живой организм этого текста, как-нибудь погрешить против истины, в нем заключенной, полностью полагается здесь на мнение старца Макария и не дерзает хоть сколько-нибудь спорить с ним.
Подчас Киреевский избегает давать советы старцу Макарию даже в тех случаях, когда речь идет о вещах отнюдь не духовных. Так, в письме от 29 июля 1852 г. старец Макарий просит у И. В. Киреевского совета, будет ли правильно с грамматической точки зрения писать: «вопрос тогоже к томуже» или нужно каждый раз повторять имена вопрошающего и вопрошаемого [Макарий (Иванов) – Киреевскому, лл. 8–8 об.]. И. В. Киреевский старается уйти от ответа, отговаривается незнанием текущей литературы, тем более, что ему известно, что в это время в Оптиной гостит профессор словесности Московского университета С. П. Шевырев [Четвериков 1988в, 132]. Старец Макарий в письме от 8 августа 1852 г. вынужден заметить:
Вы не дали мне настоящего решения на вопрос мой о повторении в вопросах и ответах в книге Варсонуфия Великого, и, конечно, не от незнания литературы, а от смирения вашего, и понадеялись, что мы спросим о сем у Степана Петровича Шевырева [Макарий (Иванов) – Киреевскому, л. 12].
В предыдущем письме (от 6 августа) старец Макарий также упомянул об одном недоумении:
Заметьте в 17 слове (преп. Исаака Сирина. – Д.Д.) в конце оного есть о устроении видимого мира, написано по древней системе Птолемеевой; то нынешние читатели, убежденные в системе Коперника, подвергнут критике такое мнение и могут порочить все учение. Или объяснить это место или совсем оставить [Макарий (Иванов) – Киреевскому, л. 11].
И. В. Киреевский и тут не позволяет себе советовать старцу и пишет ему в ответ:
Сомнение Ваше о том, не повредит ли некоторым то мнение, которое Ис<аак> Сирин имел о положении Земли, если это мнение оставить без примечания, я представлю на рассуждение митрополита (Филарета (Дроздова). – Д.Д.) [Четвериков 1988в, 135].
И. В. Киреевский поверял свои мнения благословением старца не только в вопросах, связанных с изданием святоотеческих рукописей, но и в своих философских занятиях. Обе главные статьи И. В. Киреевского, опубликованные в 1852 и 1856 гг., вышли по благословению старца Макария. В 1852 г. Киреевский отправил ему на прочтение свою статью «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» и просил старца:
Благословите ее (статью. – Д.Д.) быть на пользу. Если что сказано мною противно истине, или неверно, или излишне, прошу Вас вычеркнуть или изменить [Четвериков 1988в, 164].
Каждое замечание Ваше будет для меня драгоценно [Четвериков 1988в, 131].
Хотя я думаю, что говорю истину, однако же чувствую в то же время, что судить об этом могут только такие люди, как Вы. А мне не хотелось бы сказать ничего неистинного или неверного, особливо об учении святых Отцов [Четвериков 1988в, 132].
Старец Макарий следил за литературной деятельностью Киреевского и очень ценил то, что составляло ее лейтмотив – желание «согласить» православие и современную образованность. Он поощрял его к философским занятиям в этом направлении.
Зимой 1855 г. старец деликатно, но настойчиво напомнил И. В. Киреевскому о его намерении продолжить свою статью «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». И. В. Киреевский с благодарностью принял напоминание. В письме старцу от 6 февраля 1855 г. он писал: «от всей души… благодарю Вас за благосклонное напоминание Ваше о моем намерении написать продолжение моей первой статьи. <…> по Вашему святому благословению я думаю начать на этих днях» [Четвериков 1988в, 187]. В результате Киреевским была написана «О необходимости и возможности новых начал для философии» – статья, опубликованная уже посмертно, во втором номере «Русской беседы» за 1856 г.
Анализ отношений И. В. Киреевского со старцем Макарием показывает, сколь сильно было влияние православного духовного предания на Киреевского в 1840-1850-е годы, и подтверждает вывод В. А. Котельникова о том, что Киреевский «и сам был «духовным тружеником» и, «в сущности, принадлежал к оптинскому подвижничеству, приобретал там собственный опыт «внутреннего устроения», проходил свой искус под руководством старца, внося в свою душевную жизнь (и даже в быт) черты аскезы» [Котельников, № 3, 7]. Киреевский, утверждает В. А. Котельников, был одновременно и вопрошателем, и «крупнейшим духовным вкладчиком Оптиной» [Котельников, № 3, 11].
Связь с Оптиной у Киреевского не исчерпывается отношениями с иеромонахом Макарием (Ивановым), хотя они и лежат в ее основе. Он близко знал сотрудников старца Макария по изданию святоотеческих книг – будущего старца Амвросия (Гренкова), Л. А. Кавелина, И. А. Половцева.
Супруги Киреевские старались использовать дружеские связи Ивана Васильевича, чтобы помогать Оптиной, и не только в издательских делах. Так, Наталья Петровна просила М. П. Погодина всегда помещать в «Москвитянине» объявления об оптинских изданиях [Киреевская – Погодину, л. 23]. Когда возникла угроза перевода старца Макария в другой монастырь, Киреевские просили Погодина воспользоваться дружбой с архиепископом Иннокентием (Борисовым), чтобы предотвратить этот перевод (см. [Киреевский – Погодину, л. 8]).
Ближайший друг И. В. Киреевского С. П. Шевырев оказал в 1852 г. монастырю существенную услугу, выхлопотав в Министерстве государственных имуществ участок земли (пустошь Прость) для «скудной способами к сущестованию обители» [Моисей (Путилов) – Шевыреву, л. б][86]86
См. об этом письма Шевыреву настоятеля Оптиной пустыни архимандрита Моисея (Путилова) [Моисей (Путилов) – Шевыреву, л. 1–6 об.].
[Закрыть].
Через Киреевских с Оптиной сблизились не только Погодин и Шевырев, но и П. В. Киреевский, и А. И. Кошелев (он имел намерение побывать в Оптиной и передал в дар старцу Макарию одну из богословских французских брошюр А. С. Хомякова), а также Н. В. Гоголь (см. [Воропаев 2008]).
Отдельным сюжетом могла бы быть совершенно неисследованная тема об отношениях Киреевского с игуменом Антонием (Бочковым), в молодости писателем романтического направления, затем духовным сыном старца Леонида (Наголкина) и настоятелем Череменецкого монастыря (см. о нем [Исаков], письма игумена Антония Киреевскому хранятся в РО РГБ). Кроме того, как известно, Киреевский сыграл важнейшую роль в обращении и сближении с Оптиной К. К. Зедергольма (будущего иеромонаха Климента) (см. [Леонтьев, 4–5], [Das Tagebuch, 177 и др. ], [Четвериков 1988в, 153–155]).
Необходимо сказать несколько слов об отношениях Киреевского и Жуковского со святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским. Митрополит Филарет был не только мудрым архипастырем, с именем которого связано почти полвека истории Москвы, он был подвижником, хотя его духовный подвиг был совершенно скрыт от людских глаз, и старцем, хотя духовным его руководством могли пользоваться, конечно, сравнительно немногие. Среди них – и супруги Киреевские.
Наталья Петровна вспоминала 14 декабря 1867 г. в письме епископу Савве (Тихомирову):
Господь привел мне быть близкой к Великому святому старцу в продолжении 28-ми лет, с 1842-го г., по кончине старца нашего о. Филарета Новоспасского, Владыка Митрополит не отказал принять меня недостойную – под свое руководство духовное и был моим старцем [Киреевская – Савве (Тихомирову), л. 13].
Она пишет «по кончине старца нашего», и это означает, видимо, что иеромонах Филарет (Пуляшкин) был старцем и для московского митрополита. И в самом деле, известно, что митрополит Филарет глубоко почитал старца Филарета Новоспасского, пользовался его советами и не раз посещал его.
Последний раз побывал Филарет у старца 16 августа 1842 г. за несколько дней до его блаженной кончины (+28 августа), возвращаясь из Спасо-Андронникова монастыря от литургии. Святитель сам совершил заупокойную литугрию и отпевание блаженного старца, а во время пения антифонов на погребение иноков не удержался от слез – так он горячо любил святого подвижника [Иоанн (Снычев), 291].
Общее духовное руководство у старца Филарета, несомненно, сблизило сначала Наталью Петровну, а затем и И. В. Киреевского с московским митрополитом. Через них сблизился с московским владыкой и старец Макарий Оптинский [X].
И. В. Киреевский глубоко почитал свт. Филарета как проповедника и богослова, считал, что в его проповедях «много бриллиантовых камушков, которые должны лежать в основании Сионской крепости» [Киреевский, II, 258] церковного богословия, и с радостью готов был публиковать их в «Москвитянине».
Киреевский относился к митрополиту и как к старцу, пользуясь его советами и благословениями, и свою статью «О просвещении…» перед напечатанием посылал для предварительного прочтения не только к преп. Макарию, но и к московскому владыке. Личная святость свт. Филарета была для него, как и для Натальи Петровны, несомненна. «Ни разу, кажется, не бывал я у М<итрополи>та, не чувствуя себя проникнутым благоговением. Особенное чувство близости святыни, чувство и трепетное, и радостное» [Das Tagebuch, 185], – записал он в дневнике 7 ноября 1853 г. после одного из таких посещений.
Жуковский, служа при дворе, неоднократно также имел случаи слушать и видеть митрополита и, вероятно, беседовать с ним. Он высоко ценил его опытность и богословские познания. По крайней мере, когда А. Н. Муравьев спрашивал мнения Жуковского о рукописи своей знаменитой в будущем книги «Путешествие к святым местам», то поэт делал замечания лишь по поводу стиля, а «в вопросах церковных он смиренно обращал меня к опытной мудрости митрополита Московского, что и послужило началом моего знакомства с сим великим Святителем»[87]87
Знакомство с митрополитом Филаретом, состоявшееся благодаря совету Жуковского, произвело огромное впечатление на А. Н. Муравьева. Его отношение к московскому владыке напоминает отношение Киреевского. «Итак, вот начало моего знакомства с знаменитым Архипастырем, которое имело такое влияние на все мое литературное поприще, ибо от него заимствовал я те церковные познания, которые нигде иначе не мог бы приобрести, – вспоминал А. Н. Муравьев в 1857 г. – Как сравнить с каким-либо книжным преподаванием то глубокое учение, вместе богословское и церковное, которое почерпал я прямо из источника, можно сказать, из самого родника нашего богословия, и это из уст – в уста, в живых вопросах и ответах с совершенною свободою духа, в продолжение часов назидательной беседы, и почти ежедневно в течение многих лет, ибо вот уже 26 лет, как я неизменно пользуюсь милостивым расположением Владыки, и даже осмеливаюсь, если только это не слишком самонадеянно, назвать себя его учеником» [Муравьев, л. 10–10 об.].
[Закрыть], – вспоминал Муравьев [Жуковский в воспоминаниях, 309].
И все же близких, тем более духовных, отношений между Жуковским и митрополитом Филаретом не сложилось. Темы «Жуковский и митрополит Филарет» касается в своей статье A. Л. Зорин [Зорин]. Он, в частности, пишет, что в александровскую эпоху митрополит Филарет «не только ориентировался на господствующие мистические настроения, но во многом и определял их» [Зорин, 122] и поэтому занимал «особое место» «в жизни Жуковского и его окружения». Конечно, вопрос о влиянии «духовного красноречия» московского святителя на поэзию Жуковского требовал бы особого исследования, но нужно помнить, что несмотря на почти неизбежное в то время увлечение мистической литературой, свт. Филарет всегда «оставался церковно твердым и внутренне чуждым этому мистическому возбуждению» [Флоровский, 169]. Ни о какой «церковной твердости» ни Жуковского, ни А. И. Тургенева в это время не приходится и говорить.
Другой вопрос связан с позицией архимандрита Филарета (ибо епископом он стал только в 1817 г.) по поводу женитьбы Жуковского на Маше Протасовой. А. Л. Зорин напоминает, что свт. Филарет «на вопрос А. И. Тургенева заявил, что не видит препятствий к браку Жуковского с Машей» [Зорин, 122]. Это сообщение, встречающееся во многих работах, основывается, видимо, исключительно на упоминании в книге К. К. Зейдлица. Если так, то к нему следует отнестись с осторожностью. Известно, что митрополит Филарет строго придерживался духа и буквы канонов, особенно в брако-семейных вопросах. «Правила о родстве в брачных делах Филарет соблюдал очень тщательно» [Иоанн (Снычев), 302], – говорит его жизнеописатель. В 1826 г. ему пришлось столкнуться с почти такой же ситуацией, что и у Жуковского.
Флигель-адъютант А. П. Мансуров вступил в брак с двоюродного своею сестрой княжной А. И. Трубецкой и 12 ноября 1826 г., с ведома великого князя Михаила Павловича, был обвенчан в церкви военного ведомства. Московский святитель признал этот брак преступным и возбудил дело против Мансурова и священника, совершившего таинство над нарушителями святости брака. В защиту Мансурова выступил бывший обер-прокурор Святейшего Синода А. Н. Голицын и сам император Николай I [Иоанн (Снычев), 187].
Несмотря на это, митрополит Филарет дела не прекратил и скорее был готов уйти на покой, чем согласиться с нарушением канонов. Чтобы успокоить его, Мансурова отправили за границу. Он служил при русской дипломатической миссии в Берлине (Жуковский, кстати, неоднократно бывал у него). Трудно предположить, что даже за десять лет до этой истории, потребовавшей от него исключительного мужества и твердости, свт. Филарет мог соглашаться на брак Жуковского с Машей – дяди с племянницей!
О том, что митрополит Филарет обращал особое внимание на соблюдение канонических норм брака, свидетельствует и запись в его записной книжке, хранящейся в РНБ. В эту книжку им были выписаны по алфавиту заметки по различным каноническим и богословским вопросам (очевидно, она служила митрополиту своего рода домашним справочником). На л. 5 (под литерой «Д») читаем запись, связанную с интересующей нас темой: «Двоюродные браки невозбраненными и вновь возбраненными почитает Бл.<аженный> Авг.<устин> О гр.<аде> Б.<ожием> К.<нига> 15 г.<лава> 16» [Филарет, л. 5]. В указанной главе знаменитого трактата блаженного Августина речь идет о том, что, хотя в первоначальные времена человеческой истории такие браки и были допустимы, но теперь их следует признать недозволенными, «запрещенными» [Августин 1994, 103–106].
Подводя итоги, можно сказать, что для Жуковского, в отличие от Киреевского, православное духовное предание[88]88
Напомним, что этот термин мы, вслед за архиепископом Василием (Кривошеиным), употребляем не для обозначения православия вообще, а для обозначения духовно-асктеической традиции, возрожденной трудами последователей преп. Паисия (Величковского).
[Закрыть] осталось практически неизвестным. Духовные знакомства его были связаны, в основном, с далекими от паисиевской традиции людьми. Пожалуй, наиболее близко из духовных лиц в 1820-1830-е годы Жуковский знал протоиерея Герасима Павского.
Павский, выдающийся филолог и библеист, был настроен по отношению к современному ему монашеству более чем критически. Сам он два раза (по окончании Санкт-Петербургской академии в 1816 г. и после смерти жены в 1824 г.) резко отверг предложение митрополита Филарета (Дроздова) принять постриг. Разразившуюся над ним в 1835 г. бурю (когда Павский был обвинен в неправильном преподавании Закона Божия наследнику престола) он также рассматривал исключительно как дело зависти, плод интриг монашествующих архиереев, не желавших возвышения белого священника, назначенного законоучителем помимо их желания. Жуковский, как всегда бывало в таких случаях, вступился за своего сотрудника, но вся эта история, во время которой Павский во многочисленных письмах поэту описывал козни своих врагов, просил напоследок о расширении квартиры, повышении пенсии и награждении митрой ([Павский – Жуковскому 1], [Павский – Жуковскому 2], [Павский – Жуковскому 3], [РА 1887, кн. 2]), вряд ли способствовала укреплению его духовного авторитетат в глазах Жуковского. Впрочем, поэт и после отставки Павского некоторое время поддерживал с ним отношения. Так, в 1835 г. Павский по его просьбе помог подготовить к прохождению через духовную цензуру «Рассказов из Священной Истории» А. П. Зонтаг [УС, 110][89]89
Подробнее об отношениях Жуковского с Павским см. с. 247–248.
[Закрыть].
В 1840-е годы, когда его религиозные искания усилились, Жуковский, вероятно, желал встречи с человеком, который бы мог раскрыть ему православное духовное предание во всей полноте, но круг зарубежного духовенства был очень узким и специфическим. В Германии духовником поэта стал протоиерей Иоанн Базаров. Он приехал за границу только что рукоположенным, молодым (24 года) и неопытным священником, и, по крайней мере поначалу, скорее он учился у Жуковского, чем Жуковский у него[90]90
См. [Письма Базарову], о Базарове см. [Родосский] и мемуары Базарова в «Русской старине» 1901.
[Закрыть].
Вот что вспоминает Базаров о первой исповеди, принятой им у Жуковского:
Как первые крестины были для меня в доме Жуковского, так и первая исповедь, которую мне пришлось совершать, была также над ним. Я не забуду, как меня, молодого и неопытного духовника, подавлял собою авторитет этого тогда уже маститого поэта, которого мы изучали в школах как одного из важнейших корифеев нашей отечественной литературы. Выслушав его глубокую, можно сказать высокохристианскую, исповедь, я не мог ему ничего другого сказать, как сознаться в своей молодости и пастырской неопытности перед ним. В ответ на это он поцеловал мне руку, сказав: «Лучше этого урока смирения вы и не могли мне преподать» [Жуковский в воспоминаниях, 450–451].
Несомненно, за годы пастырского служения Базаров опытность постепенно приобретал. Он стал одним из наиболее близких Жуковскому духовно людей. Именно ему Жуковский хотел доверить подготовку к переходу в православие своей жены, именно с ним советовался по разного рода богословским и духовным вопросам, именно его привлекал к осуществлению своих церковно-просветительских проектов 1840-х годов (перевод на русский язык книги немецкого богослова Штира, издание трактата А. С. Хомякова «Церковь одна»).
Ему довелось напутствовать Жуковского перед кончиной[91]91
Двоюродный брат жены В. А. Жуковского X. Рейтерн рассказывал в письме П. А. Плетневу о последних часах Жуковского: «В понедельник приехал в Баден иерей Базаров из Штутгардта – присутствие этого почтенного священника, давно знакомого Василию Андреевичу, давно им любимого и почитаемого, подействовало благодетельно на больного. Неоднократно иерей Базаров был требован больным, который всякий раз после его посещения становился спокойнее» [Рейтерн, л. 1 об.].
[Закрыть], и он же вскоре после смерти Жуковского совершил чин присоединения к православию его жены [XI].
Глава 8. В. А. Жуковский и И. В. Киреевский в русских общественных спорах 1840-х годов
IВ 1837 г. Киреевский и Жуковский виделись, вероятно, в последний раз в жизни. Мы не знаем, встречались ли они в 1839 г. во время приезда Жуковского на празднование Бородинской годовщины, по крайней мере, в дневнике Жуковского о встречах не упоминается. Когда поэт приехал в Москву в 1841 г., Киреевского там не было: эту зиму он с семьей проводил в Долбино. Жуковский остановился у А. П. Елагиной. В письме к мужу от 3 февраля 1841 г. Авдотья Петровна рассказывает о московской жизни Жуковского:
Утро он дома у тетушки[92]92
Е. А. Протасовой, которая в это время несколько дней жила у Елагиной.
[Закрыть] (то есть когда дома) пишет и ходит по комнатам, в шесть часов после обеда все являются ко мне… – До сих пор вечера у меня, но и утра у меня, чему я очень рада. Ж<уковский> на всю неделю разобран и ездит обедать то туда, то сюда [Канторович, 181].
Около 29 апреля 1841 г. И. В. Киреевский в письме матери интересовался: «Долго ли Жуковский останется в Москве?» [Киреевский – Елагиной 31, л. 5 об.]. Однако к тому времени Жуковского в Москве уже не было, он был в Петербурге, где улаживал последние дела перед отъездом в Германию для женитьбы на Елизавете фон Рейтерн. 21 мая 1841 г. поэт сочетался с ней узами брака, и для него началась новая, семейная жизнь, полная новых забот, беспокойств и подчас драматических переживаний.
30 октября 1842 г. у Жуковских родился первенец – дочь Александра. На третий день после ее рождения, 2 (14) ноября поэт писал Киреевским:
Милые друзья Иван Васильевич и Наталья Петровна, обнимая вас от всего сердца, сообщаю вам свою радость, посланную мне Господом Богом. Он даровал мне дочь. Все остальное идет благополучно. Более мне сказать вам нечего: я хотел только, чтобы вы имели прямо от меня весть о моем несказанном счастии. Вы разделите его нежным, дружеским сердцем и будете, конечно, молить Бога, чтобы Он сберег мне то, что даровал мне так милостиво. Целую вас и ваших детей. Жуковский [Жуковский – Киреевскому, л. 12].
То, что за всеми радостными и тревожными (роды были тяжелыми, и «ребенок родился синим и без голосу» [ПССиП, XIV, 268]) хлопотами этих дней поэт не забыл о сыне своей «долбинской сестры», свидетельствует, конечно, об особенно близком, доверительном отношении его к Киреевскому. 6(18) ноября состоялись крестины. Крестными новорожденной Александры Жуковской заочно были Е. А. Протасова и Й. Радовиц, А. П. Елагина и И. Ф. Мойер [ПССиП, XIV, 270].
Как известно, после свадьбы Жуковский собирался вернуться в Россию, но болезнь жены помешала ему выбраться из чужих краев. Ниточками, связывающими его с Россией, стала, во-первых, переписка, а во-вторых, посещения его русскими путешественниками. В 1841 г. навестила Жуковского А. П. Елагина, отправившаяся в Германию специально, чтобы познакомиться с его новой семьей. В этом же году был у него М. П. Погодин. В 1847 г. поэт «триумвиратствовал» с Н. В. Гоголем и приехавшим к ним А. С. Хомяковым. В 1851 г. у него гостил А. И. Кошелев. Особое значение имели для Жуковского письма из России. В его жалобах П. А. Плетневу на эпистолярное молчание знакомых (А. Я. Булгакова, А. О. Смирновой, М. Ю. Виельгорского) слышится не только обида на невнимание, но и боль оторванности от того, что происходит на Родине.
Что же там происходило? С внешней стороны не происходило ничего особенного. Был полдень николаевского царствования, и Россия казалась то ли неколебимой и спокойной твердыней, то ли холодным айсбергом посреди бушующего моря Европы. Но к этому времени особенно приложимо наблюдение П. Н. Савицкого, сделанное им когда-то относительно всего 19 столетия: «весь он таков – русский XIX век: красочный и двойственный, внешне спокойный, внутреннее напряженный, отображающий борьбу спорящих друг с другом о господстве подземных, вулканических сил» [Савицкий, 60].
«Сороковые годы» проходят в борьбе и споре. Спорят западники и славянофилы, спорят внутри этих кружков, наконец, по выражению Ю. Ф. Самарина, ведут спор с самим собой. И эти споры – не просто салонное «изящное разномыслие». В них ставятся последние, предельные вопросы, от которых зависело нечто большее, чем самолюбие собеседников. Что-то важное решалось в сороковые годы. И. М. Андреев считает – «в незримых исторических глубинах решалась судьба России» [Гоголь, VI, 415]. Это был духовный пролог русских судеб последующего столетия. Страна уже тогда была «накануне»: от 1840-х годов тянутся прямые нити к эпохе реформ и далее – к 1880-1890-м и предреволюционным годам. Может быть, смутное ощущение этого «накануне» и придавало спорам такую напряженность и остроту[93]93
Лучшее описание философической атмосферы 1830-1840-х гг., атмосферы «философского пробуждения» и «неистового гегельянства», можно найти в работах протоиерея Георгия Флоровского [Флоровский] и Д. И. Чижевского [Чижевский]. Между прочим, яркую ее зарисовку дает библиографическая статья Киреевского «"Опыт науки философии". Сочинение Ф. Надеждина».
[Закрыть]. Какова их тема? В центре этих споров – не политические и социальные, а философские, точнее – религиозные вопросы. Ю. Ф. Самарин в 1865 г. так вспоминал о временах своей юности:
…вероятно, покажется странным, <…> что люди неглупые могли так долго жить и жить умственною жизнью, в области отвлеченного умозрения, повернувшись спиною к вопросам политическим. Между тем, это несомненно. <…> О политических вопросах никто в то время не толковал и не думал. Это составляло одну из отличительных особенностей московского учено-литературного общества сороковых годов, которой не могли объяснить себе люди предшествовавшей эпохи [Самарин 1997, 134].
О Белинском именно этого времени И. С. Тургенев пишет:
Его снова начали тревожить те вопросы, которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, особенно в молодости: философические вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к Божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т. п. <…> Он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. <…> Его невозможно было остановить, когда он говорил о них. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, – сказал он мне однажды с горьким упреком, – а вы хотите есть!..» [Тургенев 1977, 486–488].
Можно сказать, что в центре споров 1840-х годов стоит религиозный вопрос о человеке, о личности, о смысле жизни.
Совершенно неправильно пытаться разрешить проблему западников и славянофилов методами социологии или политологии. Как верно заметил Г. В. Флоровский,
не в области общественно-исторического миросозерцания возник раздор; раскол совершился и раньше, и глубже – в сфере идеалов. И более того, прежде, чем стать двумя антагонистическими идеологиями, «славянофильство» и «западничество» были двумя психологическими типами, двумя различными мироощущениями [Флоровский 1998в, 35], корень этого «великого раскола» лежал в различном понимании идеи личности… [Флоровский 1998в, 34].
Жуковский мог участвовать в этих спорах только заочно – своими статьями и письмами. Киреевский же почти постоянно находился в их эпицентре. В литературе распространилось мнение о том, что с середины 1830-х годов он старался устраниться от общественной жизни и уединиться в деревне, но это не совсем верно. В Долбине его держало не столько отвращение к столичной жизни, сколько нужда: в поместье жить было гораздо дешевле, чем в Москве – а семейство Киреевских увеличивалось[94]94
В одном из писем 1836–1837 годов Киреевский, отвечая на совет А. П. Елагиной жить в Москве («решись, пожалуйста, жить в Москве и не езди в деревню. Деревня убийственна!» [Елагина, лл. 38 – 38 об]), писал: «Благодарю Вас также за совет Ваш переехать в Москву; он был бы нам очень по сердцу, если бы был возможен. Но Вы сами знаете, что дела наши еще долго не позволят нам иметь это удовольствие» [Киреевский – Елагиной 29, л. 39].
[Закрыть]. Принимаясь в 1844 г. за «Москвитянин», Киреевский мечтал поправить свои финансовые дела и надеялся, что
если журнал пойдет, то даст мне возможность не жить в деревне, которую я не умею полюбить, несмотря на многолетние старания, и позволит мне жить в Москве, которую я, также несмотря на многие старания, не умею отделить от воды, от воздуха, от света [Киреевский 1998, 400].
Мировоззренческая позиция Киреевского в спорах 1840-х гг. определена тем церковным опытом, который он приобрел благодаря чтению святоотеческой литературы и общению со старцами Филаретом, Макарием и митрополитом Филаретом Московским. Первое произведение, свидетельствующее о мировоззренческой перемене, – это повесть «Остров», над которой Киреевский работал в 1838 г. «Теперь я в писательском благоволении, – сообщал он в одном из писем матери, – <…> Я писал сказку, которая идет <…>» [Киреевский – Елагиной 30, л. 3 об.]. В другом письме он обращается к сестре: «К Маше вот просьба: мне очень нужно знать подробности о конгрессе в Вене 1815 года, т. е. не в политическом отношении» [Киреевский – Елагиной 30, л. 2 об.]. Несомненно, эти сведения нужны были ему для «Острова».
«Остров» – произведение с изрядной долей автобиографизма. Киреевский, вероятно, собирался провести своего главного героя Александра Палеолога [XII] сквозь все круги европейской образованности, чтобы в конце концов вернуть его к любомудрию святых отцов, сокровищнице Церкви, т. е. заставить проделать тот путь, который прошел он сам. Греческая среда для повести выбрана не случайно. Отрочество и юность Киреевского пришлись на время, когда русское общество было взволновано событиями в Греции 1821 г. Тогда 16-летний А. С. Хомяков пытался бежать из дому на войну с Турцией, а П. В. Киреевский мечтал «быть полезным несчастному, но благородному народу хоть одним ударом сабли» (характерно и то, что дебютом П. В. Киреевского в печати стал реферат книги Ризо Нерулоса – видного участника греческого освободительного движения). Греческая тема, таким образом, была темой борьбы за свободу. Но в 1838 г. она поворачивается для Киреевского другой стороной. Теперь греческий народ для него – это прежде всего «просветитель вселенной, хранитель православия».
Православие как основание византийской, древнерусской, грядущей российской, а может быть, и мировой образованности – вот формула «славянофильства» Киреевского. Его «славянофильство» – принципиально экклезиоцентрично: Древняя Русь дорога ему именно тем, что в ней осуществился опыт воцерковления культуры и жизни. Эта экклезиоцентричность характеризует все «славянофильские» произведения Киреевского.
Следующим из них по времени после «Острова» была «Записка о направлении и методах первоначального образования народа в России» [Киреевский 1998, 417–426], написанная Киреевским, вероятно, в конце 1838-начале 1839 годов. В 1839 г. он был назначен почетным смотрителем уездного училища в Белеве. Вместе с прошением об определении на эту должность Киреевский направил гр. Строганову и «Записку…» – программу своей будущей деятельности. Главная ее тема – попытка ответить на вопрос: каким должно быть начальное народное образование в России, в чем его цель? Киреевский доказывает, что цель эта – не простая грамотность, не доставление технических, исторических, географических или арифметических сведений, но «познание веры». Причем лучше всего и полнее всего это познание совершается не в классе, а в храме, за богослужением. Поэтому Киреевский настаивает на улучшении преподавания церковнославянского языка, на котором совершается церковная служба. Он подчеркивает, что образование без возрастания в вере становится разрушительным для нравственности. Грановский, читавший эту записку, считал ее «превосходной» и хвалил ее в письме Н. Г. Фролову [Грановский, 415][95]95
Киреевский исполнял обязанности почетного смотрителя Белевского училища до конца жизни, не только не получая за это жалования, но и тратя собственные скудные средства: «вот уже более 16-ти лет наш Иван Васильевич служит почетным смотрителем Белевских училищ, и постоянно делает пользу этому училищу действительную; учителей нанимает на свой счет, попечение и вспомоществование всякого рода делает для пользы учеников, – свойственные его просвещенному уму и прекрасному сердцу. – Наград он не получает и не хочет их» [Киреевская – Шевыреву, л. 13], – рассказывала Н. П. Киреевская в письме С. П. Шевыреву 29 ноября 1855 г., тайком от мужа упрашивая Шевырева ходатайствовать о получении Киреевским за его бескорыстную службу хотя бы следующего чина – статского советника.
[Закрыть].
Каждый раз, когда Киреевский в первой половине 1840-х годов проводил зиму в Москве[96]96
Он проводил в Москве зимы 1839/40, 1841/42, 1842/43, 1844/45 гг.
[Закрыть], он оказывался в средоточии салонных споров, был активным их участником, прибавлявшим им «шуму» и «говору»[97]97
«Я приехал в Москву; все наши сюда собираются на зиму, которая этот раз будет шумнее и говорливее прошлой, которой недоставало И. В. Киреевского» [Гоголь 1988, II, 385], – пишет H. М. Языков Н. В. Гоголю в сентябре 1844 г.
[Закрыть]. Местом их были не только салоны А. П. Елагиной[98]98
Салон Авдотьи Петровны в начале сороковых годов переживал эпоху своего очередного, уже последнего расцвета. Воспоминания современников – и западников, и славянофилов – полны восторженных отзывов о нем. Его посетителями были и молодые профессора Московского университета, и Герцен, и Чаадаев, и, конечно, славянофилы.
[Закрыть], К. К. Павловой и Свербеевых, но и салон самого Киреевского, у которого зимой 1839–1840 г. были собрания по средам. Они носили подчеркнуто интеллектуальный характер: каждую среду «хозяин и гости читают что-нибудь свое; каждому достается раз в два месяца» [Грановский, 382], – сообщает Т. Н. Грановский в письме Н. В. Станкевичу.
Сам Грановский был усердным посетителем этих собраний и прочитал на одной из сред «небольшую статью» «в виде возражения на одно из странных мнений Ив. Киреевского» [Грановский, 383]. В среду 19 февраля читал свою статью «Об отношении искусства и жизни» Д. Л. Крюков, на том же вечере Н. В. Гоголь прочел «Рим». Видимо, на этих же средах осенью 1839 г. были прочитаны знаменитые речи А. С. Хомякова и Киреевского «О старом и новом» и «В ответ Хомякову»[99]99
Речь Киреевского, как следует из самого ее текста, была прочитана в два приема.
[Закрыть].
Их называют «первыми программными документами русского славянофильства» [Хомяков, I, 578], и с них принято начинать его историю. Статья Хомякова написана нарочито провокационно (она сознательно рассчитана на то, чтобы вызвать возражения), речь же Киреевского и в самом деле является первым концентрированным изложением основных идей славянофильства. Циркуляция этих идей в московских салонах зафиксирована письмом Т. Н. Грановского Н. В. Станкевичу (ноябрь 1839 г.). «Киреевский говорит эти вещи в прозе, Хомяков – в стихах. Досадно то, что они портят студентов: вокруг них собирается много хорошей молодежи и впивают эти прекрасные идеи»[100]100
В этом же письме Грановский сообщает, что Киреевский ищет места профессора философии в Московском университете. Об этом же говорит Н. А. Елагин в «Материалах к биографии И. В. Киреевского». Если это соответствует действительности, значит в настроениях Киреевского произошел перелом: в конце 1830-х годов он отвергал предложения попытаться занять профессорское место. В письме А. П. Елагиной от 21 марта 1837 г. в ответ на желание матери видеть его профессором он прямо заявлял, что кафедры искать не будет, а если предложат «решительно» откажется от нее – «по причинам, которые я писал» [Киреевский – Елагиной 30, л. 12].
[Закрыть] [Грановский, 370], – замечает Грановский. В числе этой «хорошей молодежи» были, очевидно, и К. С. Аксаков с Ю. Ф. Самариным. Их сближение с Киреевским и Хомяковым имело решающее значение для складывания славянофильского кружка, но произошло оно не 1839 г., а несколько позже, хотя уже письмо Самарина Могену обнаруживает их славянофильскую ориентацию.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































