Текст книги "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма"
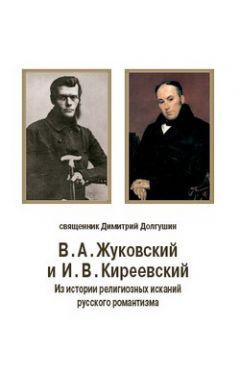
Автор книги: Дмитрий Долгушин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Начало 1840-х годов было уникальным временем, когда идеологические расхождения еще не успели порвать нитей личной приязни, и споры между западниками и славянофилами имели «наружный вид изящного разномыслия, не исключающего мягких и дружелюбных отношений между спорящими» [Анненков, 214]. Ярким примером этого могут быть отношения Киреевского с Грановским и Герценом. Не будет преувеличением сказать, что в 1840 г. Грановский был буквально увлечен Киреевским.
Весной 1839 г. он вернулся из заграничной командировки и познакомился с Киреевским, видимо, осенью этого года. Первое впечатление было не очень выгодным. Идеи Киреевского его шокировали, а к самому нему «как-то не лежало сердце» [Грановский, 369]. Но уже в январе 1840 г. Грановский отзывается о братьях Киреевских следующим образом: «Очень умные и замечательные люди. С их убеждениями невозможно согласиться, но у них по крайней мере есть глубокое участие, знание и логика. Мы не сходимся близко, но я их от души уважаю» [Грановский, 415]. Весной 1840 г. Грановский «подбивал» И. В. Киреевского издать альманах и обещал дать для него историческую статью [Грановский, 401]. В мае 1840 г. по пути в родительское имение он собирался заехать в Долбино и погостить там один день [Грановский, 100]. В другой раз историк гостил у Киреевских три дня проездом в Орел 23–25 июля 1844 г. «Я провел два хорошие дня с Иваном В.<асильевичем>, – сообщал он жене. – Всякий день мы сидели с ним до трех часов ночи и говорили о многом» [Грановский, 259]. Говорили о «Москвитянине», об А. И. Герцене, причем о Герцене Киреевский отзывался чуть ли не восторженно: «Он оценил его совсем и отзывался об нем с таким уважением и любовью, что я хотел было сказать: "да ведь он пьяница"», – пишет Грановский. В свою очередь Киреевский Герцену также понравился. Он записывает в Дневнике, что личность Киреевского – «прекрасная, сильная» [Герцен, 273], натура – благородная, и сам он – «замечательный человек». В нем прекрасна «экстрема» – цельность убеждения и готовность защищать его, в этом он похож на Белинского – «таких людей нельзя не уважать» [Герцен, 244] [XIII].
«Великий раскол русской мысли» до половины 1840-х годов был еще расколом идей, а не людей. Поэтому неудивительно, что, принимаясь за «Москвитянина», Киреевский рассчитывал привлечь к сотрудничеству в нем не только славянофилов, но и Грановского, Герцена, В. Ф. Одоевского. Он очень болезненно реагировал даже на легкий намек на то, чтобы сделать его «партийным органом». Киреевский чуждался «мурмолочных велегласий»[101]101
Выражение Киреевского из его письма С. П. Шевыреву 25 февраля 1846 г. [Киреевский 1984, 320].
[Закрыть], любил повторять, что «в России, собственно, только две партии – людей благородных и низких», и если и видел «Москвитянин» «партийным» журналом, то только в этом смысле.
Переговоры о передаче «Москвитянина» Киреевскому начались в конце зимы 1844 г. Сам Иван Васильевич был в это время в деревне, и они шли через брата Петра, А. С. Хомякова и С. Т. Аксакова. Киреевский был рад вернуться к журнальному поприщу: «…я жажду такого труда, как рыба еще не зажаренная жаждет воды» [Киреевский, I, 70], – писал он Петру. Главным препятствием было то, что над Киреевским довлело запрещение «Европейца», и было непонятно, позволят ли ему вернуться к издательской деятельности. Граф С. Г. Строганов утверждал, что запрещение касалось только журнала, а не его редактора (что, в общем, не совсем верно: известно, что в 1835 г. В. П. Андросову разрешали издавать «Московский наблюдатель» только при условии, что он уберет из числа сотрудников Киреевского).
Киреевскому хотелось иметь хоть какие-то гарантии того, что история «Европейца» не повторится с «Москвитянином». Конечно, он знал, что реально главной его гарантией будет Жуковский, но желал более определенного и твердого положения и потому 15 мая 1844 г. писал П. В. Киреевскому:
Но поймите меня хорошенько; я согласен на ваши предложения только в случае официального позволения, и притом при таком устройстве, чтобы при скоропостижной смерти Жуковского никто не пострадал от меня, и при жизни и здоровье Ж<уковского>, чтобы я не был стеснен чужою волею [Киреевкий, I, 70].
Однако Киреевскому пришлось приступить к изданию, так и не получив формального разрешения. Между ним и М. П. Погодиным был составлен договор, завизированный С. Т. Аксаковым. Официально издателем оставался Погодин, Киреевский обязывался подготовить три номера, после этого должен был либо отказаться, либо продолжать до конца года [XIV].
Как и во времена «Европейца», приступая к изданию журнала, Киреевский взялся писать письмо Жуковскому (в ноябре 1844 г.). Однако оно осталось недописанным и потому неотправленным. Поэт узнал о переменах в редакции «Москвитянина» не от Киреевского, а из других источников. Видимо, ему о них рассказал Н. В. Гоголь, которому об этом писали С. П. Шевырев и H. М. Языков. Гоголь же «подзадорил» Жуковского написать для нового «Москвитянина» подарок[102]102
В письме С. П. Шевыреву от 2 (14) декабря 1844 г. он пишет: «…Жуковский мною заставлен сделать для «Москвитянина» великое дело, которого, без хвастовства, побудителем и подстрекателем был я. Он вот уже четыре дня, бросив все дела свои и занятия, которых не прерывал никогда, работает без устали, и через два дни после моего письма «Москвитянин» получит капитальную вещь и славный подарок на новый год» [Гоголь 1988, II, 313].
[Закрыть], и поэт «в три дня, с небольшим хвостиком четвертого, отмахнул славную вещь» [Гоголь 1988, II, 399–400] – стихотворение «Две повести». Оно было отправлено из Германии 8 декабря 1844 г. на имя А. Я. Булгакова вместе с «большим письмом Авдотье Петровне об „Одиссее“» (текст письма см. [Жилякова]), при этом письме – записка:
Любезный Иван Васильевич, вот тебе и твоему «Москвитянину» подарок на Новый Год – если примешь, то спиши стихи; а письмо отправь к своей родительнице известной тебе Авдотье Петровне Елагиной. Я не знаю, здесь ли она. Письмо же прочти. В нем многое о тебе. Может быть, моя <1нрзб> и Гомер и для тебя пригодятся [Жуковский – Киреевскому, л. 13].
Для Киреевского этот подарок был совершенной и приятной неожиданностью. «Присылка Ваших стихов оживила и ободрила меня» [Киреевский, II, 237], – признавался он позже Жуковскому. И стихотворная повесть, и отрывок из письма об «Одиссее» были опубликованы в первом номере «Москвитянина» за 1845 г.
Несмотря на то, что три номера «Москвитянина», выпущенные Киреевским, были весьма удачны, в целом его литературное предприятие не пошло. Во-первых, не исполнились надежды на то, что журнал объединит усилия и славянофилов, и западников. Высшей точкой сближения между ними был знаменитый примирительный обед в честь публичных лекций Грановского 22 апреля 1844 г., но почти сразу после него отношения неудержимо покатились к окончательному разрыву. Тут сыграла роль и история с диссертацией Т. Н. Грановского, и стихи H. М. Языкова, и отношение западников к публичным чтениям С. П. Шевырева… [XV].
Во-вторых, не складывались деловые отношения с Погодиным. Теперь трудно сказать, в чем причина этого – в неопытности Киреевского или в «навязчивости погодинской опеки» [Канторович, 198]. Н. П. Барсуков считает, что «главною причиной несогласия была неисправная контора и неисправная типография, полученные Киреевским по наследству от Погодина» [Барсуков, VIII, 22]. Недобросовестностью конторы, выполняющей лишь указания Погодина и игнорирующей нового редактора, объяснял Киреевский то, что назначенные им подарочные экземпляры, в том числе для Жуковского, А. П. Зонтаг, А. А. Елагина, не дошли по назначению.
Принявший такое живое участие в журнале Жуковский, не получив «Москвитянина», был недоволен. «Скажи Киреевскому, что Жуковский на него сердит за то, что он не прислал "Москвитянина"» [Гоголь 1988, II, 414], – просил Гоголь H. М. Языкова в письме от 24 марта (5 апреля) 1845 г. Узнав об этом, Киреевский «написал Погодину резкое письмо:
Контора твоя до крайности неисправна. Жуковский до сих пор Москвитянина не получал и очень сердится. Я признаюсь, что не знаю таких расчетов, которые стоили бы моего доброго согласия с Жуковским. Анна Петровна Зонтаг и Александр (правильно – Алексей. – Д. Д.) Андреевич Елагин тоже не получили журнала. Письма их получены вчера [Барсуков, VIII, 22].
Прошу тебя вникнуть в это дело. Для меня оно первой важности. На меня сердятся, и по праву. <…> Но тебе я скажу, что никакая известность в мире, даже Пушкинская слава, не может вознаградить меня за мои добрые отношения к близким мне людям [Барсуков, VIII, 23].
В конце концов Жуковский свой экземпляр «Москвитянина» все же получил. 11 (23) апреля 1845 г. он писал А. П. Елагиной: «"Москвитянин" получил и жадно читал его; и буду писать об нем к издателю. У меня еще приспело кой-что, но теперь не до того» [УС, 71].
В-третьих, здоровье Киреевского не выдержало всех беспокойств и забот, связанных с изданием журнала. В апреле он заболел[103]103
20 числа Авдотья Петровна писала мужу: «Иван очень нездоров, я ужаснулась, когда увидела, с какою невообразимой слабостью он даже глаза ворочает. Он убьет себя этим дурацким журналом, тем больше, что никого не слушается. Ввечеру приехала ко мне Нат<алья> Петр<овна>… и сказала, что он лег в постель и не велел никого принимать…» [Канторович, 198].
[Закрыть]. А. С. Хомяков сообщал А. В. Веневитинову:
Киреевский взялся за Москвитянина с ревностию, которая свойственна его характеру. Ты мог видеть, как его статьи были сильно обдуманы и как много он должен был для них работать; но он не рассчитал своих физических сил. Работа его была вся по ночам, и для отгнания сна он употреблял самый крепкий чай. Эта вредная диета и крутой переход от долгого бездействия к усиленной деятельности расстроили его здоровье до такой степени, что теперь он принужден отказаться от журнала [Хомяков 1914, 79].
Для поправления здоровья Киреевский вынужден был оставить издание и уехать в деревню.
До конца поправиться он так и не смог. Даже через несколько месяцев, 4 октября 1845 г. С. П. Шевырев писал Гоголю: «Сейчас писал Киреевскому в ответ на его грустное письмо[104]104
В этом «грустном» письме, написанном в конце сентября 1845 г., Киреевский жалуется: «Деревенская жизнь раздробляет время и ум, не оставляя плодов, кроме выросших из навоза. Деревенская жизнь не по натуре мне. Здоровье мое тоже не поправляется, сердце болит по-прежнему, нипочем болит. Думаю, будет болеть, покуда выболит» [Киреевский – Шевыреву, л. 5].
[Закрыть]. Он болен. У него болит сердце» [Гоголь 1988, II, 315]. Зиму 1845–1846 г. Киреевские провели в Долбине, а осенью 1846 г. приехали в Москву, чтобы иметь возможность участвовать в хлопотах по изданию «Жития старца Паисия». У Киреевского не пропала жажда деятельности. Во время одной из встреч он признался Погодину, что «ему хочется писать, но печатать негде!»
1846 г. для Киреевского был годом потерь. «В этот год я перешел через ножи самых мучительных минут, сцепленных почти беспрерывными бедами» [Киреевский, I, 73–74], – признавался он брату. В 1846 г. скончались Д. А. Валуев, А. А. Елагин, А. И. Тургенев и умерла маленькая дочка Киреевского Катя. Особенно тяжело переживал он кончину Н. М. Языкова (26 декабря 1846). Для Киреевских-Елагиных Языков был почти членом семьи. О его смерти И. В. Киреевский даже не решился прямо сказать матери, но постепенно готовил ее, сообщая в письме, что «бедный Языкушко очень болен» [Киреевский, I, 72], в то время, как он был уже мертв. Сам Киреевский заболел от скорби. Н. П. Киреевская писала старцу Макарию:
Иван Васильевич так огорчился кончиною Языкова, что сделался нездоров. Доктор запретил ему выезжать, но он поехал не только на отпевание в церковь, но и в Данилов, где похоронили Языкова. И еще расстроился и простудился: глаза очень болят, спина, бок и, кажется, сердце опять болит, хотя он скрывает и не ложится [Четвериков 1988в, 207].
…грусть, уныние и печаль нас не покидают от смерти Языкова. Иван Васильевич еще не может оправиться и, сам хотя скрывает, но видно, что нездоров и страдает… [Четвериков 1988в, 208].
В конце февраля 1847 г., видимо, Киреевский все-таки слег. Выздоровления не произошло, и в апреле он заболел окончательно. 27 апреля Н. П. Киреевская сообщала М. В. Киреевской:
У нас все грустно и тяжело до крайней степени. Вот 7-й день, как Ванюша серьезно занемог, он все перемогался после вести о Маминькиной болезни; его просили писать статью о Языкове, это ему было невозможно, ибо редкий день проходил без слез по нем; он говорил, что «он решительно не может писать, что смертью его рана в сердце мучительна и жива». Но мало людей, которые могут понять такую душевную печаль. Опять возобновились просьбы о статье, ему стало совестно, он сделал усилие – начал перечитывать стихи Языкова, бледнел, ходил по комнате, иногда ложился, написать ничего не мог; плакал – и с прошедшего четверга занемог сильно, боль в сердце и расстройство легких [Киреевская – Киреевской, л. 4].
В мае Киреевский был почти при смерти. Несколько оправился он только к началу июня. Свое выздоровление в письме А. И. Кошелеву он называл «воскресением из мертвых» [Киреевский – Кошелеву, л. 1].
16 августа Киреевские выехали из Москвы в деревню, где и остались на зиму 1847–1848 г. Иван Васильевич продолжал недомогать и тяготился вынужденным отрывом от московской жизни. Н. П. Киреевская писала С. П. Шевыреву 7 октября 1847 г.:
По приезде в деревню Иван Васильевич еще не мог ничем заняться, здоровье его очень слабо, и всякое напряжение мысли видимо ему вредит, так что он и читать много не может, конечно, это следствие его жестокой болезни. Он нередко грустит, что друзья его забыли и никто ничего не пишет, вдали интерес ко всему еще сильнее пробуждается, и потому всякая литературная новость нас здесь оживляет [Киреевская – Шевыреву, л. 3–3 об.].
Весной 1848 г. в Париже началась революция. Новости о событиях в Европе Киреевский узнавал из писем, особенно из писем своей сестры Марии Васильевны. В начале марта она писала к нему очень часто и сообщала все, что удавалось узнать о, как она ее называла, «кроволюции» [Киреевская М. В., л. 10 об.].
Естественно, Киреевские волновались о Жуковском, застигнутом революционными событиями в Германии. И. В. Киреевский в это время регулярной переписки с ним не имел, но мог узнавать о поэте из писем матери или из писем сестры. Так, 8 марта она писала брату:
Вот еще, Ваня, тебе несколько стихов Жуков<ского>. Вчера получили от него коротенькое письмо, – он пишет, что при первой возможности возвратится в Россию, – но теперь покуда такая везде распутица, – что нет средства ехать, безопаснее оставаться в каком бы то ни было, но только на одном месте [Киреевская М. В., л. 10 об.].
Распутица имеется в виду, очевидно, не дорожная, а политическая. 22 апреля А. П. Елагина в свою очередь сообщала старшему сыну: «От Жук<овского> получила письмо, слава Богу! теперь ему еще безопасно, и кажется он не прежде августа намерен переехать в Россию; но можно ли отвечать за наши намерения?» [Елагина, л. 19].
Весной следующего года Киреевский и сам звал Жуковского на Родину, говоря ему: «Здесь не только слово Ваше, но и самое присутствие было бы полезно в текущую многозначительную минуту» [Киреевский, II, 251]. 7 августа 1849 г., повстречавшись с Гоголем, он расспрашивал его о Жуковском и узнал, что поэт собирается в Россию осенью [Киреевский – Елагиной 32, л. 17]. Но возвращение Жуковского так и не состоялось. «Жаль мне его до самых чувствительных нервов сердца. Болезнию жены и страхом лишения прикован к чужой стране в такое время!» [Киреевский – Елагиной 32, л. 15], – восклицал Киреевский в письме матери.
Европейские события разбудили умственную деятельность в Москве, и салон Елагиных опять стал одним из ее центров. «Здесь только и толков, что о фр<анцузской> рево<люции>, – рассказывала М. В. Киреевская в письме брату 3 марта 1848 г. – Аксаков хочет издавать род журнала ежедневно на три листка, Хомяков еще о другом журнале думает. – Они все о тебе вздыхают и тебя желают, и Грано<вский> зовет сюда на иные подвиги литературные» [Киреевская М. В., л. 8 об.]. Киреевский на подвиги не приехал, но и он считал переживаемую минуту исторической, когда решается «вся великая задача мира». В такой момент он, как и Жуковский, думал, что главное для России – это сохранять стабильность, не допускать никаких изменений и не вмешиваться в дела Европы, «чтобы только спасти Россию от смут и бесполезной войны» [Киреевский, II, 249]. О духовном состоянии Запада в связи с событиями 1848 г. Киреевский пишет в выражениях еще более резких, чем Жуковский. Он говорит о нравственной заразе, о «французской болезни», от которой гниет Европа:
Грустно видеть, каким лукавым, но неизбежным и праведно насланным безумием страдает теперь человек на Западе. Чувствуя тьму свою, он, как ночная бабочка, летит на огонь, считая его солнцем. Он кричит лягушкой и лает собакой, когда слышит Слово Божие. И этого испорченного, эту кликушу хотят отчитывать – по Гегелю! [Киреевский, II, 250].
Киреевский более всего боялся, что эта проникнувшая и в Россию зараза может захватить и его детей. В 1840-1850-е годы среди всех политических бурь и волнений и Киреевского, и Жуковского, занимали вопросы, казалось бы, частные – педагогические. После окончания второй части «Одиссеи» Жуковский главным делом считал разработку учебных пособий для своих малышей Александры и Павла и посвящал их составлению последние силы и время своей жизни. Киреевский тоже имел педагогические заботы: он продолжал выполнять обязанности почетного смотрителя уездного училища в Белеве и в 1852 г. составил очередную служебную записку, в которой развивал тему, начатую запиской 1839 г. – о церковнославянском языке. 3 октября 1853 г. он записал в дневнике: «Моя жизнь теперь, т. е. настоящая сторона моей земной жизни, – это жизнь моих детей» [Das Tagebuch, 184].
Главной заботой Киреевского было их духовное воспитание. Более всего он хотел уберечь своих детей от мертвящего веяния времени, болезни безверия. Впервые подобные вопросы встали перед Киреевским в 1849 г., когда старшему сыну Васе исполнилось 14 лет, и нужно было решать, как продолжать его образование [XVI]. Взвесив все за и против, родители решили отдать Васю в Александровский Лицей – И. В. Киреевский надеялся, что этого заведения нравственная зараза не коснулась.
Трудность была в том, что мальчик не совсем подходил по возрасту, а также в том, что у Киреевских было мало средств на его содержание в Лицее, поэтому они хотели утроить его на казенный кошт[105]105
Несмотря на то, что по семейному разделу Киреевский получил значительное состояние, доходов с деревень (а может быть, и умения вести хозяйство) не хватало, чтобы обеспечить растущее семейство (у Киреевских родилось семеро детей, двое умерли в младенчестве).
[Закрыть]. Киреевский обратился за помощью к Жуковскому. 18 марта 1849 г. он писал поэту:
…я прошу Вашего покровительства в этом деле. Попросите Принца Ольденбургского, <чтобы> он позволил ему вступить в 4-й класс Лицея несмотря на то, что в конце 1850 года ему будет 15 лет и три месяца, то есть 9 лишних месяцев против устава. – Этим Вы решите всю судьбу его, и при первом выходе из семейного круга его встретит чувство благодарности к Вам [Киреевский – Жуковскому, 20 об, – 21].
Жуковский, несмотря на то, что был занят завершением «Одиссеи» и на то, что наступила Страстная седмица, на которой он собирался говеть, немедленно откликнулся и, как сообщал И. В. Киреевский матери 5 мая, «написал длинное и прекрасное письмо к принцу Ольденбургскому, другое к директору Лицея Броневскому и третье ко мне. <…> На днях я получил уже от Броневского извещение, что Принц соглашается на принятие Васи, несмотря на 9 лишних месяцев его возраста» [Киреевский – Елагиной 32, л. 11 об.]. «Когда я получил и прочел письмо Ваше, – благодарил Киреевский Жуковского, – душа моя не наполнилась, а переполнилась чувства живой и сладкой благодарности» [Киреевский, II, 249]. Киреевский высказывает надежду, что его сын оправдает доверие Жуковского, своим ходатайством поручившегося за него, и память об этом ручательстве «подкрепит его внутренние карантины против той нравственной заразы, от которой теперь гниет Европа» [Киреевский, II, 250].
Слова Киреевского попали в унисон мыслям Жуковского, с содроганием следившего за выходками «деспота германской революции» и за «хаосом буянств» [Жуковский – Киреевскому, л. 18, 22 об. ], творящихся в Европе. В ответном письме Ивану Васильевичу он высказывает свои самые задушевные, выстраданные в 1840-е годы убеждения. Это письмо (от 6 июня 1849 г., из Берна) относится к лучшим образцам религиозно-философской прозы Жуковского, здесь мысль поэта достигает настоящего христианского вдохновения и возвышенного пафоса. Поскольку оно осталось неопубликованным, позволим себе привести обширную выписку.
Радуюсь душевно за тебя, за себя и за твоего милого сына. Прилагаю ему при сем благословение моего сердца на вступление в новый, решительный путь его начинающейся жизни. Скажи ему от меня, чтобы он об одном думал, одно старался укоренить в своем сердце (а это теперь еще легко, сердце мягко, резец святого и чистого может глубокие и вечные черты проводить на нем, и жизнь никогда не изгладит), – это одно: безусловная покорность во всем, и в радостном и в горестном, и в легком и в трудном воле Божией, то есть не той философической, выдуманной нашим глупым умом воле метафизического несущественного Бога, а воле Бога-Христа. В этом одном заключается тайна жизни нашей, это одно дает силу жить; это-то есть венец жизни. Блаженна душа, которая дойдет до совершенства уничтожить себя пред этим Спасителем, Богом, отцом, братом, другом, вождем, наставником, утешителем, примирителем, – блажен тот, кто наконец дойдет до блаженства забыть свою волю и помнить, знать и чувствовать беспрестанно волю Того, Который некогда сказал: блажени чистии сердцем, понеже они Бога узрят. – Все наши беды, заблуждения и преступления происходят от беспамятности. Кто в решительную минуту, вовремя успеет задать себе вопрос: в чем состоит в эту минуту воля Божия? тот получит и ясный ответ, и верное правило для действия и даже силу действовать. Ибо великая сила заключается для нас в признании этого верховного авторитета; который не есть одно мертвое шаткое предписание совести, а в одно время и закон, сам по себе безжизненный, и законодатель живой, нам помогающий, нас судящий и нас разрешающий или осуждающий. Вот что скажи от меня твоему сыну; и пускай эти слова старого Жуковского будут переписаны в его памятную книжку рукою отца его. Все, что теперь около нас творится, есть результат отвержения этой покорности. Свели с престола живого Бога и посадили на место его Молоха, этот Молох есть ум человеческий. Мы видим плоды его самодержавия [Жуковский – Киреевскому, л. 21–21 об.].
Полученное письмо Жуковского было для Киреевского драгоценным благословением поэта его старшему сыну, он посылал это письмо для прочтения А. П. Елагиной, но просил вернуть, потому что, писал он, «мне надобно списать его советы Васе и потом хранить у себя» [Киреевский – Елагиной 32, л. 16]. На конверте, в котором лежало письмо, теперь можно прочитать краткую, но красноречивую надпись Н. П. Киреевской: «Письмо В. А. Жуковского, которое Иван Васильевич хранил для Васи как истинное сокровище» [Жуковский – Киреевскому, л. 11][106]106
Киреевский не только переписал это письмо, но и, по-видимому, приказал сделать с него писарскую копию. По крайней мере, среди писем Жуковского Киреевскому, хранящихся в РГАЛИ, есть две писарских копии – письма от 31 марта 1849 г. (по поводу устройства Васи в Лицей) и письма от 6 июня 1849 г., из которого мы привели цитату. В РГИА имеется неполная копия этого письма, сделанная Е. И. Поповой [Попова, л. 1, 1 об.].
[Закрыть].
В 1840-е годы, как и прежде, Киреевский следил за творчеством Жуковского. В первом номере «Москвитянина» за 1845 г. он восторженно отзывался о стихотворных повестях «Наль и Дамаянти» и «Маттео Фальконе» (переводы Жуковского из Ф. Рюккерта и А. Шамиссо), называя их «блестящими литературными явлениями» [Киреевский 1984, 176–177].
Со многими произведениями Жуковского 1840-х годов Киреевский знакомился еще в рукописи. Так, 7 апреля 1848 г. поэт прислал А. П. Елагиной свое письмо Гоголю «О поэте и современном его значении» для передачи в «Москвитянин». Она передала, но с условием, чтобы номер журнала послали Киреевскому [Елагина, л. 19]. В свою очередь М. В. Киреевская прислала Киреевскому письмо с обширной выпиской из этой еще не опубликованной статьи [Киреевская М. В., л. 2]. В 1849 г. М. П. Погодин получил от Жуковского статью «Две сцены из "Фауста"» и, прежде чем отдавать в цензуру, «отправил на рассмотрение Киреевскому», «который возвратил ее при следующих строках:
Возвращаю тебе статью Жуковского; посмотри перемены, которые я сделал; кажется, теперь ничего нет противного Православию. Если это не очень портит ее в риторическом отношении, то решись печатать в этом виде. Но во всяком случае мне кажется, что о риторике думать нечего, когда дело идет о Православии [Барсуков, IX, 383], ср. [Киреевский – Погодину, л. 18].
Как видим, Киреевский не считал это сочинение Жуковского удовлетворительным с богословской точки зрения.
Вполне положительно отнесся он к политическим статьям Жуковского. В письме Жуковскому 1849 г. Киреевский говорит, что они «прекрасно написаны», правда, тут же указывает: «Но верно написались бы не так, если бы Вы были здесь, и потому того действия, которое должно иметь Ваше слово на русских читателей, они произвести не могли» [Киреевский, II, 251].
Киреевский имел возможность познакомиться и со всем комплексом религиозно-философской и политической прозы Жуковского в том виде, в каком она предназначалась для последнего тома Полного собрания сочинений поэта. После того, как публикация ее не состоялась, Жуковский просил П. А. Плетнева забрать рукописи из цензуры и отослать их А. П. Елагиной, что тот и исполнил. Более чем вероятно, что Авдотья Петровна сообщала Киреевскому об этих сочинениях.
Рассказывала она Ивану Васильевичу и еще об одном важном труде Жуковского сороковых годов – русском переводе Нового Завета, который поэт сделал с славянского текста. В письме Жуковскому Киреевский называет этот перевод «великим подвигом, который может дать нашему языку то освящение, которого ему еще не достает» [Киреевский – Жуковскому, л. 26]. Киреевский считает, что перевод Нового Завета, выполненный Жуковским, имеет значение не только литературное[107]107
Подробнее об этом см. [Новый Завет].
[Закрыть]. За рамки литературы, по его мнению, выходит значение и сделанного Жуковским перевода гомеровского эпоса.
Еще в 1845 г. познакомившись с первой частью перевода «Одиссеи», он пришел к выводу, что «Одиссея» «должна совершить переворот в нашей словесности». «Живое выражение народности греческой разбудит понятие и об нашей, едва дышущей в умолкающих песнях» [Киреевский, II, 237], – надеялся он. Вторая часть перевода показалась Киреевскому «еще совершеннее первой». «Она вне времен, и Ваш перевод ее есть важное событие в истории нашей словесности» [Киреевский, II, 251], – писал он Жуковскому. И если «действие ее на литературу нашу должно быть великое, но медленное», то виноват в этом не Жуковский, а «наше время», которое «стоит вне обыкновенного порядка и вне всякой умственной и литературной жизни». Тайна воздействия этого перевода заключается в «ровной красоте правды и меры», разлитой в нем. «В этом отношении, я думаю, он будет действовать не только на литературу, но и на нравственное настроение человека» [Киреевский, II, 251].
Жуковский, не избалованный вниманием современников к своему переводу гомеровского эпоса, был рад такому отклику и благодарил Киреевского: «То, что ты пишешь о моей «Одиссее», мне чрезвычайно по сердцу»[108]108
В одном из неопубликованных писем И. В. Киреевского А. П. Елагиной, относящемся к 1848 г., также встречается характерный отзыв И. В. Киреевского об этом творении Жуковского: «Его «Одиссея» удивляет меня чувством языка» [Киреевский – Елагиной 31, л. 40 об.].
[Закрыть] [Жуковский – Киреевскому, л. 22].
В 1853 г., уже после смерти поэта, И. В. Киреевский познакомился и с его «лебединой песнью» – поэмой «Странствующий жид». Рукопись ее он получил от А. П. Елагиной, а свои впечатления записал в дневнике:
Читал Агасвера, читал с сердечным восхищением, и хотя сказка основание этой поэмы, – и сказка нелепая, – у нас даже не народная, – однако к этой сказке положено столько прекрасного, столько истинного, что ее нельзя читать без глубокого умиления. – Завязка внешняя осталась необъясненною. Для чего Агасвер сходится с Наполеоном, – до сих пор непонятно. – Но внутренняя завязка, кажется, заключается в том, чтобы представить, как благодать мало-помалу проникает в душу, оттолкнувшую ее сначала. – Агасвер представляет человека вообще, обращающегося к Богу. Но в конце поэмы состояние души его представляет, кажется, личное, собственное состояние души его поэта, и тем еще драгоценнее для нас, особенно, когда мы спомним, что последние строки были диктованы в последние дни его жизни [Das Tagebuch, 181].
К разговору о последних днях жизни жизни Жуковского мы еще вернемся, пока же сравним религиозно-философские искания Жуковского и Киреевского 1840-х годов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































