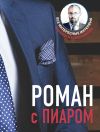Текст книги "Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории"

Автор книги: Лутц Нитхаммер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
А я – с ним и со вторым [сыном], они оба в кровати спали. У меня была кровать из спального гарнитура, что у меня остался от разбомбленного дома, она так вот в углу у меня стояла, там я спала. А девочка спала в гостиной на диване.
И у меня всегда был полон дом детей, у меня все играли. У меня мало денег было. […] Я потом, как младшей 18 стало, 58 марок пенсии получала […], как детское пособие перестали платить. А потом, как дети побольше стали, приходил соседский мальчишка, он с младшими водился, девочка водилась с моей дочкой, старший сын – тот приводил товарищей, а у товарища тоже была подружка […] – я всех принимала. Не как сегодняшние дети – не знают, чем заняться. Мы-то раньше занимались. […] Для них [я была] вторая мама. […] А потом я телевизор купила. У них [экран] вот такусенький был, у первых телевизоров. И вот должен был быть чемпионат мира 54 года. А этот братец принес мне его после чемпионата! И у соседа у одного тоже уже был, у нас у двоих. Потом мне мужик один рассказал, говорит, он у него еще до чемпионата был, телевизор-то. Он сам его к себе домой забрал – продавец – и сам смотрел, а тебе принес только после чемпионата. А тогда – можете себе представить – такая малюсенькая гостиная, всего ничего, еще меньше, чем здесь, а там еще была дверь: так вот, 20 человек, и ничего. А перед ней – там дверь проходила, и там у нас тумбочка для обуви была, и я на ней всегда сидела с младшим сыном, вдвоем мы на ней сидели. И вот полон дом […] каждый приносил с собой стул, и всюду расстилали бумагу, чтобы ковер не попортили. Мне на улицу нельзя было показаться: «Бетти, дай посмотреть телевизор!» Это Франкенфельд был раньше, […] в доме и кто постарше – если футбол был, если спорт – старики точно так же с ума сходили {49}.
Бабетта Баль со своей семьей занимала целый большой дом в шахтерском поселке. В конце войны этот дом был разбомблен, а муж Бабетты умер. Теперь она описывает тесноту, в которой ей пришлось жить в 1950-х годах: двухкомнатная квартира под крышей дома казарменного типа. Там она спала в одной комнате с двумя взрослыми сыновьями; в другой комнате спала только дочь – чтобы комната по возможности все-таки походила на приличную гостиную. Это было важно, потому что, с одной стороны, госпожа Баль страдала от тесноты, а с другой – ей хотелось, чтобы в доме было как можно больше народу. Она хотела быть социальным центром, а социум, который собирался у нее, – это были поначалу приятели ее детей. Когда дети подросли, круг расширился. Сыновья работали на шахтах, приносили свою долю в скудный семейный бюджет, который с помощью множества ухищрений удавалось поддерживать на уровне прожиточного минимума. Благодаря их помощи кроме самого необходимого появилась возможность сделать и первые приобретения, например ковер «Балатон».
И эта семья второй в поселке купила себе телевизор! Даже у торговца электротоварами, которому был заказан аппарат, еще не было своего. По слухам, он не отдал покупку заказчице, а оставил себе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, на котором немцы впервые после поражения в войне одержали национальную победу, которую могли праздновать. Почему эти слухи о причине несвоевременной поставки телевизора теперь, по прошествии 30 лет, все еще представляют собой для госпожи Баль историю, достойную рассказа? Очевидно, она тогда была страшно разочарована и потом, когда узнала, что немцы в самом деле выиграли, еще сильнее разозлилась от того, что ей сорвали ее инстинктивно верный расчет, направленный на то, чтобы сделать ее двухкомнатный молодежный клуб почти неотразимо привлекательным и для людей ее собственного возраста. Правда, потом и без этого эффектного начала все получилось как она хотела, и невозможно не заметить удовольствия в ее тоне, когда она говорит о том, как к ней начали приставать пожилые соседи.
Из малоприметных деталей, сообщаемых госпожой Баль далее в ходе беседы, становится понятно, что в остальном наличие в доме телевизора имело катастрофические последствия для сплоченности семьи, за которую она так боролась целых десять лет. Старший сын собирался привести в дом жену, и произошел скандал по поводу ежевечерних сборищ перед экраном, из-за которых совершенно невозможно было уединиться. Тут госпоже Баль стало до обидного ясно, насколько она зависит от денежной помощи сыновей после того, как перестала получать детское пособие на дочь. Пенсионная реформа 1957 года стала для нее подарком небес. Она получила единовременную доплату в 1600 марок. Когда почтальон принес деньги, она не могла поверить, что это правда: «Я вся побелела, как снег, и держалась, чтоб не упасть», а потом побежала к соседке: «Надо было рассказать, облегчить душу». Теперь госпожа Баль снова стала самостоятельной и смогла переехать с дочерью в новую квартиру, а когда родился внук, у нее снова появилось занятие.
К этому времени – концу 1950-х годов – телевизор был уже у многих и перестал быть поводом для соседских сборищ. Тот, кто хотел с его помощью привлекать к себе людей, должен был достаточно рано начать работать в этом направлении. Бабетта Баль это поняла и, хотя у нее лишних денег не было, пошла на колоссальную инвестицию, чтобы закрыть социальную рану в своей жизни, а именно то, что с момента прихода американцев в 1945 году она стала в своем поселке чужой. До того она воспринимала всю округу как свою расширенную семью, как идиллическую общность, а себя – как один из социальных природных талантов в ней. А потом в одночасье она лишилась всего и осталась одна – не только потому, что умер ее муж, бывший, судя по всему, единственным нацистом на всей улице, но и потому, что после прихода союзников идиллия внезапно оказалась оплотом коммунистов:
Тут ты и свинья нацистская, и все такое, понимаете… Обзывали они меня. […] И тогда я […] как пошла, нахально так стала говорить: «Слушай, – я говорю, – вы отребье проклятое, кем ты стала, что у тебя есть, все твое приданое, все твои шмотки, вся твоя мебель: откуда это все у тебя? От Гитлера, – говорю, – по моему совету! {50} А теперь меня свиньей нацистской обзывать будут, еще чего!» {51}
Это потом еще долго тлело, но за десять лет улеглось настолько, что имело смысл попытаться снова войти в игру. И первое время Бабетта Баль была довольна: все снова выглядело, как когда-то: «Мне на улицу нельзя было показаться: „Бетти, дай посмотреть телевизор!“» То, что она по такой причине не могла больше показываться на улице, и было ее нормализацией жизни. Позже соседи перестали быть ей так важны, и после семейного скандала по поводу телевизора она смогла переехать в другой район города. Но ее возвращение в игру было бы еще прекрасней, если бы произошло на волне национальных чувств в день чемпионата мира.
В 1959 году, через два года после свадьбы, Кауфманы купили свой первый холодильник; он проработал у них 25 лет. Во время беседы, при которой присутствует и их сын, они вместе вспоминают те времена. Госпожа Кауфман рассказывает о том, что она тогда испытывала, приобретая новые вещи:
Она: И когда еще что-нибудь хорошее могу купить, я [и сегодня] радуюсь. Но я всякий раз проходила мимо этого холодильника, проводила по нему рукой и открывала его. А он блестел, и сливочное масло там внутри лежало, и колбаса еще лежала так же, как позавчера, когда я ее купила. Вы знаете, я думаю, в тяжелые времена чувствуешь столько счастья – я бы сказала, невозвратимого.
Он: Ты больше радовалась мелочам?
Она: Я думаю, у меня это и по сей день осталось, но так – так уже не получается.
Он: Нет, теперь это все стало обычным делом. Там телевизор, холодильник, стиральная машина, даже автомобиль стал обычным делом.
Она: Да, я и сейчас радуюсь, когда у меня какая-нибудь вещь новая появляется. Но все ведь так быстро исчезает потом.
Сын: Ну, холодильник-то во всяком случае ты уже не гладишь теперь {52}.
Как функционировало в 1950-х годах это невозвратимое чувство счастья, с которым человек поглаживал холодильник? Кауфманы не могут объяснить и понять сами, в чем дело: почему, когда потребление становится частью нормальной жизни, оно порождает такое пресное ощущение? Нежность, с которой они в те времена относились к бытовой технике, их не удивляет. Они шаг за шагом обставляли ею дом, и всякий раз дело было не только в покупке бытового прибора и не только в радости от обладания им и его потребительскими достоинствами: это всякий раз был праздник. Этапы развития молодой семьи обозначаются приобретением новых бытовых электроприборов; семейная история синхронизируется с потребительской карьерой: первый радиоприемник они подарили себе на свадьбу (зато пришлось брать кредит на костюм для жениха, а свадебное путешествие – в ближайший крупный город – длилось всего три дня). Первый холодильник был куплен после того, как господин Кауфман наконец – чуть ли не из милости – получил снова чиновничью должность {53}. Первый «Фольксваген-жук» он купил себе по случаю рождения своего первого ребенка (однако его пеленки мать по-прежнему кипятила на плите: бумажные cтоили слишком дорого). Телевизор был приобретен по случаю рождения второго ребенка (потому что ходить куда-то по вечерам стало почти невозможно).
О покупке мебели вспоминают более прагматически: в связи с переездами и квартирами. После того как первая обстановка куплена, основное обзаведение завершается. Смена старых вещей новыми и покупка дополнительных предметов после середины 1960-х уже не обладают тем же эмоциональным качеством, как первые приобретения, и потому более не упоминаются. Применительно к этому и позднейшему времени о вещах говорят только в тех случаях, когда их не купили, отказавшись плыть по течению технического прогресса: например, Кауфманам при их доходе в принципе полагалось бы иметь посудомоечную машину, но они решили ее не приобретать – не только потому, что для нее не было места в кухне, но и «потому, что мы просто не понимаем, в чем смысл»: пользы мало, нагрузка на окружающую среду высокая и т. д. Прежде, в 1950-е годы, они легко понимали, в чем смысл предметов бытовой техники, и много работали и копили, чтобы их купить. Тогда эти предметы были вехами на их жизненном пути, и с ними было связано невозвратимое ощущение счастья.
Я прослушиваю это интервью снова и снова в поисках других выражений сильных чувств, других высказываний о семье, о приобретении вещей. В том, что касается господина Кауфмана (ведь изначально это должно было быть интервью именно с ним), улов невелик. О семье – только тоска. И он, и его жена – «изгнанные». Она жила с матерью и младшими братьями и сестрами; он – инвалид войны, в первые десять послевоенных лет жил на чужбине один, переменил шесть профессий, время от времени его поддерживала семья его товарища по фронту. В 1945 году он первым делом поехал на попутках через всю Германию искать своих мать и сестру – безуспешно. А когда в первой половине 1950-х познакомился со своей будущей женой, «то рад был, конечно, что по воскресеньям можно было прийти в семью».
Немногословны и его рассказы о вещах. До самого конца 1940-х он проходил в перекрашеной военной форме. Первое гражданское пальто, купленное в 1951 году, стоило больше его месячной зарплаты. Сапоги из американских военных запасов, полученные им в подарок, смотрелись хорошо, но скоро развалились: «В немецкой армии такого дерьма не было». В 1949 году господин Кауфман как тяжело пострадавший от войны получил компенсацию в 300 марок и купил себе часы: «Абсолютная роскошь». Зачем ему нужна была роскошь и почему именно прибор для измерения времени, он не говорит.
А госпожа Кауфман, прежде чем думать о роскоши, заново строила человеческие связи:
Я помню, что и я, и люди там в деревеньке, которых я знала, – что мы эту оккупацию восприняли как освобождение [она имеет в виду – когда они прибыли в 1946 году из Силезии в британскую оккупационную зону]. Да, это было что-то! Американцы, которые нам слали эти пакеты CARE, – ну это было что-то, я это вам сейчас и передать не могу! Когда получаешь такие вещи, одежду, – это было просто представить себе невозможно! И тогда вообще не задумывались о том, что же произошло в Третьем рейхе. Вообще не думали про это, совсем; а только полностью были сосредоточены на том, чтоб было что надеть и было что поесть. А остальное не существовало, ничего больше не существовало {54}.
Так значит, чувство счастья уже один раз было – неописуемое и ощущаемое, так сказать, кожей: вещи из Америки; и мысли сосредоточивались на них, а не на прошлом. А может быть, и в самом деле не стоило думать о прошлом – ведь тогда она была ребенком или, самое большее, полуребенком?
Господин Кауфман без всякого драматизма рассказывал о «билете домой» – ранении, после которого он из-под Сталинграда отправился назад в рейх. Госпожа Кауфман в своих «раскопках» и восстановлении тогдашних чувств идет дальше:
Когда ты перед этим рассказывал про войну, мне вспомнилось, ты сказал так запросто: «Там я получил ранение – билет домой». Я когда себе представляю… т. е. я ведь знаю, что у тебя иногда бывают очень дурные, плохие сны. Не знаю, может быть, тебе неприятно, что я об этом говорю [Он: «Да не, пожалуйста»]. Я ведь тебя иногда будила и спрашивала: «Что такое?» Потому что слушать было, в самом деле, [тяжко]: сердце сжималось, а ведь уже 30 лет прошло. Это ведь не только в последние несколько лет было. И вот ты тогда мне рассказывал про свое ранение, и как ты, в 18 лет, лежал в яме и думал, что тебя никто не найдет, и страх смерти испытал {55}.
Господин Кауфман сперва колеблется («Ну, так это раздувать нельзя»), но потом все-таки рассказывает ту историю, которая стала его ночным кошмаром и о которой его жена впервые узнала вскоре после их свадьбы в середине 1950-х годов. Это история не только о страхе смерти, но и о чувстве вины, которое испытывает он, выживший, потому что его сосед по окопу был на голову выше, и когда советская артиллерия разворотила их позицию, тому «досталось в спину все счастье от того снаряда, а мне только этот один осколок». А потом было страшно, что в панике его, лежащего на дне окопа среди трупов, затопчут насмерть. В конце концов он своими силами дотащился до перевязочного пункта. Потом провел больше года в разных госпиталях, но так и не смог уже вернуться в строй. Тем не менее в самом конце войны он еще записался на офицерские курсы.
Хотя еще во время службы господина Кауфмана в Имперской трудовой повинности там было полно русских военнопленных, ему сегодня важно подчеркнуть, что первого узника концлагеря он увидал только после прихода союзников и что в 1944 году никто не верил, что русские дойдут до самого Берлина. Фотография в семейном альбоме: лучший школьный друг – пошел добровольцем в армию, погиб в первом же бою. А его отец не пустил.
Госпожа Кауфман ведет за собой еще дальше в прошлое, рассказывает о том, как много людей верили в Провидение после 20 июля 1944 года, и о том, как она девочкой однажды видела Гитлера. Какое было волнение в группе, потому что одна из девочек должна была прочитать фюреру стихотворение, и как все они это стихотворение учили, «потому что могло ведь получиться так, что Кэте заболеет, и Рената тоже, и тогда могло вдруг и мне выпасть это уникальное, невероятное счастье, что вдруг это я смогу прочитать». И рассказывает, как она тогда «замерла от благолепия», еще немного – и заревела бы от избытка чувств {56}. Чем конкретнее нащупывает госпожа Кауфман в памяти свои чувства, тем меньше потребность сопротивляться им, потому что они оправдываются историческими обстоятельствами, вследствие чего можно не рассматривать вину за нацизм как свою личную.
Господин Кауфман тоже видел Гитлера, но тот просто проезжал мимо в «Мерседесе». А его воспоминания о чувствах связаны с мальчишеским товариществом в гитлерюгенде, и он начинает рассказывать о группах, вожатых, играх и значках.
Чувствуется, что все это казалось тогда таким невинным, таким нормальным! Но потом, потом, когда человек рассудком пытался все это свести воедино, язык отказывал. А когда рассудок спал, то слово брали самые сильные, самые бессмысленные чувства: страх смерти, вина выжившего. Наутро после кошмара неудержимо хотелось чего-то невинного, такого, за что никто не смог бы упрекнуть; хотелось каких-то невинных побед, которыми можно было бы гордиться. Хотелось возможности общаться – такой, которую доставят на дом, ради которой ничего не надо делать, а можно сидеть и смотреть, а тебя самого не видно и никто не задает тебе вопросов. Хорошо, что от бытовых приборов есть практическая польза – можно было этим оправдывать свою завороженность ими; например, глубинное желание мужчины повелевать чем-то, что покорно расширяет его силы и возможности – выдать за невинное желание иметь личное средство передвижения. И как все становится пресно и плоско, когда вещи начинают сводиться к своей практической полезности: «[…] даже автомобиль стал обычным делом!» Тогда автомобиль сулил возможность чувствовать себя мужчиной и повелевать, не ощущая никакой вины. Тогда машины отличались от людей тем, что были понятливее; им можно было больше доверять, у них не было мрачной бездны в душе, их дефекты можно было починить. На них можно было обратить свои чувства, даже свою нежность, и они без проблем принимали их.
В 1950-е годы Кауфманы совершенно не интересовались политикой. Как все голосовали – так и они. Сначала за ХДС. Потом, в конце 1950-х, господину Кауфману стало казаться, что Христианско-демократический союз стал партией предпринимателей, а СДПГ уже не казалась такой левой, и он решил перейти на другую сторону. А у госпожи Кауфман переориентация пошла еще дальше – она немного заразилась после 1968 года от своих политизированных сыновей. Сначала она приняла те вопросы, которые они задавали старшему поколению, и поехала в Израиль; позже стала участвовать в движении в защиту мира. Это облегчило ей воспоминания о былых чувствах. Она довольно долго слушала, как ее муж бесстрастно рассказывал про свою жизнь, а потом включилась в разговор – после того как он сказал, что делал покупки для одной еврейской четы, жившей в соседнем подъезде, потому что дома ему не давали карманных денег:
IV. О чем молчит тишинаНе знаю – можно и мне тоже сказать? Просто по поводу этой истории с евреями мне тут вспомнилось. Сегодня у нас есть отношения с Израилем, дружеские отношения, и поэтому я тоже [подумала] – а у меня осталось что-нибудь из прошлого насчет евреев-то? […] Мне тогда было лет десять-двенадцать. Так вот, евреи – это были люди с желтой звездой, я имею в виду в городе [в Верхней Силезии]. […] Это вот были евреи, вот такие они были. Что-то с ними было. Не знаю что. И вот сегодня мне вспоминается вот что: страшно об этом думать, но я помню, что я хохотала до изнеможения. Мы ходили на занятия по подготовке к конфирмации – два километра по проселку. И там мы проходили мимо одного леска, маленький такой лесок, и рассказывали анекдоты. По десять, двенадцать лет нам было. И я помню, как мой… как кто-то сказал: «Видишь, вон в том лесу – там из евреев мыло делают». И мы – пять-шесть девчонок нас было – сгибались от хохота. До упаду смеялись. Это мне вспомнилось по поводу евреев – что это были те, которые с желтыми звездами, и что они иногда давали нам деньги и говорили: «Купишь мне мороженое? Мне туда заходить нельзя». А сдача мне доставалась, поэтому я конечно же ходила, кто бы ни попросил {57}.
В чем значение таких деталей? Поможет ли, если мы к скорым и идеологизированным ответам истории будем задавать углубляющие, основанные на опыте участников событий вопросы? Как образуется смысл таких вопросов? И в какой мере они ставят под сомнение господствующую концепцию нормальной жизни или 1950-х годов как перехода от нормализации к модернизации? Разумеется, память может обманывать. Но она редко создает иллюзию проблем там, где никаких проблем нет или не было. Скорее наоборот, большинство вещей забывается, тонет в более общем опыте – в этом хоре избранных и утвердившихся культурных образцов и уроков собственной биографии. На уровне конкретных примеров мы обнаружили положительный общий итог, который подтверждает то, о чем говорит социальная статистика и что позволяют объемно представить реконструкции истории повседневности. Составляющие этого положительного итога процесса «нормализации» таковы: 1) значительный рост уверенности среди тех, кто прежде не мог ею похвастаться; 2) стабилизация, в условиях которой раскрылись перспективы приватного мирка и он из оборонительного бастиона смог превратиться в отправную точку движения вперед; 3) исчезновение бремени войны; 4) прекращение вмешательств политики с ее требованиями в спокойную частную жизнь; 5) осознание того, что трудовые усилия вознаграждаются; 6) привнесение современной техники в жизнь, в том числе и в приватную. Однако этот итог, вписывающийся в картину, рисуемую «школьной» историей, то и дело оказывается окутан трудновыразимыми чувствами перегруженности и депривации, ощущением, что человеком снова – по-другому – овладели, а кто – неизвестно. Наш последний этап работы был направлен на то, чтобы найти такой пример, на котором было бы четче показано это невысказанное.
Из моря забвения поднимаются отдельные воспоминания – для других зачастую ничем не примечательные, но нагруженные аффектами – пусть даже это был лишь когнитивный аффект осознания. Они образуют межевые камни памяти. Если эти воспоминания о пережитом не получается встроить в заданные общественной культурой структуры опыта и приходится их от этих структур отделять, то они начинают вести обособленное существование и обретают собственную энергию. Они могут сохраняться в качестве вызова, бросаемого схеме опыта, и, если это воспоминания радостные, то предзаданные схемы переработки опыта часто как бы сами собой открываются и позволяют себя адаптировать, дополнять и, возможно, даже заменять. Но если эти переживания были – согласно данным схемам – невыносимыми, если они угрожают существованию или самоуважению человека, то оказавшийся под угрозой субъект склонен закреплять и оборонять от них поставленные ими под сомнение схемы своего самопонимания, а эти воспоминания – вытеснять. Тогда они начинают жить в памяти своей жизнью, разрушать фонд опыта и вмешиваться в тех случаях, когда ослабеет контроль.
Одним из таких фондов опыта, разрушаемых этими воспоминаниями, и является вышеупомянутый позитивный итог 1950-х годов: с одной стороны, здесь самая большая доля позитивно оцениваемых, аффективных воспоминаний той эпохи смешана с интерпретативными схемами общества, основанного на потреблении товаров и интенсивном, хорошо оплачиваемом труде, и экономики роста, в которую перетекает послевоенное восстановление. Но есть и вторая, невыразимая сторона, которая прорывается в молекулярной структуре несинтезируемых предысторий и их последствий. Хорошие годы – половина жизни, не только в том смысле, что начались поздно, но и в том, что господствующий в них смыслополагающий порядок абстрагируется от значительной части собственного аффективного и экзистенциального опыта и не может его интегрировать. Этот ставший бессмысленным в условиях новой нормальной жизни «мусор опыта», смысл которого раньше был связан с национал-социализмом как центром всего и который по большей части состоит из особо нагруженных аффектами переживаний, оказался – как и большинство непосредственных последствий войны – оставлен для приватного «преодоления» каждым в собственной компостной яме.
Но это национальное бремя было слишком тяжким для индивидов и для отношений между полами и между поколениями в условиях нового динамичного порядка с его требованиями. И то, и другое присутствовало повсюду, но связь между ними тонула в молчании, в сосредоточении на работе (оно было более чем естественно в тех условиях и одновременно являло собой лазейку), а также в аффективном отношении к плодам этого труда, которое далеко выходило за пределы оценки их потребительской стоимости и отсутствовало в и без того перегруженных межличностных отношениях. Жизненные ценности оказались в ФРГ теснее, чем в других капиталистических индустриальных странах, привязаны к структурным условиям экономического роста в силу массового переноса сильных чувств на блага формировавшегося общества достижений и потребления {58}. Оно обрело за счет этого такую безальтернативность, что даже его деструктивные элементы были иммунизированы в особой, совершенно «ненормальной» степени. Когда молодежь 50-х годов снова захотела управлять обществом в соответствии с высшими ценностями, ей пришлось десять лет спустя идти обходным путем – через политизацию конфликта поколений. Хотя этот процесс включал в себя иные идентификации, не адекватные реальности, все же после первого шока и защитной реакции общества обременявшее его молчание было взорвано.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?