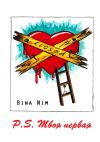Текст книги "Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания"
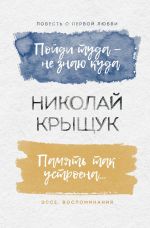
Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сплетни о персонаже. Мы не раз говорили о предстоящей смерти, по большей части иронически. О комически-фальшивой процедуре похорон, о лавинообразных метаморфозах посмертной репутации, которые впервые никак не зависят от покойного. Вообще похороны в разговорах всегда были образцом пошлости. Саня предупреждал, усмехаясь: смотрите, Коля! Кому-то из нас непременно придется хоронить другого. Мы – единственные кандидаты на роль ведущего. Ведь надо будет что-то говорить.
Каким способом он улизнул от этой процедуры, теперь известно. Не в последнюю очередь, быть может, это было бегством от пошлости.
Однажды рассказал, что был на похоронах своей знакомой. Та строго завещала, чтобы речей не было. Звучала музыка. Все молчали. Была возможность осознать случившееся и всерьез попрощаться. Лучших похорон, признался, у меня на памяти не было.
Иногда так: надо внимательно рассортировать и правильно уничтожить письма. А вдруг, представьте, мы в оставшиеся нам годы напишем что-нибудь столь значительное, что любопытных повлечет к нашим архивам? Это высказывалось, конечно, как гипотеза невероятного: еще чего? да и откуда взяться? и где, собственно, эти самые читатели, которые повлекутся в личные архивы? А с другой стороны: кто, типа, знает, чем черт не шутит и прочее. В общем, для затравки разговора и перетирания темы и такое предположение годилось.
Между тем, не были написаны еще эссе о об оксюмороне «Приглашение на казнь», о Мандельштаме, Зощенко, Сервантесе; фельетоны в газете «День»; не было С.Гедройца, «Изломанного аршина» и многого, многого другого.
И еще: сплетню на вкус пробовали? Продукт вполне кондиционный. Хотя я бы к столу не заказывал. Перебор с солью и сахаром. Но в благородном обществе литераторов пользуется спросом. Да и что говорить? Мы ведь к тому времени станем с вами уже персонажами. То есть, существами без прав.
Не могу я до конца поверить, что С.Л. уже год пребывает в роли бесправного персонажа. Поэтому, отчасти, и темой этих заметок выбрал литературу. Не воспоминания, а как бы обзор творчества, копилка рецензий на случай или (излюбленный им жанр) трактат. Меня бесит, муторно от этой аскезы, фрак или там ватник жмут в плечах, тексту вредит. Для воспоминаний необходимы сцены, случайные зарисовки, остроумности, догадки о тайных мыслях, имена, наконец. Главное, имена! Тогда картина оживает, родной контекст населяется и всё неуклонно подвигается к скандалу и сенсациям. Читатель начинает чувствовать и себя участником или, на худой конец, заинтересованным городским зевакой.
Всё так. Но не будет имен. Если уж меня в этих заметках почти нет, то и ваши места пусть займут анонимы. Увлекательности текста, как я уже сказал, большой урон. Что же, я не понимаю? Зато и сплетне негде угнездиться. Думаю, что, по крайней мере, под одной фразой «громкоговорителя» Самуил Аронович определенно бы подписался. А именно под фразой из его завещания: «…пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил».
Есть и еще одна причина, вынудившая меня обратиться к такому нелюбимому мной, чужому жанру. Дружба, конечно, наделяет мемуариста некоторыми правами. Но для того, чтобы рассказать историю отношений, надо писать и о себе. «Причем по-настоящему», как настаивает С.Гедройц в рецензии на книжку воспоминаний Людмилы Штерн о Довлатове: «То есть заняться прозой. Мучительное, между прочим, дело».
Вот к этому я и не готов. Не столько из боязни раскрыть собственные тайны, сколько чужие. А в легкой манере сокрытия и умолчаний – не получится.
Самуил Аронович был, как известно, человеком злоязычным. Про себя говорил (конечно, с усмешкой), что-то вроде того, что на язык злой, но в душе добрый. Так оно, между тем, и было. И не просто добрым – он был человеком благородным. Но и едва ли при этом сумею назвать хотя бы одного, на кого бы его злоречивость не распространялась. Случаев и подробностей горы. Однако для того, чтобы истории были правдивы, а герой узнаваем, нужно рассказывать вместе: и о злоязычии и о благородстве. Это по понятным причинам невозможно.
… А соловьи, по-видимому, распелись на всей Земле. Заберется такой на самый-самый кончик самой-самой верхней веточки самого-самого высокого из окружающих деревьев – и так раскатится – вспомнишь Тургенева. Непонятно, как могут в этих клочках пуха помещаться такие большие голоса. А на соседней крыше живет сова – и подвывает днем и ночью.
Дела мои – не то чтобы блеск; надо идти на второй круг лечения, что и начнется июня 10-го. Чтобы не думать о нем, составляю предложения и вешаю, как на гвоздь или как Шкловский на веревку – на некий сюжет. Типа как про Кармен. Авось до 10-го и закончу. И пришлю, хотя пока еще даже не знаю точно, что хочу сказать. Пишу, как забавную элегию, – строчка за строчку, дедка за Жучку и т. д. Авось кривая выведет. Это справедливо, я думаю: всю жизнь я любил литературу и работал для нее, – а вот теперь она, спасибо ей, выручает меня (немножко жаль, однако, что не деньгами): привычный труд позволяет отвлечься от неприятных мыслей. Правда, идет тяжело: хорошо, если в день два абзаца.
Стиль отношений. Реакции его были непосредственны, радость искренней, но случалось, как и в его прозе, сюжет заканчивался многотолкуемой остроумностью, вопросом с угадкой, недоговоренностью или, опять же, богатым на версии, молчанием. Из-под каких-то бытовых ситуаций он ускользал.
Простое изъявление чувств редко давалось ему, вернее, он не давал ему хода. Из вечной боязни впасть в пошлость, быть может. Но всегда четко и точно реагировал на существенное. Человеческие же проявления, требующие такой реакции, встречаются редко.
Помню в компании зашел разговор о Бродском, который был еще жив. Некто сказал: и чего все с ним так носятся и колыбельно жалеют? Не в лагере ведь – в Штатах. Нобелевку получил. Состоятелен. Профессорствует. Ездит по всему свету. Обласкан друзьями, любим женщинами. Мне бы такое несчастье. Другой мрачно и резко возразил: не стоит так говорить. Поэт всегда расплачивается. Как и чем – гадать бессмысленно. Но расплачивается всегда.
С.Л. тут же влюбился в этого человека. Ничего не сказал, но было видно, что буквально загорелся любовью и благодарностью. И потом стал постепенно вводить его в другие, многочисленные у него кружки и компании.
Мемуарист волей-неволей стремится соответствовать стилю и характеру отношений со своим героем. Систему иронической нежности, дружеской приязни, выраженной косвенно или через иносказание, а то и упакованную в цитату передать почти невозможно. А прямых признаний, повторяю, почти не было. Разве что в последние годы в письмах и в надписях на книгах.
Приведу, против объявленных правил, цитату из письма, обращенную ко мне, чтобы сказать, что это было совершеннейшим исключением из стиля наших отношений, и в тот момент меня, конечно, потрясло: «Держитесь, Коля. И пишите прозу. Никто другой Вашу прозу за Вас не напишет. А посчастливится ли кому-нибудь почувствовать от нее счастье – не зависит от Вас. Давайте обнимемся. Вы в свитере? Я тоже. Ваш С. Л.».
Скорее всего, это диктовалось состоянием любви и прощения, которое сопровождало его все последние месяцы жизни перед окончательным прощанием.
Еще эпизод: я поздравил его с Новым годом, уже туда, в Штаты. Писал то ли 30-го вечером, то ли 31-го днем. Еще и приписал лихую фразу, в которой отвергал дружеский ритуал, как консерватизм и суеверие: что, мол, почему-то считается, что чем ближе к Новому году послано поздравление, тем, стало быть, ты лучше относишься к человеку. Чепуха! Ответное поздравление я получил за минуту до полночи.
…После очередной капельницы организму пришлось было туго. Но сейчас – двухнедельная передышка, и он ведет себя молодцом. Даже позволяет на него надеяться. Хотя – зачем, – непонятно. Что я здесь делаю так долго. Я на это не рассчитывал. Время интересное. Конец цивилизации. Ну, или бурное начало настоящего конца. Скучно жить в интересное время. Про Е. Ц. я написал. (Текст памяти Елены Цезаревны Чуковской. – Н.К.) Прилагаю. Первая фраза некоторых раздражает.(«Ее дед был гений. Ее мать была герой. Сама же Елена Цезаревна была святая» – Н.К.). А я завидую Вашей: прошелся за сигаретами. Во всех смыслах. Одобряю и цель, и маршрут.
…Да, дорогой Коля, в том-то и беда, что все эти гады и ядовитые грибы выползли на поверхность из-под уже слежавшегося слоя старых слов. И стало понятно, что никакие новые слова – если бы даже и нашлись – не помогут. Насчет моего положения – не знаю, что сказать отчетливо и ясно. Со мной – врачи – так не говорят. Чуда не случилось и, вероятно, не случится. По крайней мере, два узла в легком сигнализируют, что они поражены, т. е. химия и луч на них не подействовали. В мае это удостоверит (или нет – вот бы хорошо) очередная пункция. И если да – курс химии повторят.
…Времени впереди еще довольно много, но ясной головы – месяца, значит, полтора. Ничего большого не успеть, а для кратких текстов недостает концентрации. Не делаю ничего и страдаю от безграничной (определение Салтыкова) скуки. Впрочем, читаю все-таки Салтыкова. По инерции.
Разговоры. Бесславье. Мечты о книге. Жизнь состоит (вот странность!) почти исключительно из разговоров. У литераторов особенно. Художники, я заметил, о предмете своего ремесла изъясняются скупо, простыми наблюдениями, частными замечаниями, почти знаками, за которыми таится для них бездна смысла. Как у буддистов. Эротичное ушко, нога повисла, пейзаж съезжает, стул держится на двух ножках, красного переложил. Нечто в таком роде. Литераторы многоречивее. А если они еще и филологи!
Мы много разговаривали. О литературе, прежде всего. Иногда я записывал Саню на диктофон. Для публикации. Однажды он сказал: у нас так много записано разговоров – можно делать книгу.
Вообще он мыслил книгами. Мечтал увидеть книгу, составленную из колонок в газете «Дело». В балтийском круизе мы как-то провалялись с ним целый день в каюте, попивая водку, купленную для зарубежных знакомств и разговаривая о пошлости в поэзии. Главные мишени: Блок, Цветаева, Пастернак. Упражнялись в сарказме по поводу строчек любимых поэтов. Стихи Пастернака, как помню, оказались в этом смысле самым доходным материалом. И тут Саня заметил, что если бы включили вовремя диктофон, вышла бы отличная книга. Но диктофона не было.
Между прочим, мысль книги о Николае Полевом зародилась в нем за пятьдесят лет до написания «Изломанного аршина». Саня показывал собранную за эти годы картотеку – целый библиотечный ящик. Эту эпоху он прошел пешком. Странно, смешно, стыдно было читать рецензию спеца из Пушкинского Дома, который упрекал автора в том, что тот брал сведения из Википедии.
То, что «академисты» принимают автора «со стороны» в штыки и, уязвленные в глубине, напускают на лицо мину снисходительной иронии, не новость. Но утрата чувства масштаба – явление общее. Ведущие критики в упор не замечали книг С.Л… Отзывались в основном знакомые. «Ящик» то ли выдавил его, то ли, и правда, не заметил. Во всяком случае, ни на одном из интеллектуальных ток-шоу центрального ТВ он так и не появился. А ждал и хотел. Я уж не говорю, что в просветительских сериалах канала «Культура» имя Лурье должно было стоять в ряду с именами Лихачева, Лотмана, Аверинцева, Вячеслава Иванова, Непомнящего.
Многие впервые узнали о литераторе Лурье только из его предсмертной переписки с Грефом. Одно такое инкубаторское (интернетовское) дитя пробует свои силы в литературе, издеваясь над этой перепиской. Удачно замешивает либерализм с антисемитизмом. Есть кой-какой слог, индивидуально накопанные цитаты, но вот имя Лурье услышал впервые.
В советские годы всё объяснялось просто: шлагбаум, выставленный КГБ, прозрачная, липкая, вежливая паутина антисемитизма. Первая книга вышла, когда автору было сорок пять лет. Печатался только как С.Лурье. Самуил Лурье – это было уже слишком. На его Дне рождения, в нашей банной компании я прочитал экспромт. Запомнил, потому что Саня попросил записать ему на память: «Нам перестройки нашей странен пыл. Всё кончится на каменной скамье. И смысл ее лишь в том, что С.Лурье Она вернула имя Самуил».
Ситуация при советах, повторяю – яснее ясного. Но прошли уже девяностые, нулевые, десятые. С.Л. жил с хронической обидой, которую усмирял иронией и веселой злостью. Так, например, решил: если позовут на ТВ, непременно спросит: сколько платите? Знал, что все выступают бесплатно, только для того, чтобы в очередной раз засветиться. Пусть не думают, что и он из этого ряда. Однажды, и правда, позвали к Гордону на «Закрытый показ». Вопрос был задан. Московская трубка повешена.
Последние лет двадцать Саня носился с мыслью написать большой трактат о пошлости и издать его книгой. Чем дальше, тем больше мысль о такой книге приобретала ритуальный характер. Ясно было, что замысел неосуществим. Но, так или иначе, пошлость и глупость были темой, на которую сворачивал любой разговор. Строки Блока из «Последнего напутствия» уже не цитировались, а подразумевались:
Человеческая глупость,
Безысходна, величава,
Бесконечна…
Книга наших бесед тоже не состоялась и вряд ли состоится. Я насчитал среди публикаций всего три-четыре. Остальные либо прошли мимо интернета, либо затерялись в нем. Компьютер же со всеми файлами горел у меня много раз – тексты ушли навсегда, прочнее, чем в небытие.
Остались, видимо, магнитофонные записи. Этими, бесконечно модернизирующимися кассетами можно выложить дорогу нашей жизни, пролегающую сквозь ускоренно мордующий и ускоренно ублажающий нас технический прогресс. Огромные бобины на радио, домашние, размером с расправленную ладонь, поменьше – в диаметре, как консервы сайры, мини-кассеты, дискеты и, наконец, цифровые диктофоны. Время от времени предыдущую запись приходилось стирать. Не было еще навыка закидывать их в компьютер.
Возможно, сохранились какие-то общие радийные передачи. Надо проверить. За десять лет моей работы на радио у нас с С.Л было много замечательных разговоров. Спустя годы, позвонил как-то утром: не представляете, что я сейчас слушаю. Полчаса мы с вами рассуждаем о Канте. Знакомая записала с эфира. Можно сегодня представить себе что-нибудь подобное?
Да, время по кривой дорожке забежало так далеко, что нам в него было уже не попасть.
… У меня бывают времена, когда и письмо написать нелегко (и сейчас как раз такое), – а получать письма, тем более от Вас, – все равно необыкновенно приятно. В футболе мне нравятся и волнуют меня моменты, когда группа атаки оказывается вштрафной и мгновенно разыгрывает комбинацию ходов. Наши команды этого не умеют. Иногда кажется, что они вообще не представляют, как проникать в штрафную и что там делать. Но и лат. американские команды, как мне представляется, делают основную ставку на быстрые проходы с обоих флангов: пас вдоль ворот – и замкнуть. Футбол как игра резвых коротышек меня не занимает. Текст никак не пишется.
…Завтра матч за третье место, унизительный (как и победа, и проигрыш, и приз) для обеих команд. Неужели они будут радоваться голам и улыбаться зрителям? Послезавтра – абсолютно предсказуемый финал. И мнимому празднику конец. (Имеется ввиду чемпионат мира по футболу 1914 года в Бразилии. – Н.К.) Я прочитал Вадикову «Лисистрату» – какой он молодец! (Пьеса в стихах Вадима Жука по мотивам Аристофана. – Н.К.) (Получилась нечаянная рифма, но что поделать.) У меня сейчас химическая эйфория: могу читать и писать письма. Надеюсь воспользоваться ею и двинуть свой текст. Если успею: по опыту известно, что через дня три – уныние с изнеможением. Рад, что в Вашем письме есть признаки покоя. Все еще надеюсь увидеться и ровно через месяц начну за это формальную борьбу. Были бы только силы.
История беседы, с фрагментами которой я хочу познакомить читателя, такова. Я собирал книгу «Биография внутреннего человека». Книга должна была состоять из монологов. Идея была в том, чтобы человек рассказывал не о том, что он видел, даже не о том, как он жил, а о том, что он понял.
Самуил Аронович подключился к замыслу мгновенно, едва я успел договорить. На практике чаще всего мне приходилось переделывать диалог в монолог. Собеседнику трудно было самостоятельно выстроить сюжет, он нуждался в репликах, в вопросах. У С.Л. это был именно монолог.
Тут еще надо сказать об одном его даре, встречающемся, пожалуй, реже, чем дар литературный. Его импровизированный монолог был начисто лишен сорных слов. Фраза выстраивалась виртуозно, точно, не прерываясь, без кокетливых уходов в сторону. Она не просто случалась, но росла так, как была задумана (этого свойства, например, начисто был лишен Набоков, писавший не только тексты лекций, но и ответы интервьюерам). Или: как будто была задумана. То есть, так, как она выстраивается обычно в письменной речи. В молодости он мечтал об университетской кафедре и наверняка стал бы блестящим и обожаемым лектором. О том, почему этого не случилось, существуют разные версии, в том числе, у самого С.Л… Не буду сейчас этого касаться.
Иногда Саня говорил: просидел сегодня всё утро, и не написал ни строчки. Вы же знаете, вначале надо поймать мелодию. Без этого всякое рукоделие лишается смысла. Так вот в разговоре он, быть может, заряжаясь от присутствия собеседника, всегда эту мелодию ловил. Поэтому речь его почти не отличается от письменного текста. В этом вы скоро убедитесь.
В тексте, который он потом прочитал, была, сколько помню, одна правка. Очень для С.Л. характерная. Речь вначале монолога была об эпизоде, случившемся на летней студенческой практике, когда одно замечание сокурсника Андрея Арьева переменило его отношение к происходящему в стране. В устном монологе Андрей назывался полным именем, а в тексте были оставлены только инициалы: «…впервые я тогда услышал от А.А. одно словосочетание, которое, я думаю, переменило мою жизнь».
Лурье свято оберегал суверенность другого человека. Упоминание имени было в некотором роде вторжением в эту суверенность, произволом. Получалось, что он как бы принимал решение за своего друга. А хочет ли тот быть героем эпизода? Будет ли ему приятно? Лучше за черту не заступать.
И вот монолог С.Л. был закончен. Мы уже выпили по рюмке. Жалко было выключать диктофон. Так и получилась беседа, как некий довесок к монологу.
… Безнадежно, дорогой Коля, потому именно, – думаю я, – что надежды и в самом деле больше нет. Она ведь была – в конечном счете – на народ, в частности и особенно – на молодежь. В этом смысле Бирюкова (Главный редактор газеты «Первое сентября», в которой печатался С.Л. После присоединения Крыма газета прекратила свое существование. – Н.К.) права: двадцать лет газета (как и вся остававшаяся интеллигенция) работала на то, чтобы из школы выходили не дураки. Двадцать раз прозвенел последний звонок. Писатели писали, учителя пересказывали, интернет и ТВ делали свое – в результате нас окружают десятки миллионов бесстыдных дураков, с которыми можно делать что угодно и которые сами с кем хочешь сделают что им поручат. Это полное и окончательное поражение. Средние века: ислам, совок. Неизбежное следствие – мировая катастрофа. В этом и состояло, как я и говорил, историческое предназначение госбезопасности как уникального института: она с самого начала была нацелена на уничтожение цивилизации. Которое и вступило теперь в заключительный цикл. В сущности, нам очень повезло: сколько людей, умирая, жалели, что не удалось досмотреть. А нам почти удалось, а уцелевшие потомки вообще будут удивляться нашей наивности. Все уже было так очевидно, – скажут они, так неинтересно.
…Я слежу за нарастанием безумия, читая Грани, Ежедневный журнал, Сайт Эха Москвы, NEWSru.com, Радио Свобода и смотря (иногда) передачи Савика Шустера в Киеве. Это над нами какая-то насмешка истории. Этого просто не могло быть. Это антиутопия в чистом литературном виде…У меня сейчас фаза активности (только что кончился второй курс химии). Чувствую себя чуть ли не здоровым и даже – впервые за год – пишу текст, уже 17 страниц. Но это все ненадолго, потом наступает фаза апатии с изнеможением. Хочу успеть хотя бы с этим текстом, хотя ни малейшей ценности он не имеет. А хотелось бы, чтобы имел, черт возьми. (Хлестаковская фраза, правда?)
Беседа: Теория точек. Разговор начался с «Литератора Писарева». Роман был задуман в конце шестидесятых. Саня показал мне главку. Уговоры продолжать ни к чему не приводили.
Сейчас во всех биографических справках утверждают, будто роман и написан был в шестидесятые. Это не так. Большей частью написан он был и закончен лишь к концу семидесятых.
Я стал работать в издательстве «Детская литература». Пообещал, что издательство заключит с ним договор – надо писать. Договор заключили, роман двинулся и… стал моим последним предприятием в «Детгизе». После положительных рецензий директор в мое отсутствие заказывал рецензии разгромные и абсолютно безграмотные. Вроде того, что необходимо подробнее рассказать об отношениях Писарева и Пушкина. Мы с Саней доблестно составляли ответы, но в дело вмешалось КГБ, и вопрос, в сущности, был решен. Эта история подробно рассказана С.Л. в «Биографии внутреннего человека». После того, как автору выплатили положенные деньги (была такая процедура с формулировкой «творческая неудача»), я из издательства уволился.
Роман вышел лишь в начале перестройки, через восемь лет. До этого печатался в «Неве». С.Л. подарил мне журнал с надписью вроде: «Дорогому Николаю Прохоровичу – организатору и вдохновителю наших побед». На надпись я взглянул мельком – мы уже отмечали публикацию. Он спросил: вы не узнаете эти слова? Я не узнавал. Он, засмеявшись: так ритуально обращались к Сталину.
До смерти боялся сентиментальности. Надписи на всех последних книгах, напротив, полны прямого изъявления чувств. И в последнем своем письме из Америки Саня с благодарностью поминает историю с «Литератором Писаревым».
Раньше я никогда не интересовался, почему все же героем романа стал именно Писарев. После Ватто, Пушкина, Гоголя, Анненского выбор немного странный. Как это случилось?
– Отчасти по житейским соображениям. Это был конец 60-х – оттепель прошла. Я хотел существовать в литературе – стало быть, должен был искать компромисс. Политический и жанровый. Критика была, по сути дела, тактикой. Критику писать я не мог. Прозаиком себя не мнил. Т. н. литературоведение притворялось наукой слишком грубо: дурные тексты о текстах хороших, и только. Плюс арматура.
Это, помните, нам говорил еще наш общий учитель Дмитрий Евгеньевич Максимов: у каждой диссертации должна быть арматура. Имелась в виду библиография, которая, как известно, начиналась именами Маркса, Энгельса и Ленина.
Однажды нескольким молодым литературоведам, в том числе и мне, дал аудиенцию тогдашний директор Пушкинского Дома. Кто чем хотел бы заняться, какой темой, и прочее. Он на моих глазах извлек из картотеки ящик: «Вот, смотрите, о Тютчеве защищено сорок семь диссертаций». После нескольких таких манипуляций выяснилось, что все про всех написано и защищено, хотя имеются и белые пятна: это такие имена, которые фигурируют в названиях всего лишь двадцати трех, допустим, диссертаций. С тем мы и ушли, услышав на прощание: «Подумайте, молодые люди». То есть все, типа, по-доброму. Однако само собою разумелось, что без арматуры ни в каком случае не обойтись. Ну, я подумал и понял, что для меня этот путь, к сожалению, закрыт.
Оставалась историческая беллетристика. Точнее, биография.
Но и тут: про кого можно было писать? Про пламенных революционеров. В крайнем случае – про сатириков XVIII века. Возможно, до сатириков этих я и добрался бы, но в ту пору я жил веком XIX. А ни про одного из классиков XIX века написать было нельзя без лукавства.
Писарев же оказался фигурой подходящей. С одной стороны, он не считался революционным демократом. Поэтому ЦК КПСС не занес его в списки «пламенных революционеров». С другой – как ни крути(,) – жертва царизма, сидел в крепости.
То есть иконописный канон на него не распространялся. О нем в принципе допустимо было написать просто как о несчастном человеке. Просто как о честном литераторе.
Это из разряда общих соображений. Но была еще в жизни минута, которая нечто во мне изменила. Я ее помню. Зима, еду в электричке в направлении Ломоносова. И в руках у меня брошюрка XIX века, в которой собраны письма Писарева к некой Лидии Осиповне. Писарев писал из Петропавловской крепости женщине, которую он никогда не видел. Растолковывал ей, почему она должна выйти за него замуж. И что любви никакой не существует, но при встрече они обязательно понравятся друг другу, и все такое.
Я сидел у вагонного окна, за окном летел мокрый снег. И я вдруг ясно понял, что передо мной письма сумасшедшего человека. Он изъяснялся так логично. Мы не знакомы, мы не любим друг друга – и что такого? Которые знают друг друга, любят и женятся – те, что ли, бывают счастливы? Какая важность, что она его не любит, а он ее? Зато она читала его статьи и знает его мнения. Он тоже знает ее убеждения, поскольку она читает его статьи. Они единомышленники, а что еще надо? Рисуются идиллические картины будущей совместной жизни. Вот как они будут сидеть и друг другу читать. Он будет работать, а она ему помогать, выслушивать его статьи и так далее.
Инфантильная утопия абсолютного безумца. Еще надо представить, что пишется это в Петропавловской крепости: каменные стены, окна на уровне земли. И то, что цензура и госбезопасность сломали ему жизнь, а он был бедный маленький сумасшедший. Это ощущение пронзило меня совершенно. Надо, надо было про это написать, надо было это как¬-то выразить и отомстить за него, потому что он был очень несчастен. Ну вот, я и написал, как мог, в не лучшей, наверное, форме, в форме биографии.
Мне всегда казалось, что самое оскорбительное для мертвого человека, особенно писателя, это попытка подменить ему его личность, его мысли. Да, превозносят, хвалят, но ведь не за то. Можно изобразить его юродивым, сумасшедшим, пьяным, больным, но только таким, каков он был. Если ты при этом волнуешься и что¬-то чувствуешь, он, хоть на мгновение, станет живым. А сколько ни пиши, что он был гений, политически правильный, храбрый, – это будет неправда, будет ложь, и это его еще раз убьет. Вот это ощущение реальности чужой жизни, давно угасшей, как будто я держу ее в своем уме, слышу ее интонации и должен, как умею, передать их другим, – меня это ужасно волновало.
Ну потом я, как и всякий литератор, столкнулся с тем, что никак не получается то, что точно знаешь, написать напрямую. Ты должен рисовать сцены и объясняться на языке глухонемых.
Искусство слова есть искусство перифраз, посторонних описаний. Искусство слова есть искусство невозможного слова. Ты заменяешь невозможное слово несколькими возможными, и это и есть литература. То есть не поэзия.
Я в то время был ровесником Писарева. Была еще осуществима операция замещения, почти телесного. Я проводил в Петропавловской крепости не знаю сколько часов: слушая крики ворон, бой курантов. Почувствовать на себе чужое тело. Не знаю, как это объяснить. Я начинал ощущать на себе липкую, грязную кожу человека, которого раз в месяц водят в баню, который живет в прокопченном помещении с горящим деревянным маслом. И как у него пахнет изо рта, потому что цинга там, кариес и все такое. Вплоть до того, как расплываются чернила на листе отсырелой бумаги.
А в текстах¬-то у Писарева – ирония, простота фразы, рационалистический пафос. Абсурдный, но неотразимый. Ведь это даже смешно, что вся советская пушкинистика не смогла опровергнуть ни одной инвективы Писарева против Пушкина. «Ах, Писарев, с его нигилизмом… Какое кощунство, какой цинизм!» Не справились, в общем. Он на сто лет оказался умнее пушкинистики
Вот, собственно, и объяснение названия одной из книг С.Л. – «Разговоры в пользу мертвых». Возродить, то есть, рассказать правду. Иначе – вторая смерть. Пусть не гений, не храбрый, а юродивый, сумасшедший, пьяный, больной, но показать таким, каков он был. Художник от правды не потеряет. И, в конце концов, это единственный способ восстановить справедливость. Так Саня в другой беседе говорил мне и о замысле «Изломанного аршина»: «Я был довольно молод. Жалел мёртвых. Любил справедливость. Отчего, думаю, в самом деле, не попробовать разобраться – что там случилось с этим Николаем Полевым; как он дошёл до отчаяния; за что довели. Даже если он действительно предал сам себя, и к чёрту сантименты, – всё равно нельзя же так оставить: человек, умирая, пытался что-то сказать – допустим, вздор; допустим, в бреду, – а если нет?»
На этот раз, меня заинтересовало то, что биографию он считает не лучшей формой рассказа о человеке. Есть другая? Какая?
– Понимаете, мной владела такая мысль, что для всего на свете должен существовать некий идеальный текст. Ближе всего к тому, о чем я говорю, некоторые стихотворения Мандельштама. Про Европу, про Диккенса. Мысль о том, что возможно выразить самую суть большого явления, будь то писатель, роман, собрание сочинений, историческое событие, очень концентрированным текстом, одним абзацем. Для этого, может быть, нужен другой жанр, другой стиль, другое мышление. Меня долго это мучило. Возможно, это моя лень. Мне хочется писать как можно, как можно, как можно короче.
Это как бы иллюзия. Или как бы предчувствие. Что истина, любая, может быть выражена одним афоризмом, фразой, в крайнем случае, абзацем. Это притом, что она не может быть высказана прямо. Должен существовать какой¬-то путь в глубину. И вот когда не можешь написать такой абзац, прибегнуть к такому концентрированному тексту и даже понять его лингвистическое измерение, то ты вынужден идти другими путями. В конце концов, есть цитата – она говорит сама за себя. Есть биографические и исторические факты. Ты их показываешь с разных сторон. Но это паллиатив, это от не-гениальности, от невозможности сказать тремя словами то, что ты хочешь сказать тремя словами. Поэтому лучшие из нас пишут тридцать слов, я, например, пишу три тысячи, а кто-¬то другой – тридцать тысяч. Или триста тысяч.
У меня была даже такая теория точек. Я раньше про произведение, например про стихотворение Блока, очень точно понимал… Я его читал, читал, пока не начинал чувствовать, что все оно выросло из одного точечного импульса, буквально из булавочного укола. Это была миллисекунда, которая затем развернулась в некий текст, который длится, скажем, минуту или две, хотя на самом деле он гораздо обширнее.
Идея умирает в тексте, чтобы возродиться в сознании читателя. Думаю, что это так и происходит. Эта миллисекунда превращается в некую пространственную структуру, в тело текста, но в результате, если произведение гениально, остается в нас той самой миллисекундой. Из точки получается снова точка. А то, что написал поэт, и то, что прочитал я, это две посредствующие структуры. На этом можно было бы, как мне кажется, построить целую методологию, но у меня на это не хватит ни образования, ни ума, я знаю это только как эмпирический факт.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?