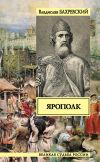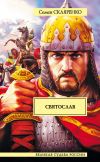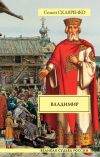Текст книги "Юрий Долгорукий и византийская принцесса"

Автор книги: Павел Загребельный
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ну! – князь Андрей швырнул свой лук, сел за стол напротив Дулеба, подпер щеки кулаками, уставился в лекаря своими большими глазами, в которых полыхал гнев. – Повтори, как звался тот отрок и как звался монах.
– Кузьма и Сильвестр. Сильвестр еще вельми ученый. Вел записи монастырские, у игумена Анании считался самым способным послушником.
– Вот вранье, – уже спокойно промолвил князь Андрей. – Либо ты сам врешь, лекарь, либо тебя ввели в заблуждение недобрые какие-то люди. Князь, – обратился он к Юрию, – этот монашек у меня во Владимире. Уже вот два месяца.
– Ежели он у тебя, – засмеялся Юрий, – то лгуны мы с тобой, а не лекарь. Получается, знал человек, зачем забивается в такую даль. Хвалю, лекарь. Ибо наполовину правда – уже правда. Прости моему сыну его несдержанность, горячий нрав имеет. Соединил в себе гордость Мономаха и половецкий огонь. Эй, там, вынесите-ка отсюда лук князя Андрея! Теперь тут ничто не должно напоминать о словах, молвленных в запале и гневе. Ты же, лекарь, выбирай: будем сидеть здесь, ожидая, пока приведут сюда беглого монашка киевского для расспросов твоих, или же поедешь со мною, как согласился вчера, к князю Ивану, а монашка тем временем доставят туда, а может хочешь прямо в Суздаль, то поезжай, а я в скором времени тоже там буду.
– Делай как знаешь, – ответил Дулеб, – единственное хотел бы: расспрашивать монашка при тебе.
– Это мой человек, я никому не отдам его! – топнул ногой князь Андрей.
Юрий взглянул на сына прищуренным глазом:
– Поучись у брата своего Ростислава княжескому достоинству. Знаешь монашка своего два месяца, а ставишь за него свою честь.
– Ты знаешь лекаря день лишь единственный, а хочешь поставить выше своих сыновей и выше самого себя, – вскипел Андрей.
– Не его хочу поставить, – правду. Она и без того стоит над нами, что бы мы ни чинили. Высший суд нашим деяниям и мыслям, сыне. Если твой монашек в самом деле убийца…
– Не убийца он! Такой не может стать убийцей!
– Откуда ведомо тебе?
– Книжный человек вельми.
– А разве за книги не убивали людей?
– Убивали, да не те, кто писал книги. Это люди смиренные и мирные. Они ближе всех к богу. Лишь благодаря им, написавшим книги, люду стали известны многие истины. Так назовешь ли злодеем того, кто пишет книги? Такие люди не могут убивать. Слова не убивают, только меч.
– Справедливо, брат, – добавил Ростислав с вершины своей покровительственной насмешливости, – в отношении меча справедливо молвил, ибо князю лучше дружину с мечом иметь, чем монахов с писалами. Даже хороший повар дороже книгописца.
– Доставим этого монашка сюда и спросим его тут, лекарь, – решил Юрий. – Пошли, князь Андрей, гонца, пусть приведет сюда твоего книгописца.
– И будем изнывать в этой грязи? – брезгливо поморщился Ростислав.
– Тебя не задерживаем. Поезжай в Суздаль, готовь дружину к походу. Как ударят морозы, так и с богом! А нам надобно здесь.
– Не дам своего монашка, – твердо повторил князь Андрей. – Ты, княже Юрий, не ценишь таких людей, знаю. А зря. Потомкам не будет дела ни до твоих дум, ни до намерений высоких. Будут знать о тебе по тому, что останется. А что останется? Написанное. Испокон веков так ведется.
– Дела останутся, забыл ты, сын.
– Дела исчезнут и быльем зарастут. Всемирный потоп не смыл с лица земли книг. Человечество может вымереть, книги переживут. Написанное останется. Вот ты сидишь в сей земле пятьдесят лет, сколько городов поставил, скольких людей пригрел, сколько добра сделал. А приезжает человек из Киева, и человек не темный, ученый, лекарь, и что? Не ведает ни о каких твоих добрых и славных делах, а называет тебя убийцей. Был бы возле тебя верный летописец, он бы проследил каждый твой малейший поступок, и ты поставил бы сего лекаря перед пергаменом, пусть бы почитал.
– Дел не так много у князя, чтобы он сам их не способен был записать. Учил я всех вас, сыны мои, не родились вы лишь князьями, родились для великих трудов, и уж ежели ты князь, то будь им, во всем и до конца! Умей обращаться с мечом и с веслом, с конем и писалом. Иначе что же ты за князь! Вспомните деда вашего Мономаха. Вспомните Всеволода, Ярослава.
– Кто сам пишет о себе, лишь затемняет суть и свой образ. Постоянное писание отрывает тебя от забот о судьбе земли и люда. Одновременно нельзя пренебречь написанным, потому что оно способно сделать нас либо призраками, либо всемогущими.
– Вместо слов молвленных, а пуще того – писанных, достаточно хорошего намерения, – похлебывая пиво, спокойно заметил Юрий.
– Вот и получай за свои добрые намерения! Изяслав убил Игоря и тебя же обвинил в этом.
– Это не Изяслав, это я! – твердо промолвил Дулеб, о котором словно и забыли в разгар спора между отцом и сыном.
– Все едино, – отмахнулся от него Андрей, – они там в Киеве готовы отнять у нас все: и достоинство наше, и лучших людей наших, и богатства наши, и свободы, и самую жизнь нашу. Все мы умрем когда-нибудь, и никто не узнает о великих трудах наших в этой великой и часто неласковой к человеку земле. Так почему бы я должен был не пригреть такого умелого человека в писании, как монашек Силька?! И не поверю никогда, что он мог учинить злодеяние. И не отдам никому. Уже назвал его своим приближенным летописцем.
– Напоминаю тебе, что сам можешь записывать все достойное внимания и памяти, ибо ежели ты поставлен выше всех на земле, то и судить обо всем надлежит тебе первому. – Юрий и дальше не поддавался запалу, с которым вел спор князь Андрей. Казалось, этого человека ничто не может вывести из равновесия, поколебать его убежденность и веру в себя. – Почему ты думаешь, будто какой-то беглый монашек киевский сможет лучше тебя самого описать все содеянное тобою? Отец мой, а твой дед, великий Мономах, восемьдесят раз ходил в походы и не ждал, что кто-то все это опишет, сам был грамотен, сам брался за перо, возил с собою книги и пергамен.
– А написал ли про убийство половецких ханов, которые сдались на его милость и которым обещал сохранить жизнь? – жестко спросил князь Андрей, в котором, видно, заговорила половецкая кровь его матери. – Или о позорном поражении возле Триполя, где утонул князь Ростислав, – об этом написал Мономах? И что когда-нибудь напишут об этом другие – знаешь, княже?
– Не нужно об этом, – тихо промолвил Долгорукий, – про Триполь Мономах не мог без слез вспоминать до самой смерти. Не помнил восьмидесяти своих побед, а страдал от единственного поражения, ибо считал, что это по его вине утонул его любимый брат Ростислав. Выиграть восемьдесят битв, а одну проиграть и потерять любимого брата? Зачем тогда все? Великую боль носил в сердце своем Мономах, и не следовало бы тебе, сын мой, вспоминать об этом деле. Мертвые для нас все одинаково близки, неважно – умер человек день назад или тысячу лет. Всех должны видеть и понимать. Для живых все доступно: дела, слова, успехи, поражения, слава, позор. Мы рассматриваем дела умерших, ничто не скрывается от нас, так будем же справедливыми прежде всего!
– Вот и хочу, чтобы не судили о нас потомки, как им захочется, сам проследить все записи хочу и поставить записи эти в соответствие с нашими деяниями, – сказал Андрей. – Для этого нужен человек умелый и посторонний. Сила посторонняя – всегда сильнее тебя самого. А кому не хочется подчинить себе то, чем не владеешь сам? Если бы Мономах не только писал свои поучения, но и проследил, что летописцы скажут про все деяния его, разве говорили бы мы с тобою, отче, про убийство половецких ханов, которое так и останется темным, а то и позорным.
– Довольно об этом убийстве, княже. Может, хоть меня не станешь обвинять в убийствах?
– Я – нет. А другие? Как тебя прозвали? Долгой Рукой.
– Ты же знаешь, за что и кто назвал.
– Ну так, а теперь сей лекарь. Кем назвал тебя? Благодетелем? Ангелом? Вершителем воли божьей на земле?
– Дозволь, княже, вмешаться в разговор ваш, хотя и негоже простому человеку это делать, – обратился к Юрию Дулеб.
– Хочешь стать на мою сторону? Но меня можно защищать от кого угодно, кроме моих сыновей.
– Нет, хочу выступить также против тебя.
– Уже выступил. С тобою тоже никто не потягается. Назвал меня убийцей, не спросил, велел ли я убить хотя бы одного человека за всю жизнь, или, может, не хочешь расспрашивать того монашка, не надеясь на подтверждение?
– Я хотел о другом. Про книги и тех, кто их пишет, и про властителей держав, то есть про таких, как ты, княже. Книги – это разум народа, то есть движение вперед; власть же являет собой порядок в державе, то есть неподвижность, устойчивость. Пока эти две великие силы разделены, они взаимно выправляют друг друга и друг другу противодействуют, тогда также в народном бытии сохраняется необходимое равновесие. Но когда эти обе силы сливаются, вступают в сговор, то неизбежным следствием такого сговора будет угнетение в державных действиях и раболепство в книжном. Потому-то ты неправ, княже, когда отрицаешь пользу от умелых книгописцев. Но не можем признать правды также и за князем, который хочет купить себе книгописца, поставить себе на службу, забыв о его независимости, которая может быть лишь тогда, когда он служит не кому-нибудь одному, а целому народу, державе, то есть истине. Летописец должен сидеть не в княжеском тереме, а в келье, подальше от мира, в стороне от страстей и стычек, и писать с сердцем спокойным и разумом не омраченным корыстью и нечистыми помыслами.
– У летописцев есть страшнейшее оружие, – бросил князь Андрей, замалчивание. Будто бы и не было тебя, и не был ты и ничего не сделал. Мы не можем сидеть и ждать, кто про нас когда-то там что-то там напишет с непомраченным умом и невозмутимым сердцем. Так они напишут потом о сыновьях и внуках Мономаха, что они не содеяли ничего достойного упоминания. А кто может это проверить? Поверят написанному.
– Ну и что? – вздохнул Юрий. – Так пишут всегда и про всех. Да это еще не причина, чтобы сидеть сложа руки. Нужно украшать землю, строить города, наводить порядок в державе, сделать свою державу единой, как тело людское, а не разорванной на лоскуты.
– Города! – засмеялся Андрей. – Камни молчат. И все на свете молчит. Молвят лишь книги. Надеяться на великодушие потомков – больно уж велика роскошь. Их суждения вызываются то леностью, то непониманием, то враждебностью. Если есть случай и возможность самому проследить записывание деяний своих, то почему я должен пренебречь этим? Может, с этого и начинается подлинное величие княжеское, отче.
– Жизнь никогда не начинается с величия, сын мой, зато ее можно величием закончить. А с монашком поступим так. Отправимся все в Суздаль, там поставишь перед нами своего монашка, лекарь пускай спрашивает у него, что нужно, на том и делу конец. А теперь в путь!
– Давно бы так, – вздохнул истосковавшийся Ростислав, – а то я уж испугался, что придется и ночевать в этой баньке на грязных кожухах.
– Ночуй или не ночуй, все едино киевляне про суздальцев говорят, что они кожухами воняют, – засмеялся Юрий.
– Суздальцы, да не князья.
– А мы князья суздальские, стало быть суздальцы.
Они вышли на берег, и теперь уже Дулеб целиком был в руках суздальцев, ибо не было рядом ни Иваницы, ни коней; его посадили с князем в самую большую лодью с красным княжеским парусом на мачте, и лодья отплыла от острова.
Князь Юрий усадил Дулеба рядом с собой на скамье; князь проникся если и не полнейшим еще доверием к этому страннодобровольному служителю истины, то по крайней мере стал уважать его, как узнал, что Дулеб не просто прибыл от наглого Изяслава для неправедных обвинений, а подчиняясь голосу совести и некоторым указаниям на следы, подтверждением чему был монашек, которого так яростно защищал князь Андрей.
– Не стал бы я раздражать сына Андрея, – доверчиво промолвил Дулебу Юрий, – я-то бы еще рассказал сказочку про того бога, который изобрел письмо. Он и не бог был, а полубог, покровитель купцов и воров, которым подарил счет и игру в карты. Для людей же приготовил умение писать, пошел к царю той земли и похвалился своим новым искусством. На что царь ответил ему: «Великий изобретатель! Дело одних людей изобретать то или иное искусство или умение, другим же людям надлежит знание о том, что несет людям это умение: благо или несчастье. Ты утверждаешь, что умение писать сделает народ мудрее и благороднее. А я тебе скажу, что искусство письма, наоборот, внесет в души тех, кто постигнет его, забвение, ибо, возлагая надежды на могущество письма и память других, они не станут ничего удерживать в своей памяти, и вот окажется, что изобрел ты не целебное средство для божественной памяти, а никудышное умение записывать, и прославишь мудростью не настоящих мудрецов, а буквоедов и книгоедов». Не книгами и письмом нужно бороться с забвением, лекарь! О нет! Смотри на эту землю. Долго и тяжко будем плыть, и смотри пристально. Не увидишь того, что видел далеко не юге. Тут все иначе. Не думай также, что нам не любо все киевское. Еще дитятей вывезли меня оттуда, но вынес именно из тех краев тягу к травам, деревьям, птицам, зверью, небесным светилам, утрам прозрачным и вечерам в солнечном огне, к тихим снегам, к голосам, цветам всего сущего. Не забуду никогда того дива земли теплой и погожей, но и без этой могучей земли теперь не прожил бы. Взгляни, лекарь, увидишь ли еще где-нибудь такое на свете!
Они плыли несколько дней то по широким, взвихренным разливам вод, то по узким лесным речкам, тяжелые холодные туманы залегали над посеребренными инеем травами, безжалостно холодное небо накалывалось на колюче-черные сосновые боры, которым никто не ведал конца, да и этой земле никто не ведал конца, по крайней мере северные ее рубежи терялись в неприступных для человека холодах и вечных льдах.
– Смотри, лекарь, – чуть ли не с юношеским восторгом обращался к сдержанному Дулебу князь Юрий, – это единственная беспредельная земля на свете. В ней затеряется, утонет, исчезнет, пропадет все, каким бы великим оно ни было, ее нельзя ни завоевать, ни покорить, ни купить, она достойна лишь одного: объединения. Кто это может сделать? Бог не сумел, он разъединил людей, разбросал их во все концы. А сможет ли человек слабый и смертный совершить это великое дело? Даже если этот человек князь.
Дулеб молчал, и князь Юрий, который сам бы не смог объяснить причины своей откровенности и даже растроганности перед этим спокойным человеком, малость пожалел, что беспричинно начал раскрывать свою душу. А может, и не беспричинно? Прибыл этот человек из Киева, привез такое обвинение князю, а не ведает того, что этот князь при воспоминании о Киеве становится ребенком, малым отроком, который не может забыть теплых ночей над Днепром, неба ласкового, будто материнские глаза, отцовских слез радости, которые каждый раз проливал Мономах, возвращаясь к своим детям.
Но к лицу ли великому князю такие воспоминания? И поймет ли этот человек, что земля не может быть разобщенной, не должна быть разобщенной, точно так же как нельзя разорвать надвое человеческую душу, переполовинить сердце, оставив одну его частицу в сладких и незабываемых краях детства, а другую забросить в суровую даль холодной зрелости.
Дулеб чувствовал себя вельми плохо. Так было с ним разве лишь в Кракове, когда ел Петроков хлеб и обманывал комита с его женой. Но тогда все оправдывалось его любовью к Марии, они оба горели высоким огнем, который дается человеку в молодости и в котором нужно гореть, ибо это жизнь. А тут? Что отстаивал Дулеб в противовес этому странному человеку, который легко переходит от насмешливости к исповеди, раскрывает сокровеннейшие, святейшие свои намерения перед незнакомым, перед врагом, собственно, вступает в не совсем приятный спор с родным сыном при нежелательном свидетеле, да еще и допускает этого постороннего свидетеля в их княжеский разговор, внимательно выслушивает, старается доказать свою правоту не грозным окриком, не угрозами, а рассудительным словом.
К такому бы князю в сообщники, в помощники, в верные слуги, а он к нему – с тяжелейшим обвинением. Да и кто он? Какой из него сообщник и помощник? Что он умеет? Лечить людей? Но ведь они все равно умирают, еще не родился тот, кто мог бы спасти от всех хворостей, а смерть одолеть не дано никому до скончания века.
Князь Юрий, видимо почувствовав, как терзается в душе Дулеб, начал расспрашивать его о лекарстве, о болезнях. Откуда берутся? Чем объяснить, что люди живут на той самой земле, под тем самым солнцем, под теми самыми дождями и снегами, а у каждого есть своя хворость или нет никакой, как вот у него, у князя Юрия, хотя дожил уже до высоких лет. А вот сын Святослав одержим злой хворостью от рождения. Ярослав, которого назвал в честь Ярослава Мудрого, – слабоумен, Борис тих душой и слаб телом, не способен носить меч…
Дулеб не мог ему объяснить. Лечил – и все. Умел увидеть болезнь. Но откуда она и почему? Кто его знает? Это так же, как спрашивают без ответа в священных книгах: есть ли у дождя отец? Кто рождает капли росы? Откуда появляется лед и иней небесный в воздухе – кто его родит? Правда, кое-кто склонен объяснять хворости и здоровье соответствующим влиянием планет. Теплота, холод, влажность и сухость суть составные части человеческой натуры, они зависят от небесных светил и изменяются от их положения. Потому-то и судьба всего живого обусловлена и определена небесными телами и их движением. Тепло и влага обусловливают жизнь и плодовитость, ибо из них все развивается, через них соединяется между собой и укрепляется, а холод и сухость приносят вред, смерть и оцепенение, от них все сохнет и пропадает.
Так плыли они по мутным рекам, которые по неведомым причинам не покрывались льдом всю зиму. Перед самым Суздалем пересели на коней, чтобы согреться и въехать в город торжественно-бодрыми, как и надлежит великому князю с его сыновьями и дружиной, пусть небольшой, зато отборной.
Вырвались из лесов, очутившись на волнистой равнине залесского ополья, чем-то похожего на прикиевское поле Перепетово; может, и выбрали место для города первые беглецы из Киева, пораженные сходством этой земли с родными местами, из которых выгнала их привередливая судьба.
К городу подъезжали уже ночью. Ночь была лунная, морозная, земля сверкала в серебристом воздухе, темные леса беззвучно расступились, выпустили из себя тихую речку Каменку, похожую чем-то то ли на киевскую Лыбидь, а может, на Почайну, а может, еще на какую-нибудь речку из киевской, переяславской, черниговской земли; волнистая равнина мягко переходила за речкой в отлогие, ласковые холмы, которые тоже напоминали словно бы киевские горы, только уменьшенные, и город на этих холмах тоже напоминал Киев своими валами и церквами и длинными лунными тенями от церквей, но Киев уменьшенный, какой-то ненастоящий, игрушечный, хотя, как и в Киеве, все здесь было белое, светлое, тихое, прекрасное. И Дулеб почувствовал, как тужил этот бородатый, высокий человек, ехавший рядом с ним на буланой княжеской кобыле, по далекому Киеву, как старался перенести он на эти холмы образ вечного славянского города, как помогали ему все простые люди, в особенности же те, у кого душа рвалась на оставленные земли предков. Пятьдесят лет провел Юрий на этих землях, дитятей вырванный из краев, где родился, где впервые увидел Днепр и Десну, где, сидя в княжеском возке, слушал шелест дубовых листьев и смотрел на теплые звезды в синем небе. Пятьдесят лет! Страшно подумать. Семь сыновей и две дочери родились у Юрия. Умерла жена, маленькая половецкая хатуна из ханского рода Осенева, умер в прошлом году, идя на помощь Святославу Олеговичу, сын Иван. Это смерти недавние, близкие, чуть ли не вчерашние, а смерть Мономаха? Все сыновья тогда съехались в Киев, чтобы захоронить останки Мономаха в Софии рядом с Всеволодом и Ярославом; Юрий приехал из отдаленнейшей дали. А смерть его матери, княгини Евфимии, женщины простого рода, которую Мономах взял после смерти своей первой жены Гиты, дочери английского короля. Мономаху не могли простить женитьбы на Евфимии, бывшей незнатного рода, ни князья, ни бояре; даже игумены и монастырские летописцы отнеслись к ней с высокомерием, забыв, что перед богом все равны. Рожденная в Киеве, она дожила там свой век, и сын Юрий похоронил ее в церкви Спаса на Берестове, после чего снова должен был отправляться в свои далекие края. Однажды он попытался приблизиться к Киеву хотя бы краешком, выменяв у старшего своего брата Ярополка, когда тот сидел в Киеве великим князем, за часть Ростово-Суздальских земель Переяслав и закрепившись в Остерском Городке, заложенном когда-то еще Мономахом. Однако при Всеволоде Ольговиче этот договор был упразднен, племянник Изяслав тоже не хотел допускать Долгорукого в Переяслав, выгнал оттуда его сыновей, чинил несправедливость за несправедливостью; Юрий, видно, тяжко переживал это, потому-то и посылал сыновей своих на юг, ибо сколько же может сидеть здесь, за лесами и реками, человек, рожденный там, в тепле и ласковости, рожденный, быть может, для великого дела, осуществить которое никогда не поздно?
…Каждый раз, когда ему приходилось приближаться к незнакомому городу, Дулеб переживал двойное чувство. Утомленное дальней дорогой и невзгодами тело жаждало отдыха; он невольно думал об уюте, огне, вкусном ужине, теплой постели, а одновременно с этими обыкновенными желаниями в душе маячило предостережение: там гнездился страх перед неизвестным, невольно хотелось, чтобы этот незнакомый город как можно дольше не приближался, чтобы к нему еще ехать и ехать, чтобы стлался путь коню под ноги еще долго-предолго, чтобы были еще какие-нибудь приключения на дороге, милые сердцу неожиданности, люди, птицы, деревья. Эту раздвоенность чувствовал он и теперь, когда их небольшая свита приближалась к Суздалю. Темные высокие валы суздальские возникли перед ним из волнистой, покрытой вечерней мглой равнины, тяжелые высокие ворота, наглухо закрытые, напомнили Дулебу лук князя Андрея и угрозу молодого князя, которую тот мог осуществить в любое время. Иваница вплотную подъехал к Дулебу, когда всадники столпились перед воротами, прошептал:
– Вот уж! И не думал, что в этих лесах может быть такой город.
Кто-то из людей Юрия застучал в ворота, с заборола крикнули:
– Кто там?
– Князь Юрий с сыновьями! Отворяйте живее!
Ворота громко заскрипели, медленно расползлись их створки, создав узкий проход, в отверстии появился всадник, весь в железе, со щитом и копьем, всмотрелся в прибывших, узнал князя Юрия, поклонился:
– Здоров будь, княже!
И отступил в сторону, пропуская мимо себя князя с сыновьями и их сопровождение. Несколько всадников помчались вперед, видно затем, чтобы известить кого следует о прибытии Долгорукого, сам Юрий ехал медленно, подняв вверх лицо, будто вслушивался в звуки своего Суздаля, впитывал его запахи, купался в лунном сиянии, которое здесь было особенно щедрым и плотным, так, будто собрали его со всех концов и бросили тугими снопьями между валами города, на его белые церкви, на светлые деревянные дома, на княжеский двор, просторный, открытый для всех взоров, с бесчисленным множеством строений, иногда настолько причудливых, что человек непосвященный ни за что не мог понять их назначение.
Перед воротами княжеского двора Юрия с сыновьями встречал тысяцкий Суздаля Гюргий Шимонович. Гюргия еще Владимир Мономах поставил пестовать своего сына Юрия и отправил его с маленьким князем в Суздаль, где они с тех пор и вели жизнь: один – великий князь, другой – его правая рука, его верный слуга, советчик, его замена и все что угодно.
Гюргию было уже около семидесяти лет, но годы не отразились на этом высоком человеке, не согнули его широких плеч, может, не очень посеребрили сединой и светло-русую бороду, хотя этого в темноте Дулеб и не мог разглядеть. Удивило его вельми то, что тысяцкий держался с сугубо княжеским достоинством. Он не поклонился ни сыновьям Юрия, ни самому великому князю, не замечалось заискиваний в его движениях, наоборот, все в нем было наполнено торжественностью, степенностью и чувством собственного достоинства. Он стоял в воротах, положив руку на круглую рукоять меча, спросил как-то по-отечески:
– Как съездил, княже?
На что Юрий без обиды, спокойно, казалось даже, вроде послушно ответил:
– Съездилось, может, и неплохо, да только не доехал, куда хотел.
– В другой раз доедешь, – успокоил его тысяцкий, и трудно было понять, в шутку ли он говорит это или всерьез, и только после этого поздравил по-настоящему: – С возращением тебя и твоих сыновей, княже, ибо возвращение – это всегда счастье и праздник для тебя и для нас.
– Ужин для всех, – коротко велел Юрий, въезжая во двор. – С нами гость из Киева, отец.
– Знаю, – сказал тысяцкий. – Гонец был, сказал. Веление твое, княже, исполнил. Из Владимира доставил того человека.
– Сам приедет, – вмешался князь Андрей, который уже проехал было мимо тысяцкого, а теперь придержал коня. – Не пустят ваших людей во Владимир, послал своего человека. Сильвестру сказано быть здесь, и он будет без никого. К моим людям не дозволю применять насильство.
– Воля великого князя, – напомнил тысяцкий.
– Знаю, и князь Юрий знает.
– Из почтения к велениям великого князя следовало бы того человека стеречь как надлежит, – тысяцкий шел за князем.
– Великому князю суждены одни лишь неудобства от его высокого положения, о почтении помолчим, – заговорил князь Юрий. – Давай ужинать, отец, и не будем портить себе ночь этим беглым монашком, потому что лекарь и так уже испортил мне несколько дней. И еще, видно, испортит немало дней. Верно, лекарь?
– Не знаю, – сказал Дулеб. – Истина требует иногда от человека вещей неожиданных, а то и вовсе невозможных, справедливость точно так же. Знаю лишь одну силу, которая навсегда определила свои требования ко всему сущему, что дает возможность соответственно относиться к тем требованиям, принимая их или отвергая. Догадываешься уже, княже, что сила эта – бог. Я же обыкновенный человек, ничего божьего в себе не имею. Так что же я могу тебе наперед сказать?
Для каждого, кто входил в сени княжеских палат, кто-то невидимый из тайных глубин помещения посылал каждый раз небывалой красоты девушку с серебряным рукомоем, так что даже невозмутимый Дулеб зачарованно переводил взгляд с одного личика на другое, а уж про Иваницу и говорить нечего. Парень просто голову потерял от такого чуда. Тут были высокие, гордые мерянки, сверкавшие северной красотой, чистотой, словно первые снега, были нежные булгарки из-за Волги, огнистоглазые и утонченно-умелые в обращении с вещами, не обошлось без половчанок, гибких, будто зеленый хмель, а над всеми сверкали сероглазой красотой суздальчанки, глаза которых впитали спокойную красоту северного неба, озаряли лицо, царили над ним, были самим лицом, ибо замечал ты лишь эти глаза, а больше ничего.
И за столом, за который сели все, утомленные и изголодавшиеся киевские гости сначала не замечали ни яств, ни напитков, ибо и там прислуживали пирующим только девчата. Еще более красивые, чем те, что были с рукомоями, еще более редкостной и необычайной стати, более же всего удивляло Дулеба то, что ни князья, ни их люди не обращали внимания на красавиц, они словно бы и не замечали их вовсе, – видно, это относилось к обычаям суздальского княжеского дома, может, велось так всегда. Хорошо это или плохо? В киевских пересудах про Долгорукого намекалось недвусмысленно и на суздальский разврат, и вот эти прислужницы, казалось бы, должны утвердить Дулеба в этом убеждении, однако он сам, не зная почему, склонен был видеть здесь лишь чистоту, целомудрие и неомраченную красоту, к которой человеческая душа никогда не может быть равнодушна.
Что же касается Иваницы, то этот избалованный женским вниманием и благосклонностью парень, привыкший к таинственности в этих делах, был потрясен, ошарашен, растерян до предела, еще там, в сенях, показалось ему, что это для него выставили сразу столько молодых и прекрасных суздальчанок, чтобы выбирал, которая понравится более всего, или чтобы кто-нибудь из них выбрал его, потому что он – самый молодой и пригожий, к тому же еще он прибыл из далекого Киева, который должен был бы светить своими золотыми соборами этим заброшенным за безбрежные леса людям, даже в их снах. Однако девчата не торопились выбирать Иваницу, они оставили его без внимания там, в сенях, не обращали внимания и здесь, за столом, хотя сюда входили и другие, новые и новые девчата, угощая всех, кто сидел за столом, не выделяя даже самого великого князя Юрия, а не только какого-то там безымянного отрока киевского.
Достойным удивления было еще и то, что старый тысяцкий Гюргий стоял в конце стола, не садился, не собирался ни есть, ни пить, одновременно будучи здесь старшим не только над слугами, но и над князем, потому что сам Долгорукий почтительно обратился к нему за разрешением начать трапезу.
Тысяцкий наклонил в знак согласия голову, кивнул чашнику. Тот встал и тоже спросил не у Юрия, а у тысяцкого:
– Дозволишь, отец, сказать слово?
– Скажешь.
Чашник, принимая из рук то одной, то другой прислуги жбаны с питьем, с надлежащим умением и знанием разлил напитки каждому по вкусу и принялся рассказывать новую свою притчу, ясное дело, снова про коня и про князя:
– Жил на воле дикий конь-тарпан и бегал так быстро, что даже травы не успевали склониться у него под копытами, однако никогда не мог тарпан превзойти в быстроте оленя, бегавшего еще быстрее, и тогда конь пришел к человеку и сказал: «Помоги мне». – «А как помогу тебе? – спросил человек. – Ведь у тебя четыре ноги, а у меня лишь две». – «Сядь на меня, – сказал конь, – и вложи удила мне в губы и помоги догнать оленя».
Человек так и сделал. Сел на коня, вложил ему в рот железные удила, и конь догнал оленя.
Не забывай, княже, что мы твои кони, не бойся вкладывать удила нам в уста и будь всегда здоров, княже!
– Будь здоров, княже! – крикнули все.
– Будь!
– Будь! – крикнул и князь Андрей.
Только Ростислав, которому не вельми была по вкусу такая, по его мнению, слишком простецкая похвальба, не подал голоса, прикрыв серебряным кубком пренебрежительную улыбку.
Иваница же, огорченный невниманием суздальчанок и воспользовавшись веселым криком, поднявшимся за столом, попытался было ущипнуть одну из девчат, сделал это, как ему показалось, с такой ловкостью, что и сама девушка не заметила, чья это рука прикоснулась к ней, однако от всевидящего глаза князя Андрея ничто не могло укрыться, он замечал все и, когда выпил за здоровье своего отца, наклонился к Дулебу:
– Знай, лекарь, что мы часто с дружиной и с женами веселимся, но ни вино, ни жены нами никогда не овладевают до беспамятства. Вели своему человеку, чтобы не распускал рук.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?