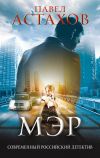Текст книги "Смерть президента"

Автор книги: Виктор Пронин
Жанр: Криминальные боевики, Боевики
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Они просто спасаются, – добавила Анжелика.
– Да, конечно, – кивнул Цернциц. – И хотят, чтобы именно Боб-Шмоб взорвал тебя. Это позволит им остаться чистыми, а террористы всего мира получат жестокий урок. Они же понимают, что победить терроризм можно только еще большей кровью – уничтожать их вместе с заложниками.
– А что Боб-Шмоб?
– Колеблется. Он готов так поступить, но не может, некстати это сейчас... Выборы скоро. И еще одна причина... Всем известно, что в Доме уже десять тысяч заложников. Завтра их будет двадцать. Кроме того, Боб-Шмоб знает, что в Доме столько долларов, столько долларов, сколько нет в его дырявой казне, разворованной толстомордыми, мокрогубыми, писклявыми соратниками! – воскликнул Цернциц с нескрываемым презрением.
– Так что говорит шкура? – напомнил Пыёлдин.
– Ах да, – Цернциц потер пальцами лоб. – Как я уже сказал, сначала будет смех, потом гнев. Потом Боб-Шмоб сделает важное государственное заявление.
– И? – поторопил Пыёлдин.
– И отвергнет все твои притязания. Мы не можем, скажет он, потакать бандитам и террористам!
– Дальше!
– После этого тебе придется сбросить вниз сотню-другую заложников. И когда мир в очередной раз покроется холодным потом, скажет, что его неправильно поняли, что он не возражает против твоего участия в выборах. Конечно, будет телефонный перезвон со всем этим жульем – Билл-Шмилл, Джон-Шмон, Шимон-Шимон... Но кончится тем, что он даст добро.
– А я нуждаюсь в его разрешении?
– Да. Потому что ты не только претендент... Ты еще и террорист. А он президент. И он вправе применить к тебе кое-какие меры. Но не применит. Потому что через три дня в Доме будет сто тысяч человек. И ты сможешь сбрасывать в день по тысяче.
– И мы победим?
– Конечно, – ответил Цернциц и, опустив голову, начал рассматривать собственные ладони, будто хотел найти подтверждение своим словам по линиям судьбы, которые густой сеткой покрывали ладони карточного шулера и международного проходимца. Пыёлдин тут же почувствовал недоговоренность и, взяв Цернцица за плечи, повернул к себе.
– Ванька! Смотри мне в глаза! Отвечай прямо и не задумываясь... Мы победим?
– Очень может быть.
– А что ты чувствуешь своей обалденной шкурой, которая улавливает полет бабочки в дальнем лесу, любовный шепот в соседнем доме, подлые замыслы врагов на том берегу океана? Что чуешь? Мы победим?
– Да, – твердо ответил Цернциц и посмотрел Пыёлдину в глаза. – Да, Каша.
– Раз и навсегда?
– Никто не побеждает раз и навсегда. Поражение может быть окончательным, но окончательной победы не бывает, Каша. И тебе, будущему президенту великой державы, пора это знать.
– Я – будущий президент? – Пыёлдин опять почувствовал в словах Цернцица какую-то невнятность, словно тот не произносил последнего, самого важного слова. – Ванька! Отвечай, не задумываясь!
– Все знать вредно, Каша, – попробовал было увильнуть от ответа Цернциц. – Все знать смертельно опасно.
– Это мы уже проехали. Смертельно опасно было бежать из тюрьмы, появляться здесь, связываться с тобой! Я хочу знать главное – меня выберут президентом?
– Да! – На этот раз взгляд Цернцица был тверд.
– Надолго?
– Не знаю... Это зависит от многих причин... Навсегда никого не выбирают.
– Но свой срок я отбуду?
– Свой срок? – Цернциц так неуловимо изменил тон, что Пыёлдин сразу понял, какой срок имеет в виду его бывший сокамерник. – Ты же ведь никогда еще не отбывал свои сроки до конца, – усмехнулся Цернциц. – Это у тебя на роду написано.
– Юлишь, Ванька, юлишь, – вздохнул Пыёлдин. – Что-то ты знаешь, но говорить не хочешь. Напрасно...
Пыёлдин замолчал, потому что в этот момент Анжелика вдруг приникла к пыёлдинской груди.
– Что-то почуяла? – спросил у нее Пыёлдин, безуспешно стараясь заглянуть красавице в лицо. Не отвечая, она кивнула. – Запахло чем-то нехорошим, – проговорил Пыёлдин, ни к кому не обращаясь.
– Запахло, – подтвердил Цернциц. – Может, плюнем?
– Нельзя, Ванька... Ступив на нож, надо идти по нему до конца. Если остановишься, шагнешь назад – этот нож тебя же и располовинит. Две твои половинки упадут на землю. Спастись можно, только пройдя по лезвию до конца. Это я знаю, Ванька, это мне доступно.
– И пойдешь до конца?
– Да. Там, на самом конце лезвия, есть твердая, надежная площадка, где можно перевести дух и осмотреться по сторонам. Я понял... Амнистию могу подписать только я сам. Это будет мой Указ.
– Должен сказать тебе еще одно, Каша, – Цернциц помолчал, посмотрел в окно, скользнул взглядом по приникшей к Пыёлдину Анжелике. – Думаешь, Жак-Шмак или Коль-Шмоль шлют только колбасу твоим бомжам? В глубине каждого самолета, укрытые ящиками с макаронами, колбасами и вонючими сырами, сидят крутоватые ребята. И у каждого в руках прекрасная самонаводящаяся штуковина, которая превратит в пыль любой вертолет, танк, самолет... На землю после такого выстрела ничего не упадет, только пыль.
– Это радует, – отозвался Пыёлдин. – Что скажешь, Анжелика? – Ему удалось наконец заглянуть красавице в глаза. Они были мокрыми от слез, но в них была любовь.
– Пора включать телевизор, – сказала Анжелика, отстраняясь и поправляя съехавшую набок золотую корону.
– Тоже верно, – согласился Цернциц с облегчением. Тягостный разговор с Пыёлдиным, которому он не мог сказать всего, угнетал его.
* * *
Все получилось именно так, как и предсказывал Цернциц. Едва вспыхнул экран телевизора, изумленным взорам Пыёлдина и Анжелики предстал странный тип не то с грузинской, не то с японской фамилией – Камикадзе. От прочих ведущих он отличался каким-то крысиным оскалом и заросшей мордой. Криворотая улыбка еще более подчеркивала особенности его необычной внешности. Куражливо хихикая, он пересказал требование Пыёлдина, после чего показал кадры, на которых Пыёлдин был изображен в самые различные периоды своей бурной жизни – и в профиль, и в фас, причем фотографии неизменно сопровождались отпечатками пальцев, чернильными печатями, подписями следователей. Продолжая хихикать и совершая какие-то похотливые телодвижения, Камикадзе предположил, из каких лагерей наберет себе министров будущий президент, какими решетками затянет окна в своем кабинете. Не в силах сдержаться от хохота, Камикадзе сделал еще одно предположение – какая первая леди будет у страны, когда президентом станет бывший зэк.
– Я ему покажу первую леди, – негромко проговорила Анжелика, и Пыёлдин первый раз увидел ее бледной. Бледность ее не испортила, наоборот, сделала ее еще прекраснее, хотя, казалось бы – куда больше.
После Камикадзе на экране появилась ерзающая, подмигивающая девица. Играя глазками и ягодицами, она опять пересказала требования Пыёлдина, предоставила слово какому-то жирному мужику, но оговорилась, назвав его почему-то женским именем. Однако тот то ли не заметил оговорки, то ли привык. Воздух с трудом протискивался сквозь заплывшие жиром голосовые связки, и поэтому звуки, исходящие от комментатора, были какими-то писклявыми. Он долго и со знанием дела перечислял статьи, по которым обвинялся Пыёлдин, тоже подхихикивал, ему, видимо, нравились собственные остроты.
– Сброшу! – мрачно заявил Пыёлдин. – Всех сброшу. В одной связке.
– Не сбросишь, – негромко сказал Цернциц.
– Почему?
– К тому времени, когда ты станешь президентом и сможешь эту свою угрозу осуществить... Ты их полюбишь. Ты будешь в восторге от этого сброда.
– За что же я их полюблю?! – вскинулся Пыёлдин.
– За верную, преданную службу. Они уже сегодня, через несколько часов, начнут сыпать тебе комплименты, а завтра будут восхищаться каждым твоим жестом, словом, чихом!
– Неужели так бывает?
– Только так и бывает. Пройдет совсем немного времени, и все они, промокая глазки платочками, расскажут о суровом твоем детстве, полуголодном и полураздетом, расскажут о твоей преданности друзьям, о самоотверженности, о первой красавице мира, которая, едва взглянув на тебя, потеряла голову от любви... Все это будет, Каша, в ближайшие сутки, – печально вещал Цернциц.
– Что же на них так подействует?
– Опросы, Каша. Сейчас идут массовые опросы по стране – телефонные, телеграфные, личные, на улицах и на рабочих местах, в тюрьмах и следственных изоляторах, в очередях, в общественном транспорте, в общественных туалетах... Когда они увидят, что более половины населения на твоей стороне и готовы голосовать только за тебя, когда они...
– Неужели я так хорош?!
– Хорош, но, конечно, не так... просто конкуренты слишком уж отвратны.
Пыёлдин подошел к окну и долгим задумчивым взглядом уставился на простирающийся внизу город. Уже начинало темнеть, на улицах зажглись первые фонари. Машины включили подфарники, засветились розовым светом окна. Там уже наступили сумерки, хотя в Доме верхние этажи еще были залиты закатным солнечным светом.
* * *
Когда все трое вышли из кабинета, на пороге их встретила плотная, недобро гудящая толпа. Человеческие лица сплошной массой простирались на всей площади вестибюля, стекали вниз по широким лестницам. Все с напряженным ожиданием смотрели на Пыёлдина, будто чего-то хотели от него, чего-то ждали.
Вначале Пыёлдин от неожиданности отшатнулся, мелькнула опасливая мысль снова нырнуть в тишину кабинета, но что-то остановило – лица у бродяг были суровые, но без ненависти. Все молчали, слышалось только жаркое дыхание многотысячной толпы. Потом возникло какое-то невнятное движение, и перед Пыёлдиным оказались Собакарь, Кукурузо и Бельниц. Все были перепуганы, в лицах прочитывалось смятение, они попытались было снова спрятаться за спины, но толпа безжалостно вытолкнула их из себя, как бы отторгла. И только после этого помощники замерли перед Пыёлдиным, смирившись с собственной незавидной судьбой.
– Ну? – сказал он. – Слушаю.
– Они все видели! – выкрикнул Собакарь, и зад его задрожал, заколыхался от какого-то внутреннего волнения. – Они все знают! Они все понимают, Каша Константинович!
– Что они знают? – насторожился Пыёлдин, из которого не вышли еще тюремные замашки. Сам того не замечая, он до сих пор считал, что знать о нем можно только дурное, опасное, позорное.
– Мы видели по телевизору! – Шишкоед махнул длинной рукой куда-то за спину, и только тогда до Пыёлдина начало доходить... Телевизоры стояли в каждом вестибюле, на каждой площадке, и, конечно же, оскорбительную для него передачу видели все десять тысяч заложников.
– Каша! – перед Пыёлдиным стоял красный от гнева Брынза. Одной рукой он ухватил Пыёлдина за рукав пиджака, во второй держал ладошку Лили. – Они не тебя обидели! Они нас обидели! Мы их сметем, Каша!
Казалось бы, откуда в этих бродягах и пропойцах способность обижаться, впадать в гнев и неистовство? Жизнь в самых загаженных вокзальных углах, питание из мусорных ящиков, выпрашивание подаяния в подземных переходах, постоянное ощущение собственной непригодности для страны, которую придумали Билл-Шмилл, Жак-Шмак, Коль-Шмоль, а построил Боб-Шмоб... Все это должно было начисто вытравить из них все гордое, высокое, достойное...
Оказывается, ни фига.
Оказывается, в этих прокуренных, пропитых, истерзанных душах, где-то в самой их глубине тлел огонек высшего предназначения, гордости не только за какие-то свои, возможно, сомнительные достоинства, но за страну, в достоинствах которой они не усомнились, несмотря ни на что. И пусть эта страна их предала, отшвырнула, как шелудивых псов, набежавших к ее столу, пусть... А огонек продолжал тлеть и каждую секунду мог вспыхнуть пламенем чистым и ярким. И никак мокрогубым, жирномордым, шепелявым и гунявым не удалось его задуть, затоптать, заплевать.
Толпа орала так, как может орать только толпа, и ее вопль был наполнен гневом. Пыёлдин поднял руку, и мгновенно все смолкло. Люди ждали от него слов, а их не было – угластый комок подкатил к горлу, и Пыёлдин, уголовник и пройдоха, готов был разрыдаться от беспомощности и благодарности. Прямо перед ним стояли Брынза с Лилей и смотрели на него, полные преданности и надежды. Избитой, изодранной рукой Брынза сжимал шершавую ладошку своей вечной подруги, с которой шел по жизни, умирая и поднимаясь, умирая и поднимаясь.
Цернциц сделал шаг вперед и поднял руку.
– Они, – он сделал рукой круг над головой, давая понять, что имеет в виду все остальное человечество, – считались с нами, когда время от времени получали трупы там, внизу, на асфальте. Теперь они решили, что с нами можно больше не церемониться.
– Они ошибаются, – хмуро проговорил Пыёлдин.
– Ошибаются, – как эхо прошептал Брынза и еще крепче сжал маленькую сухонькую, как перышко, ладонь Лили. И та ответила ему на это пожатие, как бы соглашаясь с ним, поддерживая его в каком-то отчаянном решении. – Мы бродяги, мы пропойцы, – запел Брынза. – С берегов семи морей... – Все повернулись к нему, не понимая, что он хочет этим сказать. – Мы бродяги, мы пропойцы, – повторил он, – с берегов семи морей... Вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей... – Брынза смолк, по щекам его катились судорожные слезы.
– Ты чего? – спросил Пыёлдин. – Лиля, что с ним?
– Каша, – с трудом выговорил Брынза, и горло его, заросшее, жилистое горло задергалось в рыданиях. – Каша...
– Ну?!
– Каша... Это... Сбрось меня.
– Куда? – прошептал Пыёлдин, поняв вдруг, что предлагает Брынза.
– Сбрось, Каша...
– И меня, – добавила Лиля.
– Вы что, с ума сошли?!
– Все правильно. Каша... Все правильно... Я отдохнул тут, духом окреп... тебя вот повидать удалось... И хорошо... Мы верим, Каша, ты победишь... И я верю, и Лиля тоже верит. Это самое большее, что мы можем для тебя сделать. Ванька прав... Пока получали трупы, те внизу вели себя иначе... Ну, что ж, они их снова получат... прощай, Каша... Помни нас...
– Помни нас, – добавила Лиля.
Что-то странное произошло со звуком – произнесенные шепотом их слова были слышны в каждом уголке Дома. Брынза обнял Пыёлдина, молодого, нарядного, бледного от волнения, неловко ткнулся губами в его щеку, потом подтолкнул Лилю, та тоже коснулась лица Пыёлдина мокрым своим лицом.
– Пока, Каша...
Брынза взял Лилю за ладошку и шагнул в сторону длинного прохода. Наступила ночь, и коридор заканчивался звездным небом, он словно был устремлен в небо.
– Не надо, – прошептал Пыёлдин. – Не надо...
Брынза остановился, постоял, через плечо оглянулся назад, и Пыёлдин поразился просветленности его взгляда.
– Не жалей нас, Каша... Нам никогда не умереть лучше. Валяться по свалкам, гнить вместе с дохлыми собаками... Загнуться где-нибудь под платформой и стать жертвой для жирных крыс... Есть еще канализационные люки... И меня будут извлекать оттуда по частям, потому что я буду разваливаться на их железных крючьях... Можно распухать в воде... а так нас похоронят в красивых гробах, под стоны оркестра... Опустят в чистую яму... Что-то поставят на могилке... Как это хорошо, Каша!
– Ну, вы даете, ребята...
– Не останавливай нас.
– И не жалей, – добавила Лиля.
Толпа расступилась, и Брынза, сжав ладошку своей вечной подруги, шагнул навстречу звездам. Они медленно удалялись по коридору, становились все меньше и меньше. Звездный свет, проникающий в провал окна, растворял их фигуры, делал их размытыми, будто они начали исчезать еще до того, как подошли к краю. Лишь на краткое мгновение остановились Брынза с Лилей у пропасти, но не оглянулись, нет, только взглянули друг на друга, как бы подбадривая.
И одновременно шагнули.
Из рвущегося под их телами пространства не донеслось ни стона, ни крика. И когда прошло положенное время и все замерли в ожидании ужасного мига, снизу тоже не донеслось звука удара, словно не люди, а две пушинки, два перышка сорвались с подоконника. И кто знает, может быть, они еще летят, подхваченные ночным ветром, может быть, несет их куда-то, где им будет покойно и счастливо.
Кто знает...
А дальше произошло то, что повергло Пыёлдина в полнейшее смятение. Чего угодно мог он ожидать, но только не этого. В попытке совладать с собой он нащупал сзади ладошку Анжелики, сжал ее, почувствовав облегчение. И только тогда понял этот жест Брынзы и Лили – им уже не хватало собственных сил, чтобы жить, они вынуждены были время от времени подпитывать друг друга...
К Пыёлдину подковылял на костылях человек, небритый, трезвый, с пронзительным синим взглядом из-под седых бровей. Всю грудь его, весь перед фуфайки покрывали ордена, медали, какие-то знаки отличия. Ленты медалей были затерты не меньше, чем сама фуфайка, некоторые уже невозможно было отличить по цвету – за Будапешт ли они были когда-то выданы, за Берлин ли, за Варшаву... При каждом движении старика медали тихо, с какой-то беспомощностью, пустовато позвякивали – награды за самые жестокие, самые кровавые бои в истории человечества, лицо старика было в шрамах, рука, сжимавшая костыль, вывернута наружу, но глаза оставались ясными, светлыми и спокойными.
– Держись, Каша, – сказал он хрипло. – Брынза прав. Это самое большее, что он мог для тебя сделать. Как и я... – Он закрыл глаза и кивнул, как бы говоря, что для себя он уже все решил. – Если вспомнить придется... Язык я... Кличка такая. С войны еще. Запомни – Язык. Покажи им, Каша. Мы однажды уже победили, и опять победим. Их нужно время от времени побеждать, чтобы они знали свое место – торгаши, перевертыши, подонки. Пока.
И, склонив голову вперед, не задерживаясь больше, старик шагнул в сторону звездного пространства, ограниченного квадратом окна. У него была только одна нога, и шел он, попеременно выбрасывая вперед то два трубчатых костыля, то единственную ногу, обутую в подобранный где-то сапог. Подойдя к самому краю, к самому последнему своему рубежу, Язык поставил на низкий подоконник два костыля, потом с силой оттолкнулся и провалился вниз.
И опять никто не услышал ни крика, ни удара о землю. Получилось так, что Пыёлдин принимал парад, последний парад этих бродяг, пропойц, бомжей и калек, ветеранов войны и труда, ударников и победителей, кавалеров всех мыслимых и немыслимых орденов. Они молча проходили мимо него, шли по темному коридору и, срываясь, уносились в небо. Лишь в последний момент, ковыляя на своих язвенных, сочащихся, ревматических ногах, произносили свое имя, кличку, прозвище, прося запомнить, помянуть при случае стаканом водки или чем попроще.
– Золотарь я, Золотарь... С Саян...
– Баян, понял? Баян.
– Вороном меня всегда звали... Ворон... Ты добычи не дождешься, черный ворон, я живой... – И маленький, действительно черный человечек просеменил мимо, держа под мышкой узелок, прихваченный в последний путь...
Сколько их прошло перед ним, Пыёлдин не мог сказать, у него помутился рассудок, в какой-то момент он сделал попытку шагнуть вслед за ними, и только ладошка Анжелики, оказавшаяся неожиданно сильной, удержала его на месте. Когда общее оцепенение прошло, трое его помощников решительно перегородили проход в коридор.
– Все. Хватит! – резко произнес представитель президента Бельниц. – Ишь!
– Слишком хорошо – тоже нехорошо! – добавил странные слова Собакарь.
– Будет день, будет пища, – и эти слова Кукурузо тоже прозвучали как-то диковато.
Оглянувшись по сторонам, Пыёлдин заметил вдруг, что Цернцица нет. Когда он отошел, куда? Но Анжелика была рядом, и это его успокоило. Красавица выглядела бледнее обычного, происшедшее потрясло ее не меньше, чем Пыёлдина.
– Где Ванька? – спросил Пыёлдин.
– По телефону говорит.
– С кем?
– С президентом.
– А кто позвонил?
– Боб-Шмоб. Он все видел. Как Брынза с Лилей пошли, как остальные... И вся страна видела. И весь мир. Планета в шоке.
– А ты? – Пыёлдин коснулся руки Анжелики.
– Держусь пока. Посмотри на экран...
Найдя глазами телевизор, установленный на возвышении, Пыёлдин содрогнулся, увидев, во что превратились его соратники там, на земле. Желая сильнее поразить онемевшее от ужаса человечество, операторы старались показать все крупно, сочно, с разных сторон. Все ушедшие не падали в одно место, то ли ветром их разбрасывало, то ли с разной силой они отталкивались от подоконника...
– Это Лиля, – прошептал помертвевшими губами Пыёлдин. – Это она...
– Они сами так захотели...
– Нет, – покачал головой Пыёлдин. – Им просто ничего не оставалось. Они шли к этому. Иначе кончиться не могло. Теперь сами с улыбкой смотрят на то, что от них осталось...
– Их души тоже держатся за руки? – спросила Анжелика.
– Конечно.
– И наши с тобой души будут вместе? – задала Анжелика странный вопрос, но ответить Пыёлдин не успел – из кабинета вышел Цернциц. Походка его была быстрой, упругой, глаза горели от пережитого волнения. Не останавливаясь, он рассек толпу и подошел к Пыёлдину.
– Каша, – прошептал он свистяще. – Каша... Все в порядке.
– Ты хочешь сказать...
– Да! Да, Каша... Ты внесен в списки кандидатов. Эти бродяги и пропойцы собрали столько подписей, что... В общем, ты победил.
– А президент?
– Он наделал в штаны. От него несет даже из телефонной трубки.
– А он...
– Остановись, Каша. Что тебе президент? Что он для тебя отныне значит?
– Я уже говорил тебе, Ванька... Ведь и моя шкура заговорила. Думаешь, что только ты можешь улавливать из пространства закрытые сведения?
– И что же твоя шкура? – опасливо спросил Цернциц.
– Чует, Ванька, чует.
– Радостное?
– Не только.
– Но мы не отступимся?
– А нам некуда. Нам просто некуда. Разве что вон в то окно, – Пыёлдин кивнул в сторону мерцающего звездами квадрата. – Этот выход всегда открыт. А люди более мужественные, чем мы, показали, как это делается.
Цернциц пристально посмотрел на Пыёлдина, но ничего не ответил. Только легонько похлопал по руке. Ничего, дескать, не переживай. В крайнем случае кирпичиком пооткинемся.
* * *
К вечеру заложников резко прибавилось, теперь они занимали уже не менее десяти этажей, начиная с верхнего. Та, первая тысяча, которую банда Пыёлдина захватила в самом начале, попросту рассосалась среди вновь прибывших. Встретить в коридоре, в зале, на площадке нарядно одетого заложника, заложницу в вечернем платье было чрезвычайной редкостью. Пыёлдин понимал, что если так все пойдет и дальше, то уже через несколько дней Дом будет переполнен. И тогда положение выйдет из-под контроля, невозможно управлять сотнями тысяч совершенно неуправляемых людей, прокормить их...
С другой стороны, во всем этом проглядывало и что-то обнадеживающее. Мир знал, что в Доме находится не только банда террористов, в Доме десятки тысяч людей, и вот так просто взорвать их и сделать вид, что ничего не произошло...
Нет, это было уже невозможно.
Мировые агентства оповестили о выдвижении нового кандидата в президенты, сообщили, что сделано это официально, в полном соответствии с действующим в стране законодательством.
Теперь уже никто не показывал тюремных фотографий Пыёлдина в фас и в профиль с отпечатками его пальцев и ладошек, никто не делился воспоминаниями о том, как поймали его на поле с ведром украденной картошки, никто не утверждал, что он глуп и злобен. Более того, нашлись люди, документы, фотографии, которые утверждали прямо противоположное – Пыёлдин всегда был достойным человеком, а если и спотыкался на жизненном пути, то исключительно из-за подлости людской.
Выяснилось, например, что в школе он делал доклады о международном положении, нашелся сокурсник Пыёлдина, у которого сохранились студенческие фотографии будущего президента. Выступив на телевидении, он рассказал, что только вольнодумство и социальная непокорность не позволили Пыёлдину с блеском закончить философский факультет университета.
И спортом он занимался, был чемпионом университета по прыжкам в воду и в высоту, и в походы ходил, горные вершины покорял. Что уж совсем поражало – сочинял песенки, простенькие такие песенки для костра и трепетных девочек. Годы прошли, а песни-то пыёлдинские поют на студенческих вечеринках, в походах, старые его друзья, подруги поют, столь живучими оказались и слова, и музыка.
Да, не только тюрьмы, камеры да пересыльные вагоны были в жизни кандидата в президенты, не только краденая картошка да железнодорожная насыпь, нагретая щедрым украинским солнцем.
Оставшись наедине с Анжеликой, Пыёлдин, подчиняясь неведомому им ранее такту, отошел к окну и остановился там, глядя на голубовато-лиловые горизонты. Он слышал будоражащее шуршание женских шелков, иногда до него долетали неуловимо-прекрасные облачка запахов. И наконец он услышал легкое дыхание, которого не знал в своей бестолковой и беспутной жизни – так может дышать только женщина, только ночью, только рядом с любимым, только если сама переполнена неудержимыми желаниями, страстными и святыми. Анжелика остановилась в шаловливом раздумье – поцеловать ли Пыёлдина в ухо, коснуться ли рукой его щеки, прижаться ли к нему обнаженным телом, воспетым всеми телестудиями мира...
Красавица поступила мудро – поцеловала Пыёлдина, коснулась прохладной ладошкой его щеки и прижалась к нему божественным своим телом.
– Ты как? – прошептала она.
Пыёлдин повернулся к Анжелике и обнял ее за плечи, равных которым по красоте и совершенству не было на земле, опустил лицо в ее волосы, на ее грудь, краше которой тоже не было. Несмотря на то, что Пыёлдин чудесным образом превратился в прекрасного, молодого и улыбчивого, он никак не мог к этому привыкнуть и все еще видел себя приземистым, с темными корешками вместо зубов, с землистым цветом лица...
– У тебя все в порядке? – спросила Анжелика непереносимым своим шепотом, от которого содрогаются государства и рушатся судьбы.
– Да, – ответил Пыёлдин. – А у тебя?
– И у меня все в порядке.
– А у нас? – продолжал Пыёлдин, замирая от счастливой неуверенности.
– У нас с тобой все просто здорово! – прошептала Анжелика и, оторвав Пыёлдина от себя, подняла его лицо, освободила от своих божественных волос.
– Нас двое? – спросил он.
– Да, нас двое... Мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день.
– Да... В один день, – подтвердил Пыёлдин, похолодев от этих слов – он понимал, что не надо бы их произносить, плохо это, дурная примета, но не мог остановиться.
– Но перед этим мы будем жить долго и счастливо? – Анжелика тоже почувствовала рискованность своих слов и поторопилась смягчить их, исправить, насколько это было возможно.
– Да, – кивнул Пыёлдин. – Мы будем жить счастливо. И нас двое.
– И долго!
– Да, – Пыёлдин помолчал. – Так долго, как только сможем.
– Я не уйду от тебя, – сказала Анжелика, отвечая на какой-то свой вопрос.
– И не бросишь меня?
– А разве это не одно и то же? – Анжелика приникла к Пыёлдину, и лицо ее, освещенное звездным небом, было прекрасно, как никогда.
– Это не одно и то же, – ответил Пыёлдин. – Это совершенно разные вещи, Анжелика.
– Тогда не брошу. Не уйду и не брошу. И не отстану. И не надейся. – Она улыбнулась, и Пыёлдин содрогнулся от страшного, бесконечного горя, осознав вдруг, что не всегда, не всегда, не всегда она будет стоять рядом с ним, не всегда будет улыбаться и касаться его будет не всегда. Что-то обязательно произойдет в этом злобном мире, и Анжелика уйдет из его жизни, и шепот ее, ночной будоражащий шепот, смолкнет...
– Не отставай от меня, ради бога! – произнес он с такой нечеловеческой мукой, что теперь уже Анжелика спрятала свое лицо у него на груди и замерла, боясь малейшим движением разрушить что-то, возникшее в этот миг между ними.
– Самолеты летят, – сказала она, увидев краешком глаза мигающие огоньки тяжелых лайнеров, проносящихся мимо Дома. Фонарь под самолетом мигал ритмично и размеренно, будто отсчитывал секунды, оставшиеся до какого-то события... – Красиво летят, – добавила Анжелика.
– Скоро перестанут.
– Почему?
– Ничто в мире не может продолжаться слишком долго, – произнес Пыёлдин слова, которых у него не было всего минуту назад. – Или у них кончится колбаса, или же они поймут, что колбасой страну не взорвать. Или...
– Или?
– Состоятся выборы. И Дом опустеет. Ни одна власть его не потерпит.
– И ты не потерпишь?
– И я не потерплю. Это рассадник крамолы, вольнодумства и непочтительности. Его обитатели всегда будут смеяться над властью. Над любой.
– Почему?
– Потому что любая власть ущербна. Любая власть понимает собственную преступную сущность.
– И она не может быть лучшей?
– Тогда она перестанет быть властью.
Странные слова говорил Пыёлдин, он и сам прислушивался к себе с удивлением, обескураженный теми истинами, которые вдруг открылись в нем, заговорили его голосом. Не знал он этого никогда, не знал.
– Может быть, ты разденешься?
– Конечно, – ответил Пыёлдин, но не пошевелился, продолжая обнимать Анжелику, как обнимают на вокзале – прощаясь. И тогда она сама начала расстегивать пуговицы на его белоснежной рубашке. Потом завела руки за голову и расстегнула пряжку лиловой бабочки. Пыёлдин, охваченный ужасом и восторгом, боялся вздохнуть полной грудью. Но когда Анжелика взялась за его брючный ремень, в глазах у него остался только ужас.
– Так надо, Каша... Просто так надо. Иначе все остальное теряет всякий смысл.
– И мое президентское звание тоже?
– Твое президентство обесценится в первую очередь.
– Даже так...
– Только так, Каша, только так. Думаешь, почему все-таки хорошо получалось у Ваньки? – Анжелика справилась наконец с «молнией» ширинки.
– Почему? – невнятно спросил Пыёлдин – он уже не мог говорить внятно.
– Потому что он всегда знал, что главное.
– А что главное?
– То, что сейчас происходит между нами.
– А что между нами происходит?
– Любовь.
– И между вами это происходило?
– Это не вопрос для президента, Каша.
– Но я еще не президент.
– Тогда скажу иначе... Это не вопрос для мужчины.
– Наверно, ты права, – сказал Пыёлдин, шагнув в сторону и оставляя брюки на ковре скомканным, обесчещенным ворохом.
Больше между ними не было слов, потому что слова мешают человеческому общению. Понимание может быть без слов, ссора обязательно со множеством слов – злых и раздраженных. Звери не ссорятся, у них нет для этого слов. И песня на непонятном языке всегда прекраснее, нежели песня, в которой понятно каждое слово.
Тайна всегда украшает.
Город еще лежал в утренних сумерках, а Пыёлдин и Анжелика уже были освещены красноватыми бликами восходящего солнца. Они лежали рядом, слегка касаясь друг друга и наслаждаясь этими, уже невинными касаниями.
– Какая ты красивая, – сказал Пыёлдин, приподнявшись на локте.
– Ты тоже ничего.
– Теперь я верю, что ты самая красивая женщина земли.
– А остальных ты уже видел раньше? – улыбнулась Анжелика, не открывая глаз.
– Знаешь... Мне страшно... Я тебя боюсь.
– Раньше надо было бояться, а теперь-то что... Теперь я просто баба. – Она рассмеялась и тоже приподнялась. И Пыёлдин поспешно закрыл глаза, чтобы не увидела божественная Анжелика его ужаса, его восторга и надвигающейся пустоты.
* * *
Даже ночью на аэродром один за другим садились самолеты с гуманитарной помощью. Страны сытые и довольные взяли на себя непосильную задачу – накормить миллионы бездомных бродяг в отчаянной и наивной надежде заставить восхититься их сытостью и довольством и тем самым окончательно добить великую страну, заставить принять их колбасную цивилизацию.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?