Текст книги "Царица-полячка. Оберегатель"
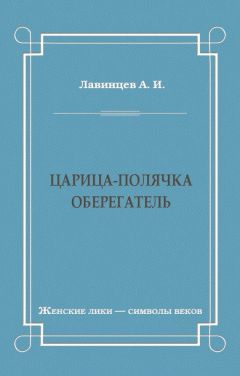
Автор книги: А. Лавинцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
XXI. Неожиданное знакомство
Томительные мгновения пережили и старый Серега, и юный Федька, пока за дверью слышались приближавшиеся шаги.
– Не сдавай, Серега, – шепнул старому холопу кравшийся к двери подросток, – все равно где погибать, здесь ли, или в Чернавске у воеводы… Я живым не сдамся.
Старый Серега ничего не ответил, а только еще крепче сжал и выше поднял дубовую скамью. Зюлейка, вынырнувшая из-за полога, так и замерла в ожидании.
Весь этот шум разбудил, наконец, спавшую мамку.
– Что вы, что вы, оглашенные! – спросонок заголосила не знавшая, в чем дело, старуха. – Разбойничать в чужом доме задумали?.. Вот я вас! Кыш… окаянные!
– Молчи, бабушка, – тихо, но внушительно проговорил Сергей, – спала ты, а мы в лютую беду попали…
– Что зря мелешь? – выкрикнула мамка. – В какую еще там беду?..
– А в такую: боярышню ты проспала бы, кабы не мы…
Старуха привзвизгнула и, закрыв лицо руками в немом ужасе, присела на пол.
В это время дверь приотворилась, и Федор, согнувшись, как кошка, уже готов был прыгнуть вперед. Однако, радостно вскрикнув, он выпрямился, и даже нож выпал у него из рук.
– Дядя Серега, – во все горло заорал он, – брось скамью-то: наши там, Константин с Дмитрием и сам Ванятка… пропащие! Там еще какие-то, а здешнего хозяина и не видать и не слыхать…
Действительно, за дверьми были возвратившиеся вершники, но, отстраняя их, вперед продвинулось двое совершенно незнакомых людей.
Один из них, оставшийся позади, был в черной монашеской сутане, выдававшей в нем, как и едва заметная тонзура, католическое духовное лицо.
Другой, красивый молодой человек, скорее – юноша, с гордым и смелым лицом, в богатом польском одеянии, прямо прошел в покой и зорко окинул взглядом всех находившихся там.
На его лице отразилось нескрываемое удивление, когда он увидал и нож, валявшийся у ног Федора, и Сергея, все еще державшего за край скамью, и сидевшую на полу старушку-мамку. Он сразу же понял, что эти двое, а с ними и красивая молодая женщина с кинжалом, только что были готовы на отчаянную борьбу для защиты кого-то им дорогого, и только их появление успокоило их отчаяние, укротило их решимость.
В это время Ганночка пришла в себя. Она услыхала шум, голоса и, превозмогая слабость, поднялась с постели и вышла из-за полога. Молодой поляк сейчас же увидал ее и сразу понял, что это-то и было то дорогое существо, ради которого эти люди готовы были пожертвовать своей жизнью. Одежда Ганночки подсказала ему, что это не простолюдинка, а вполне равная ему по своему общественному положению девушка. Сейчас же на губах юноши заиграла улыбка и, приблизившись к Ганночке, он почтительно склонился перед нею, говоря совершенно чисто по-русски:
– Пан Мартын Разумянский, герба Подляшского, королевский поручик. Прошу прелестную панну не обидеть меня своею милостью и дать мне для привета свою ручку.
Ганночка вся вспыхнула, но, будучи привычной к польскому обращению, с легким поклоном протянула пану Разумянскому руку. Тот припал к ней в почтительном поцелуе.
В покой тем временем все более и более набиралось людей. Однако ни холопов Грушецкого, ни приспешников Агадар-Ковранского не было видно. Новопришедшие и по типу, и по одеждам, и по вооружению все были поляки и литовцы. Тут были и старики, и молодые; они держались свободно, но с соблюдением собственного достоинства.
Вершники воеводы Грушецкого, выйдя из леса на наезженную дорогу, прямо и натолкнулись на них, словно нанесла их тут сама судьба.
Пан Разумянский в сопровождении иезуита отца Симона Кунцевича и большой свиты из поляков и литовцев ехал по своим делам на Москву. У него – вернее, у его отца – были поместья и под Смоленском, и в Чернавском воеводстве, и молодой человек был послан родителями, чтобы разобраться в имущественных делах после недавней войны.
Дорога через лес не была прямым путем к белокаменной, но почему-то Разумянский и его товарищи захотели сделать порядочный крюк и направились именно этой дальней, кружной дорогой, и не какой-либо другой.
И вот вдруг из-за кустов, прикрывавших перелесок, появилось трое конных и двое пеших; среди поезжан начался было переполох, так как встречных людей путники приняли было за разбойников – много остро отточенных сабель вылетело из ножен, но, к счастью, недоразумение скоро разъяснилось и все обошлось благополучно.
Вершники простодушно рассказали обо всех своих приключениях, расписали, насколько им позволяло воображение, красоту своей боярышни и высказали опасения за ее участь.
– Хоть сам-то здешний князь, – сказал вершник Иван, – в беду попал и двинуться не может, а кто знает, какой им приказ своим холопам дан?
– Может, приказал он им схоронить куда-нибудь нашу боярышню, – заметил со своей стороны Дмитрий, – явимся и не найдем ее.
– А что наши там есть, – вставил слово Константин, – так с ними управиться легко: заснут с устатку, что хочешь с ними, то и делай… Хоть перебей всех.
В свою очередь лесовик Петруха не поскупился представить проезжим князя Василия в самом мрачном виде.
Разумянский рассеянно слушал Петра, но все-таки время от времени кивал ему головой и говорил:
– Так, так!
Когда рассказ был кончен, Разумянский обратился к своим спутникам:
– Ну что, Панове, как вы думаете, что нам делать, как нам быть? Я вижу, что пан Руссов желает что-то сказать, – обратился он к высокому, худощавому молодому литовцу, уже несколько раз пытавшемуся вставить свое слово: – Прошу вас, пан Александр!
Литовец тотчас же обратился к товарищам:
– Прошу извинения, паны, и вашего также, пан Мартын, – поклонился он Разумянскому, – но мне известно, что был на рубеже старый московский дворянин Грушецкий и у него раскрасавица – паненка-дочь… Вся округа была от нее в восхищении. Лицом – ангел небесный, и разумом светла… Так и звали у нас красавицу-паненку: разумница! Не про нее ли теперь речь идет? Если только это она, панна Ганна Грушецкая, – пылко воскликнул Руссов, – то, клянусь всеми ранами святого Себастьяна, я готов ради нее в самое пекло к черту на рога пойти!
– Пан Александр влюблен, – улыбнулся Разумянский. – Он наш друг и добрый товарищ, паны; мы с ним и плясали, и рубились вместе, так теперь разве не обязанность наша последовать его призыву и оградить от беды его даму, хотя бы для этого пришлось взяться за сабли!
– За сабли, за сабли! Виват Разумянский, виват Руссов! – раздалось со всех сторон.
Крики долго не смолкали; мелькали обнаженные сабли, кто-то выстрелил в воздух. Все было ясно, все было решено: если бы пришлось ради Ганночки брать штурмом логово лютого князя Василия, то разгорячившиеся паны и перед этим не остановились бы.
Они быстро достигли жилья на опушке. Этот шум и слышали Сергей и Федька, когда были в погребе у колдуньи Аси. Они приняли его за возвращение князя Агадара, но тем больше была их радость, когда перед ними оказались друзья, а не лютый враг.
Ганночка тоже поняла, что случилось такое, что грозило опасностью, и только появление этих избавителей предотвратило грозу.
XXII. Кровопролитие
Пан Разумянский после поцелуя руки с восхищением смотрел на Ганночку. Этот восторженный взгляд смутил ее и даже заставил потупиться.
Собственно говоря, Ганночка даже обрадовалась этой встрече. На нее словно чем-то привычным, даже родным пахнуло от этих напыщенных фраз молодого поляка, так она привыкла к ним, живя в прирубежном имении своего отца. Но в то же время ее смутили неожиданность и полное недоумение, которое ощутила она, оглядевшись вокруг себя. Ей стало стыдно, что этот молодой красавец застал ее около готовых к отчаянной драке холопов, и она подумала, что он непременно осудит ее за это.
Краснея, она пролепетала несколько невнятных слов благодарности.
– Мы прослышали, – слегка поглаживая шелковистые молодые усы, проговорил уже по-польски Разумянский, – что ясновельможная панна попала в гнездо разбойников… Разве не святой долг рыцаря защищать тех, кто в беде? Притом же пан Руссов, – красивым жестом указал Разумянский на литовца, – сказал нам, что панна – дочь знаменитого воеводы Грушецкого…
– Не герба ли Липецка ваш батюшка? – заявил о своем существовании отец Кунцевич.
Очевидно, с каким-то затаенным смыслом он предложил Ганночке вопрос по-русски. Девушка несколько удивленно взглянула на иезуита, который так и пожирал ее взорами, и ответила по-польски:
– Мой предок был из Липецка, не знаю, почему он выселился на Москву…
– И принял там схизму? – ядовито заметил Кунцевич.
Ганночка ничего не ответила.
– Оставим эти разговоры, – заметил Разумянский. – Если кто и в пекле, так далекий предок панны, а она – лучшее украшение рая, клянусь в том булавой Стефана Батория… Приказывайте нам всем, ясновельможная панна, – обратился он к Ганночке, – нет такого вашего слова, которое не было бы для нас законом. Не так ли, панове?
– Так, так, – загремели кругом голоса, и громче других слышался голос литовца Руссова, – умрем за панночку, смерть ее врагам!
– О, в этом отношении мы бесполезны, – с улыбкой проговорил пан Мартын, – за вас, панна Ганна, сама судьба. Она жестоко карает каждого, кто только осмелится помыслить дурное на панну…
– Что, что еще случилось? – испуганно воскликнула молодая девушка.
– Ничего особенного! – пожал плечами Мартын и в весьма цветистых выражениях рассказал о печальном приключении с Агадар-Ковранским.
Ганночка слушала рассказ, закрыв лицо руками. Ей стало жалко князя Василия, даже несмотря на то, что она видела его только мельком. Ведь он не сделал ей ничего дурного, а, напротив того, под его кровом она нашла себе приют ночью; о замыслах же князя Ганночка решительно ничего не знала и даже не подозревала, какой опасности она подверглась бы в эту ночь, если бы судьба не толкнула почти обезумевшего князя на медвежью берлогу.
О собственном приключении этой ночи Ганночка как-то не вспоминала. Гадание в погребе казалось ей сном, и ей уже не хотелось теперь наяву вспоминать об этом тяжелом сне.
Между тем оправившаяся от потрясений мамушка пришла в себя, и к ней вернулись обычный апломб и бесцеремонность. Она сразу увидала непорядок и, выступив вперед, заголосила:
– И чтой-то господа бояре или дети боярские, как величать не знаю, будто и негоже здесь перед девицей кочевряжиться… Прикройся платочком, боярышня, и отвернись к стенке… Пусть вон та лупоглазая бельма таращит… А вы бы, бояре, уходили отсюда! Говорю, негоже вам тут будет… Налетели, словно летние мухи на мед… Идите, идите себе! Идите, а не то я боярышню уведу! – И она энергично схватила Ганночку за руку и накинула на ее лицо платок.
Разумянский иронически улыбнулся, кое-кто из его товарищей весело расхохотался, кое-кто, напротив того, обиделся, и последних было даже больше, так что кругом ясно слышалось довольно громкое ворчание.
– Прошу успокоиться, паны, – крикнул пан Мартын и, обратившись к мамке, с иронической кротостью сказал: – Ты совершенно права, добрая женщина: мы, грешники, не должны бы быть в раю, но попали мы сюда по особым обстоятельствам и готовы уйти немедленно, как только нам прикажет милостивая панна.
Он еще не кончил своих последних слов, когда откуда-то из отдаленных покоев раздался надрывающий душу вопль, затем другой; потом на мгновение все стихло, но после этого раздался отчаянно громкий крик:
– Убил, окаянный, убил!
В доме начался переполох; со всех сторон только и слышалось:
– Держи убивца! Добьем его! Бей!
Все блестящее общество, собравшееся около Ганночки, недоуменно переглядывалось между собою. Некоторые кинулись к окнам, но сквозь них не могли ничего рассмотреть.
– Пойдемте, панове, узнаем, что там! – предложил Разумянский, которому все это происшествие представлялось преудобным предлогом удалиться из комнаты Ганночки, где они пробыли гораздо дольше, чем позволяли на то приличия. – Припадаю к ногам, – низко поклонился пан Мартын Грушецкой, – пусть не гневается панна, если мы покинем ее. Там что-то случилось, и необходимо наше присутствие… Но пусть панна будет уверена, что мы все – ее верные слуги. Пусть лишь прикажет что-нибудь, и она увидит, что только смерть воспрепятствует исполнить нам ее приказание.
Подобострастно вежливо поцеловал пан Мартын руку Ганночки и, низко кланяясь, пошел к дверям; его товарищи начали выходить еще раньше, и наконец покой опустел и женщины остались одни.
– Не иначе как это Петруха! – шептал Ивану Дмитрий. – Он всю дорогу бурлил и убить собирался.
– Больше некому, – согласился тот, – побежим посмотрим, взяли его или нет?
Старый Серега и мамушка отошли к окну, в которое уже пробился свет. Серега стал рассказывать о полной событий ночи; к ним скоро присоединился Иван и передал подробности своей поездки за подмогой. Мамушка только ахнула; она понимала, что и в самом деле чуть было не проспала своей красавицы боярышни, хотя никак не могла сообразить, откуда у нее столь крепкий сон мог явиться.
А там, дальше этого покоя, около людской кипело оживление. На лавке один, на полу другой – валялись облитые своей собственной кровью Гассан и Мегмет, головы которых были страшно изрублены топором. Оба калмыка были мертвы. Да и никто не выжил бы после тех зверски страшных ударов, которые были нанесены им.
– Спали они, – рассказывали холопы, – и с чего так крепко, ума приложить нельзя!
Сергей и Федор переглянулись, поняв, почему столь крепко заснули оба приспешника лютого князя: они выпили по ошибке ковши с сонным зельем, которое было приготовлено для наезжих холопов, и заснули мертвым сном. Зелье действовало так сильно, что Сергею стоило большого труда растолкать своих людей и горничных девок, не разбуженных даже царившим вокруг них шумом. Проснувшись, они не понимали решительно ничего из того, что происходило вокруг, и с ужасом поглядывали на окровавленные трупы, прибрать которые пока никто и не думал.
Убийцею был, несомненно, лесовик Петр. Первым увидел совершенное злодеяние кузнец, ладивший полозья к возку Грушецких. Петруха пробежал мимо него, размахивая окровавленным топором. Его вид был столь страшен, что перепуганный кузнец завопил о помощи.
XXIII. Снова в пути
Это кровавое происшествие ускорило отъезд Грушецкой из лесного жилья. Кузнец быстро исправил возок боярышни, и около полудня оба поезда уже снова пустились в свою дальнюю дорогу.
Разумянский и все его спутники держались по отношению к боярышне в высшей степени предупредительно; никто из них не лез на глаза Ганночке, и только пан Мартын несколько раз подходил, спрашивая, не надобны ли ей его услуги.
Иезуит Кунцевич во все это время не промолвил ни одного слова. На него нашла глубокая задумчивость. Он был настолько погружен в эти свои думы, что даже не откликался, когда кто-нибудь пробовал позвать его. Глаза сухопарого иезуита так и взблескивали; по временам на его губах начинала играть полная скрытой загадки улыбка. Видимо, у него назревал какой-то грандиозный план.
– Святой отец что-то думает, – улыбаясь, сказал пан Мартын, обращаясь к нему, – и держу пари, что я знаю, о чем?
– О чем же, сын мой? – спросил иезуит.
– Конечно же, «о вящей славе Божьей»!.. О чем же и может постоянно думать духовный потомок великого Игнатия Лойолы?
Кунцевич улыбнулся и ответил:
– О да, сын мой, вы совершенно правы, именно об этом предмете я и думаю сейчас!
– И что же говорят вам, святой отец, ваши думы?
– Многое!..
Пан Мартын хорошо знал Кунцевича, который постоянно жил в его семье и был его духовным отцом. Этот слабый на вид человек был полон несокрушимой энергии. Он обладал таким упорством достижения цели, каким могли похвастаться не многие из его собратьев по ордену. Он был пылким фанатиком и раз задавался какою-либо целью, то неудержимо стремился к ней. На этом пути он не считался ни с преградами, ни с препятствиями. Тут для Кунцевича все средства были хороши и дозволены, лишь была бы достигнута цель.
Теперь, видя, что Кунцевич что-то серьезно обдумывает, Разумянский даже слегка встревожился, встревожился не за себя, а за Ганночку – он видел, какие взоры бросал на нее иезуит, – и, чтобы поразведать что-нибудь о замыслах последнего, заговорил с ним:
– А что, святой отец, уж не витает ли в ваших святых мечтах прелестная паненка, которую мы так неожиданно обрели в жилище этого московского дикаря?
– И опять пан Мартын прав, – спокойно заметил иезуит, – именно эта схизматичка и наполняет собою мои думы… Скажу больше – она в центре их…
– Ого! – воскликнул Разумянский, и в тоне его послышалась ни с того ни с сего ревнивая нотка. – Слышите, панове! Наш добрый пан Кунцевич влюбился «для вящшей славы Божией»… Не влюбиться ли и нам теперь «для большего посрамления диавола»? Ха-ха-ха!
Кунцевич совсем спокойно смотрел на юношу.
– Пусть успокоится пан Мартын, – наконец, сказал он, – мне нужна не женщина, а пружинка… да, да пружинка, которую можно надавить и так и этак… Успокойтесь! Вы, кажется, должны знать, что верить мне можно…
Он отвернулся от Разумянского, и тот замолчал.
Этот разговор происходил уже на дороге. Жилье Агадар-Ковранского было оставлено наспех. Там даже не были убраны трупы убитых Гассана и Мегмета. Их убийца ушел в лес, а растерявшаяся дворня даже и не подумала пуститься за ним в погоню.
Отдохнувшие лошади быстро мчали возки с поезжанами. Солнце ярко сияло в небесной синеве. Повевал легкий, с небольшим морозцем ветерок, бодривший тело, хорошо настраивавший душу. О том, что осталось позади, никто не вспоминал. Ганночка словно позабыла о своем ночном гадании; что сталось с Асей – даже не приходило ей в голову. Теперь, когда все уже прошло, ночное приключение все более и более казалось ей сном, а о том, что это был не сон, а явь, некому было напомнить ей. Зюлейка спряталась, когда она уезжала, и никто не видал ее; Сергей и Федька, утомившись ночными приключениями, забились в возок для челяди и отсыпались, а мамка сама была так смущена своею оплошностью, что предпочитала молчать.
Однако для Ганночки эти события не прошли бесследно.
Сразу двое новых людей прибавилось в ее жизни: князь Василий Агадар-Ковранский и пан Мартын Разумянский. О первом она вспоминала с некоторым содроганием, образ второго вызывал у нее довольно веселую улыбку.
Пан Мартын нравился молодой девушке. Он был столь резким контрастом князю Василию, что не мог не произвести впечатления на Ганночку, которой была совершенно чужда непосредственность ее земляков, чужда хотя бы потому, что в Ганночке оставалось еще немало крови ее предков, польских выходцев, а голос крови всегда говорил куда громче, чем голос даже многолетней привычки.
Выглядывая из своего возка, Ганночка ни разу не забыла бросить взор в ту сторону, где, по ее соображениям, должен был находиться пан Мартын. И тот словно чувствовал, что молоденькая путешественница не на шутку заинтересовалась им. Он уже давно бросил возок, в котором помещался вместе с Кунцевичем, и, сев на своего коня, уже не сходил с него.
Его примеру следовали почти все его спутники. Пан Руссов, считавшийся любимцем Разумянского, не отставал от него. Они вместе гарцевали и то перекидывались словами, то обменивались улыбками между собою. Они видели, что Ганночка частенько взглядывает на них, это еще больше поджигало их.
– Сто тысяч дьяволов, – вполголоса произнес пан Мартын, – мне это приключение начинает нравиться! А как вам, пан Руссов?
Литовец вдруг ни с того ни с сего как-то особенно заулыбался.
– Чему улыбается пан? – вспыхнув, спросил Разумянский. – Или, быть может, он не согласен со мною?
– О нет, – поспешил ответить Руссов, – наше дорожное приключение очень интересно, а панна Грушецкая хороша… хороша… Пусть дьявол скажет, как она хороша, – неожиданно докончил он свою фразу, – я не могу, у меня слов не хватает…
Это признание вырвалось у него с таким полным комизма пылом, что Разумянский невольно рассмеялся.
Руссов, вопреки обычной сумрачности литовцев, был большим шутником, и, главное, у него была комическая жилка, благодаря которой он был всюду желанным гостем и дорогим другом во всякой компании молодежи.
– Но, – проговорил он, заканчивая свое признание, – глаза мои слишком слабы, чтобы разглядеть все прелести такого солнца, и я предпочитаю лучше любоваться не столь яркими звездами… Их по крайней мере всегда можно иметь у себя под боком…
Разумянский так и насторожился.
– Что хочет сказать пан? – воскликнул он. – Я не уясняю себе его слов…
– Только то, что около каждого солнца бывают звезды! – ответил Руссов. – Солнца для магнатов, звезды – для бедных шляхтичей… Пан Кунцевич сказал об этом так: «Всякому свое».
Шум, поднявшийся впереди поезда, заставил их прервать эту беседу. Случилось что-то такое, что заставило даже остановить лошадей, и возки, внезапно заторможенные, зарылись в снег.
Поезд уже давно миновал обширную равнину, стлавшуюся за лесным домиком Агадар-Ковранского, и снова проезжал сквозь лес, настолько большой, что на дороге сразу, как только въехал поезд, стало заметно темнее.
Заслышав шум, пан Мартын припустил вперед коня, но осадил его у возка, в котором ехала Ганночка. Девушка тоже услыхала шум и суматоху и поспешила выглянуть в окошечко.
Как раз в это время около нее и очутился пан Мартын.
– О, панну все беспокоят! – воскликнул он, обнажая голову и кланяясь Грушецкой. – Клянусь, я сверну голову тому, кто устроил этот переполох…
Ганночка мило улыбнулась в ответ юноше.
Между тем впереди поезда столпились люди; все они громко кричали, махали руками и наконец всей толпою направились в ту сторону, где был пан Мартын.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































