Текст книги "Избранные произведения. Том 3"
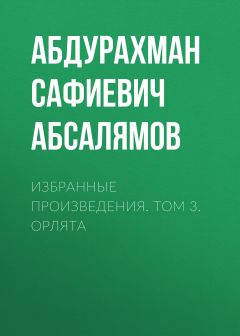
Автор книги: Абдурахман Абсалямов
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
3
Галим Урманов вошёл в класс вместе с учителем. На переменах он держался в стороне. Он ждал, что ребята станут упрекать его за срыв вчерашней репетиции, будут говорить о безвыходности положения, просить, как вчера просил Хафиз. Урманов даже приготовил ответы. Они были полны язвительного, отточенного остроумия и достойны находчивости незаурядного шахматиста. Но, к своему удивлению, он не услышал ни одного упрёка. Зато не услышал и просьб. Только Ляля, староста класса, сказала ему, как и всем, что репетиция будет через час после уроков, за это время надо успеть сходить домой пообедать.
Урманов молча выслушал её. Но когда через час все собрались, его снова не было.
В кабинете географии, заставленном коллекциями камней и насекомых и увешанном картами, собрались Ляля, Мунира, Наиль, Хаджар и другие одноклассники-комсомольцы. Говорил Хафиз:
– Товарищи, я собрал нашу комсомольскую группу, чтобы решить один серьёзный и важный для репутации нашего класса вопрос. Как вы знаете, Урманов, игнорируя коллектив, не пришёл и на эту репетицию. Сейчас нет времени разбираться, кто и в чём виноват. Надо решить судьбу спектакля. Что делать?
Голос Хафиза был твёрдым и спокойным. Одна Ляля уловила в прищуре его серых глаз затаённую тревогу. Хафиз умел прятать внутреннее волнение, что обычно редко удаётся в его возрасте, и всем казалось, что глаза его прищурены потому, что он хитрит и уже знает выход, которого ещё не знают другие. Но это не остудило их возмущения. Первым сорвался со своего места Наиль. Он горячо заговорил, жестикулируя маленькими белыми руками:
– Ребята, я никак не пойму поступка Урманова. Это же… это же – измена, это…
– Наиль, сейчас надо говорить о том, как спасти спектакль, – прервал его Хафиз.
– А чего там попусту слова тратить, – махнул рукой Наиль. – Ясно! Спектакль сорван…
Хафиз взглянул на Муниру, сидевшую облокотившись на стол. Она заслонилась рукой от света, и затенённое лицо её казалось безразличным. Неужели и Мунира думает, что спектакль не состоится? Но вот девушка изменила положение руки. Теперь были освещены её лоб и глаза. Знакомый, волевой, немного даже надменный профиль. Чёткие, с широким разлётом брови упрямо нахмурены.
– Мунира, что ты думаешь?
– Мне ясно одно – мы не имеем права срывать спектакль. Но вот что делать, я ещё не знаю, – смущённо пожала она плечами.
Хафиз взглянул на Хаджар, огорчённо посматривавшую исподлобья, и взглядом пригласил её высказаться.
– Что же мы можем предпринять, когда осталось несколько часов до спектакля? Единственный выход, по-моему, – это пойти к Курбану-абы и честно, по-комсомольски, всё рассказать ему. Может быть, он сумеет воздействовать на Галима.
– Поступило предложение. Примем?
Комсомольцы уловили в словах Хафиза иронию. Никто не проронил ни звука, все смотрели в сторону.
– Я не боюсь разговора с директором, – снова заговорил Хафиз, – но это очень лёгкий путь. Приняв такое решение, мы докажем лишь одно – полную свою беспомощность. А наш спектакль – не обычный спектакль: он посвящён Дню Красной Армии и ставится в военное время. А раз так, имеем ли мы моральное право отступать перед трудностями, вставшими на нашем пути?
– Всё это мы и сами понимаем. Но что ты конкретно предлагаешь? – нетерпеливо перебил его Наиль.
– Если вы не возражаете, у меня есть одно предложение: заменим Урманова кем-нибудь другим, – произнёс Хафиз.
– Кем? Кто за три часа выучит роль?
– Да хотя бы Ляля Халидова.
Махнув безнадёжно рукой, Наиль забарабанил пальцами по стеклянной дверце и сделал вид, что разглядывает книги в шкафу.
– Нет, – бросил он наконец, не оборачиваясь. – Ляля недурно свистит, замечательно танцует, но всё же заменить Урманова она не сможет. Разве эта непоседа, эта «джиль-кызы» может так сосредоточиться, чтобы выучить большую роль за три часа? Это было бы чудом! А Тукай ещё в тысяча девятьсот девятом году писал:
По скончании пророка на земле чудес не ждут.
Месяц в небе не расколешь, камень – камень, не верблюд.
Чёрные глаза Ляли загорелись. Безнадёжность в тоне Наиля глубоко задела её.
– Я не смогу заменить Урманова? – вскочила она с места, сердито поводя бровями и наступая на Наиля. – Да если надо будет, двоих Урмановых заменю.
Тот немного растерялся.
– Сказать – одно, сделать – другое… У тебя же своя роль есть.
– Мою роль вычеркнем.
– Вычеркнем?.. – Наиль даже снял очки и в свою очередь с воинственным видом вплотную подошёл к Ляле. – Ты что, товарищ староста, смеёшься, что ли? Ты хоть немного отдаёшь себе отчёт, что значит вычеркнуть роль из пьесы?
– Отдаю, товарищ автор. Пожалуйста, не кипятись, – остановила его Ляля.
– Язык-то без костей, особенно у тебя, – скажет и обратно спрячется, – отрезал Наиль с сердцем.
Но тут Лялю поддержали Мунира и Хаджар:
– А знаешь, Наиль, она высказала вполне разумную мысль.
– Если б не подвёл Урманов, можно было бы и не зачёркивать, – продолжала Ляля. – Ну а теперь иного выхода нет.
Наиль ещё мог бы поспорить с товарищами, но идти против девушек, да ещё таких настойчивых, как Ляля и Мунира, у него не хватало ни решимости, ни охоты. Но авторское самолюбие всё же страдало, и он схватился за голову:
– Что вы делаете со мной, без ножа режете!..
Терпи напасть, не никни головою,
Что не случится с юными порою!.. –
громко продекламировала Ляля.
– Это тоже стихи Тукая, Наиль, – съязвила она.
Все, кроме Наиля, заливисто рассмеялись, и этот смех ясно говорил, на чьей стороне большинство.
Всякий режиссёр, увидев, что творится на этой генеральной репетиции, мог бы только ужаснуться. Но ребята и не думали унывать. Перед ними стояла ясная цель.
И со всем пылом молодости они устремились к ней, не давая себе остыть ни на минуту из-за стоявших на дороге к цели препятствий и, может быть, именно потому так легко сметая их.
Три часа пронеслись совершенно незаметно. Лишь только закончилась репетиция, кто-то сбегал в зал и, вернувшись, закричал:
– Ребята, пора! Зал битком набит. Девятые и десятые классы двадцать второй школы явились в полном составе.
– Пошли! – сказала Ляля. – Вот это дебют! После первой же репетиции – и на сцену. Смотрите, черти, если я когда-нибудь стану знаменитой актрисой, не забудьте рассказать об этом дне!
4
Рабочий день инструктора райкома Суфии Ильдарской начинался гораздо раньше десяти утра и никогда не кончался к шести вечера. В эти дни тем более: скоро предстояла районная партийная конференция.
Конечно, Суфия-ханум дома, и Суфия-ханум за своим инструкторским столом – один и тот же человек.
И всё-таки это не совсем так. Ни по живому, как всегда, деятельному выражению лица Суфии-ханум, ни по её твёрдым, рассчитанным, без малейшей суетливости жестам, ни по её аккуратно закрученным на затылке, нерассыпающимся волосам – словом, ни по одной чёрточке в сегодняшнем облике инструктора райкома нельзя было догадаться, что эта немолодая женщина всю ночь не сомкнула глаз в тревоге за самого близкого ей человека.
Партийная работа, требовавшая всего её внимания, при частых и долгих разлуках с мужем научила Суфию-ханум тому безошибочному сердечному такту, когда избегаешь отягощать кого-либо своими семейными переживаниями.
Легонько постучавшись, в кабинет инструктора вошёл депутат Верховного Совета, парторг и учитель русского языка и литературы в школе, где училась Мунира, Пётр Ильич Белозёров. Чуткий к чужому несчастью, Белозёров, хотя и знал сдержанность Суфии-ханум, не мог не выразить ей своего сочувствия.
– Слышал о вашем тяжёлом горе, Суфия Ахметовна, и понимаю, как вам с Мунирой трудно…
– Не только нам, многим сейчас трудно… – опустив глаза и сразу став строгой, остановила его Ильдарская. – И… не надо говорить об этом, дорогой Пётр Ильич…
Я вас только об одном прошу. Мунира ничего не знает. Вы ей тоже ничего не говорите. Вы знаете, сегодня у них вечер…
– Хорошо, – пообещал он, смущённо одёргивая на себе суконную гимнастёрку с боевым орденом и депутатским значком.
Вдруг с улицы грянуло:
Смело мы в бой пойдём
За власть Советов…
Суфия-ханум отдёрнула половину шторки.
Проходила колонна красноармейцев с вещевыми мешками, винтовками и лыжами. На тротуарах, по обе стороны, было полно провожающих.
– Добровольцы нашей Казани, – сказала Суфия-ханум задумчиво.
Песня гремела всё сильнее.
– Не могу слышать спокойно, – теребя кончики рыжих усов, задумчиво протянул Пётр Ильич.
Карельские леса, незабываемые бои на севере…
С первых дней финской кампании Белозёров настойчиво добивался отправки на фронт. Он требовал, чтобы приняли во внимание его опыт борьбы с белофиннами ещё в гражданскую войну. Вначале его обнадёжили, а недавно сказали: «Продолжайте свою полезную работу. У Красной Армии и без вас имеется достаточно сил и людских резервов».
Это задело Петра Ильича. И, как член пленума райкома и бывший комиссар, он написал длинное заявление на имя секретаря райкома. Сегодня-то, собственно, он и пришёл за ответом, но секретаря не застал.
– Пойдёмте проводим их, Пётр Ильич, ведь это из нашего района, – предложила Суфия-ханум.
Разговаривая с бойцами, они дошли с колонной до самого вокзала. У обоих было такое чувство, будто они провожали в холодные поля Карелии родных сыновей. Пётр Ильич и Суфия-ханум, люди одного поколения и одного строя мыслей, одинаково сильно испытывали не покидавшее их неясное чувство, похожее на чувство вины. Оба хорошо знали, что такое война, и, главное, давным-давно решили про себя, что, в случае надобности, первыми возьмут оружие. И вот они остаются в тылу, а их питомцы, куда менее опытные, уезжают на фронт.
Прощаясь, Суфия-ханум и Пётр Ильич понимали без слов, о чём думает каждый.
С вокзала Суфия-ханум отправилась на самое крупное предприятие в районе – на завод сельскохозяйственных машин «Серп и молот», чтобы проверить, как идёт подготовка к предстоящему партийному собранию, на котором должен был стоять вопрос о культуре производства. Доклад поручили сменному мастеру механического цеха Рахиму-абзы Урманову.
В утренние часы, когда завод работал полным ходом, на третьем этаже, где находился партийный комитет, было ещё тихо. Низко наклонившись над столом, молодой сухощавый человек в свитере писал с тем сосредоточенным видом, который свойствен людям, страдающим близорукостью. Это был секретарь комитета, выдвинутый недавно на партийную работу из механического цеха. Увидев Суфию-ханум, он поднялся навстречу во весь свой рост и с уважительной осторожностью сильного человека пожал её маленькую руку.
– Кажется, помешала? К собранию готовитесь?..
– Мы вас ещё вчера ожидали, товарищ Ильдарская. Всё идёт по намеченному плану. Можете ознакомиться, – сказал Ефимов, раскрывая папку с аккуратно подшитыми бумагами.
Суфия-ханум читала доклад старого мастера, которого уважала за огромный производственный опыт, со всё возрастающим интересом. Урманов освещал вопрос всесторонне – от организации рабочего места до стиля работы мастеров и начальников цехов. Но вот она дочитала последнюю страницу, и первое её инстинктивное движение было открыть новую. Её не было. Чем глубже вдумывалась она в смысл прочитанного, тем отчётливее ей хотелось открыть следующую страницу.
– Вы внимательно ознакомились с докладом, товарищ Ефимов? – спросила Суфия-ханум.
– Дважды прочитал. По-моему, доклад дельный и конкретный.
Она задумчиво постукивала пальцем по настольному стеклу. Потом решительно сняла с плеч оренбургский платок и повесила на стул.
– А как вы его находите? – спросил Ефимов, правильно поняв жест Ильдарской: предстоит, мол, серьёзный разговор.
– Мне кажется, в докладе товарища Урманова немало ценных и правильных мыслей, но не выделено главное…
Ефимов сразу огорчился и поглядел на Ильдарскую недоумёнными круглыми глазами.
– Как вас понять?.. Мы с товарищем Урмановым почти каждый день беседовали. В докладе ясно указано, что у нас хорошо и что плохо. Общее собрание внесёт в это дело ещё больше ясности. Тогда мы на хороших примерах подымем весь коллектив.
– Всё это так, но за что вы, как партийный работник, ухватитесь завтра же? – прервала она, добиваясь прямого ответа. Но Ефимов, несколько поспешно решив, что нет нужды усложнять и без того ясный для него вопрос, торопился убедить в этом и Ильдарскую. Она дала ему высказаться, больше не прерывая его, потом спокойно перешла в наступление.
– Мы прежде всего должны воспитывать у рабочих коммунистическое отношение к труду, чтобы каждый чувствовал себя за своим станком как настоящий хозяин, чтобы вкладывал в работу всю душу. Вы беседовали с рабочими по поводу доклада?
– По поводу доклада нет, – честно признался Ефимов и покраснел. – Я думал, товарищ Урманов…
– Пойду-ка я в цех к товарищу Урманову, – поднялась Суфия-ханум. – Потом ещё поговорим. Расстраиваться не надо.
Механический цех делил заводской двор пополам. Непрерывным потоком идёт масса грубого, неотделанного металла – поковки, литьё, железный лист – из одного в другой конец просторного, светлого здания и на токарных, сверлильных, строгальных, фрезерных, зуборезных станках превращается в точные, тщательно, до глянца, отполированные детали разной, иногда причудливой формы. Затем они складываются, свинчиваются, скрепляются одна с другой, чтобы из ворот сборочного цеха, которым заканчивается заводское здание, выйти прочной, слаженной машиной, готовой к труду на колхозных полях.
Идя по гудящему цеху, Суфия-ханум обратила внимание на мелкий, казалось бы, факт: вдоль окон, за длинным верстаком, крытым линолеумом, работали слесари-инструментальщики. Они были в аккуратных, чистых спецовках.
Один из них, Ильяс Акбулатов, – Суфия-ханум знала его давно, – подошёл к соседу слева и, что-то сказав, взял с верстака деталь, посмотрел на свет, покачал головой и снова что-то сказал. Сосед сердито вырвал из его рук деталь и поставил обратно. Акбулатов вернулся к своим тискам, взял такую же деталь, поднял её до уровня глаз и, вертя на кончиках пальцев, залюбовался ею, откинув большую голову, – так любуются самоцветом. Потом повернулся к соседу справа, тоже молодому слесарю, ростом выше его на целую голову, Николаю Егорову, и бросил какое-то весёлое словечко. По мгновенному обмену взглядами Суфия-ханум уловила, что они понимают друг друга с полунамёка.
Она подошла ближе и встала между Акбулатовым и его недовольным соседом.
– Что у вас?
Рабочие знали её, часто видели в цехе.
– Да всё Акбулатов баламутит, – насмешливо заворчал сосед Ильяса слева, рослый парень с резкими жестами, – ему всё дай красоту писаную. А деталь не невеста, её замуж не выдают, поэтому нечего и наряжать, попусту терять время. Если бы я брак делал…
– Если бы ты брак делал, с тобой иначе бы разговаривали. Тебе объясняют, а ты огрызаешься! – крикнул через голову Ильяса Николай Егоров, не переставая размечать деталь, искусно орудуя то одним, то другим рейсмусом.
– Слышали? – обратился недовольный слесарь к Ильдарской, ещё больше раздражаясь. – Я делаю деталь согласно чертежу. А о её красоте пусть другие заботятся…
– Не любишь ты свою профессию, своё дело, поэтому и киваешь на конструкторов, – осуждающе сказал Акбулатов, но руки его по-прежнему делали строго размеренные, выверенные движения. – Боишься душу вложить в деталь, чтобы она жила, играла. Вот она и выглядит у тебя, как лицо у старой татарки, что над покойницей сидит.
– И охота же тебе перед товарищем инструктором языком трепать, Ильяс! – бросил с досадою сосед слева и ушёл к точилке.
– Обидно ведь, – понизил голос Акбулатов. – Золотые руки у человека. Захочет, может прекрасную вещь сделать. Это же не Ахтари какой-нибудь.
Суфия-ханум заинтересовалась:
– А кто такой Ахтари?
– Это у нас во второй смене есть такой горе-слесаришка. – Акбулатов улыбнулся. – Тот боится своей продукции. Пока не сдаст её в ОТК, дрожит, совсем как дряхлый муэдзин; гадает – примут, не примут; а сдал – лицо солнышком, рот до ушей. А мы вот с Николаем Егоровым хотим добиться, чтобы нам разрешили сдавать детали прямо на склад на нашу полную ответственность. И ставить на них наше личное клеймо.
– Не иначе, – с воодушевлением поддержал его Николай, тщательно вытирая руки паклей. – Технический контроль – чистая формальность. При коммунизме, я убеждён, его не будет. Прежде чем нести деталь контролёру, изволь сдать её своей совести. Примет она – хорошо, не примет, – значит, нечего и к контролёру идти.
Суфии-ханум показалось, что она нашла как раз то, что искала.
– Хорошо бы, товарищи, – сказала она, воодушевляя их своим одобрением, – на партийном собрании рассказать вам об этих ваших мыслях.
– Что ж, можно, – согласились в один голос Егоров и Акбулатов.
Пожелав им успеха, Ильдарская по винтовой лестнице поднялась в застеклённую конторку мастера. Рахим-абзы Урманов и технолог цеха, наклонившись над синей калькой, о чём-то спорили.
– Приветствую вас. Ничего, занимайтесь своим делом, – сказала Ильдарская, глядя сверху на огромный, живущий сложной жизнью цех.
Суфия-ханум сопоставляла свои наблюдения с тем, что говорили Акбулатов и Егоров. Любовно работать над деталью… Сдавать её своей совести… Заслужить право на именную работу… Это надо обдумать и поддержать!
Как только мастер Урманов освободился и подошёл к ней, Суфия-ханум коротко поделилась с ним впечатлением от его доклада, рассказала о недавней беседе со слесарями и посоветовала Рахиму-абзы перестроить своё выступление.
– Мне кажется, Акбулатов и Егоров нащупали важное звено, за которое и следует вам ухватиться в своём докладе. Я говорю об их мысли по поводу личной ответственности за деталь… И ставить такой вопрос надо не в узком цеховом масштабе. Ведь это одна из главнейших наших задач – воспитывать коммунистическое отношение к труду, – продолжала она, внимательно наблюдая за выражением лица Рахима-абзы.
Чем яснее становилось Урманову то, о чём с горячим убеждением говорила эта пользующаяся на заводе всеобщим уважением женщина, тем большим доверием проникался он к её мыслям, тем всё более светлело и разглаживалось его морщинистое лицо.
– Ведь мне самому давно уже приходили такие мысли… Теперь не понимаю даже, почему я упустил это в своём докладе. Да, горазда наша молодёжь на новое. Спасибо и вам, что подсказали вовремя, – поблагодарил Рахим-абзы, непроизвольно переставив на столе красиво отполированную шестерёнку.
После бессонной ночи с думами о Мансуре – проводы бойцов, заводской гул и скрежет металла. Трудно достался этот день Суфии-ханум! На улице она сразу почувствовала усталость, но сознание того, что она всё же кое-что сделала сегодня, подняло ей настроение. Жадно глотая морозный воздух, она заспешила в райком, чтобы окунуться в новые дела.
Домой на этот раз она вернулась раньше обычного. На столе лежала записка Муниры:
«Мама, мы с Таней ушли в школу. Обязательно приходи на вечер. Обед – в духовке».
Суфия-ханум наскоро пообедала и переоделась. Когда она вошла в почти тёмный зал, торжественная часть вечера закончилась. Был освещён только занавес. Проходившую вперёд мимо заполненных рядов Суфию-ханум окликнули.
– Садитесь с нами, Суфия Ахметовна! – позвала её Таня Владимирова.
Сидевшие с ней девушки охотно потеснились.
На эстраде появился Хафиз Гайнуллин и, когда зал притих, звонким голосом объявил:
– «Золотая Звезда»! Произведение ученика десятого класса Наиля Яруллина. Участвуют учащиеся десятого класса: Мунира Ильдарская, Ляля Халидова, Наиль Яруллин, Хаджар Шамсиева, Хафиз Гайнуллин…
– Ляля исполняет мужскую роль, вместо Галима, – зашептала Таня. – Он так и не пришёл, и Ляля заменила его, чтобы не сорвать спектакль.
Суфия-ханум молча кивнула головой: понимаю. Она ждала появления дочери на сцене с той повышенной тревогой, которую испытывают только матери. Ей чудилось, что и другие, вот, например, её соседки-девушки, тоже волнуются сейчас за Муниру.
Началось действие.
Когда Наиль задумал пьесу о Золотой Звезде, он имел в виду реального героя, чей портрет висел в школьном коридоре. Но стоило пьесе попасть в водоворот совместного творчества, и участники её понемногу отошли от действительного подвига Анвара Шакирова, и каждый по силе своего воображения дополнял и возвышал его образ.
Сколько искренности, сколько молодого задора и чистых стремлений было вложено в эту пьесу!
Конечно, наивная восторженность спектакля в исполнении этих юношей и девушек, которые, играя впервые, воплощали на сцене свою мечту, не могла ускользнуть от опытных глаз Суфии-ханум, и всё же она смотрела его с увлечением. Откуда-то издалека возвращалась к ней её молодость, молодость её Мансура. На декорации – разрисованная на совесть дальневосточная тайга. Ляля, в форме пограничника, с винтовкой в руке, зорко всматривается в даль. Заложив пальцы в рот, она соловьиной трелью даёт кому-то сигнал. Но на её зов из-за ветвистых кедров быстро выходит не красноармеец, как этого ждут зрители, а санитарка с сумкой Красного Креста – Мунира. Она легко и уверенно движется по сцене. Суфия-ханум облегчённо вздыхает, – теперь она уже не боится, что дочь провалится.
После первого действия кто-то из девушек принёс записку от Муниры: «Мамочка, как получается? Вовсе уж не похоже на правду?
Тебе со стороны виднее. М.».
Суфия-ханум улыбнулась и написала ответ: «Играете хорошо. Только не смотрите всё время в зал. Про зал забудьте вовсе. Держите себя свободнее».
Таня приписала от себя: «Чудесно! Я уже влюблена в Ильдуса – Лялю».
Вернувшись со спектакля, Суфия-ханум почувствовала, что от сердца у неё немного отлегло. В ожидании Муниры она торопилась набросать свою речь на завтрашнем партийном собрании.
Отдельные подробности, которым Суфия-ханум днём, казалось, не придавала значения, припоминались в тишине ночи с поразительной чёткостью. У Акбулатова и Егорова на чёрных спецовках – синие воротнички. Штангели у них с секундомером и в бархатных футлярах, у других слесарей они без футляра. На тумбочке перед Акбулатовым – покрытый целлулоидом настольный календарь. Может быть, всё это мелочи, но ведь из таких мелочей и создаётся культурный облик передового рабочего.
Суфия-ханум и не заметила, как вернулась Мунира.
– Ой, как я устала! – проговорила девушка, по своей давней привычке ласково потеревшись щекой о щёку матери.
– Не мудрено и устать после такого дня, – сказала Суфия-ханум, задержав руки Муниры, показавшиеся ей слишком горячими.
– Может же быть у человека такой талант! – восхищалась Мунира игрой Ляли. – Стать настоящим парнем, даже свистеть по-мальчишески. Да что я рассказываю! Ты же сама видела…
– Да, она держалась молодцом, неплохо сыграла… Но уже поздно, Мунира! Что-то не нравятся мне твои воспалённые глаза, – озабоченно сказала Суфия-ханум.
– Да, я лягу, мама, спокойной ночи.
Заплетя косы и положив руки под голову, Мунира долго не могла уснуть.
Она думала о сегодняшнем вечере. Потом неожиданно вспомнилось, как недели две назад они с Лялей, Хаджар и Таней ходили на лыжах по Кабану. Они толкали друг друга в снег, подолгу смотрели на звёзды, мерцавшие то зеленоватым, то голубым светом. Откуда-то появился Наиль и увёл с собой Хаджар. Наиль влюблён в Хаджар. Ляля, непонятно почему, сердится на это. А Мунире смешно.
Наутро Ляля задала ей странный вопрос:
– Кто из мальчиков больше других тебе нравится?
Мунира ответила:
– Все одинаково.
– Нет, нет, а кто больше?
– Не знаю.
– Тогда я скажу: Г. У.
И она, Мунира, покраснела. Ещё в девятом классе Мунира стала замечать в себе какое-то новое отношение к Урманову. Уже не раз она ловила себя на том, что стеснялась этого невнятного, едва ощутимого чувства, стараясь скрыть его от своих самых близких подруг – Тани, Ляли, Хаджар, от матери, хотя во всём другом была с ней совершенно откровенна, и даже от самой себя. Но хотя Мунира на людях и задирала Галима и иногда не прочь была даже показать своё пренебрежение к нему, всё же, оказывается, от друзей ничего не утаишь.
Ляля раскрыла самые тайные её мысли. Но Муниру Лялины слова почему-то не задели, наоборот, даже доставили какую-то радость. Вчера, когда Галим не пожелал её выслушать, посчитаться с её мнением, он и не подозревал, как глубоко обидел её, – ведь она так волновалась из-за того, что против него ополчился весь класс.
Вдруг в памяти всплыл Кашиф Шамгунов, который тоже был сегодня на вечере. Кашиф служил в банке и доводился ей дальним родственником. Он прямо-таки весь сиял от самодовольства, блестели даже его явно подвитые волосы, его наполированные ногти. Как смешно, когда мужчина усиленно следит за своей внешностью!
Мунира недолюбливала Кашифа, но всё же пригласила на вечер. Уж очень он просил её об этом. А тут ещё Галим поссорился с ней.
Девочки говорят, что у Кашифа красивые глаза. Что из того! Мунире не нравится их выражение… Совсем как у кота, слизавшего с молока сливки… Нужно же было звать на вечер этакого «салам-турхана»[3]3
Чучело соломенное.
[Закрыть]! Подумаешь, хотела сделать неприятное Галиму, а его на вечере-то и не было.
«Галим… нет, не стоит и думать о нём. Мальчишка – и всё…» И что это ей не спится? Она встала, накинула халат. Взгляд её упал на портрет отца, с тремя шпалами в петлицах гимнастёрки и боевыми орденами. Как жаль, что его не было на их торжественном вечере. Где он сейчас? «Папа, родной, милый, я очень боюсь за тебя».
Мунира уже полгода не видела отца. Когда-то он водил её в тир, учил стрелять из пневматического ружья, вместе они скакали верхом в манеже, плавали на Волге баттерфляем и брассом. А как любила она ходить с ним на лыжах! Да, если отец скоро не приедет в Казань, она поедет к нему. Как только получит аттестат.
Мысли о Галиме, об отце переполнили душу Муниры, и она, сама не понимая отчего, заплакала.
Послышался скрип двери и тихие шаги матери. Суфия-ханум постояла, зябко кутаясь в мягкий оренбургский платок. Потом подошла к Мунире и, обняв её за плечи, крепко прижала к себе.
Муниру всегда поражала своеобразная красота матери, подчёркивающая её душевную силу. Но разве могла Мунира догадаться, чего стоило матери напряжение этой минуты, как трудно было ей удержать готовые хлынуть слёзы и не сказать Мунире правду об отце! Взглянув на Муниру, жмущуюся к ней, как птенец под крыло большой птицы, Суфия-ханум твёрдо решила ничего не говорить Мунире, пока не дождётся ответа на свои телеграммы.









































