Текст книги "Золотой скарабей"
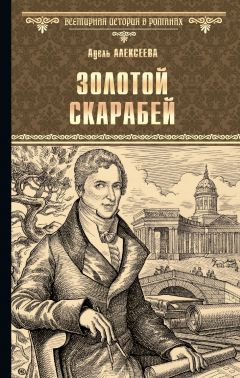
Автор книги: Адель Алексеева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Путевой дворец. Василиса
Екатерина II приказала Матвею Казакову построить Путевой дворец. Имя его было уже известно в Москве. Он повторял слова старого Растрелли: «Матвей, слушай: я учился в Италии, изучал Леонардо и Брунеллески, учился вместе с Баженовым, а теперь – твоя очередь учиться у нас».
Императрица заботилась о красоте русских городов, об архитектуре. Она не разделяла пристрастия к барокко, архитектура – это ж музыка! Ей по вкусу был классицизм. А Казакову велела создать Путевой дворец таким образом, чтобы красота его открывала дверь в Москву на Тверской дороге, чтобы он изумлял гостей, чтобы во дворце соединялись Восток и Запад, старинная Москва и европейский стиль, даже готический.
Строительство дворца шло начиная с 1770 года.
Ах, как лелеяла его Екатерина, как рисовала в своем воображении! Она представляла старорусские палаты, готические шпили, башенки и круглый широкий двор! Где же еще разместиться каретам и экипажам, въезжающим, например, на коронацию!
Казаков посмотрел рисунки Андрея: недурно. Они быстро подружились, и обоим уже мерещилась московская сказка – Путевой дворец.
Вокруг расстилались леса, далее – владения Разумовского, Нарышкиных. Казаков с помощниками быстро соорудили деревянный домик, в котором были лавки для отдыха и столы для чертежей. Андрей там чертил подолгу, пока горели свечи.
Воображение у зодчего было смелое, на лице явно выраженная упрямка, так что чертежи и планы вылетали из-под его рук чуть не всякую неделю новые. Работали – хоть в шесть, хоть в восемь рук! Андрей делал простое: лестницы, наугольные комнаты – и уже иногда мог поспорить, предлагая что-то свое. При удачных находках оба кричали: «Виват!» А Казаков говорил: «Ты помощник отменный!» – и потирал руки.
Кормились строители раз в сутки. Запрягали буланую лошадь и ехали в Ямскую слободу. Там обитала родственница Казакова, племянница Василиса, и готовила им нехитрую еду. Они с аппетитом жевали и веселили Василису. Она была так хороша, что Андрей краснел, смущался, когда девушка разливала по тарелкам щи.
– Вот тебе и натура, – заметил как-то Матвей Казаков, – учись, рисуй ее.
Андрей пытался, только у него она не получалась похожей, что-то неуловимое ускользало. Куда подевалась его отчаянная лихость? Василиса звала его с собой в церковь, и еще раз, и еще. Андрей осмелел. Они гуляли в воскресные дни по лесу. Чтобы согреть Василису, он даже приобнимал ее за плечики. Она отводила руки и позволяла греть только холодные свои пальчики. Была строга и называла его по имени-отчеству: «Андрей Никифорович, не шалите, не больно это хорошо».
Нравились Андрею Василисины обеды-посиделки, когда возникали самые что ни на есть умные разговоры. Андрей старался быть значительным, серьезным, а девушка – как дуновение ветра. Но любила тоже и любомудрие (отец ее владел типографией).
Матвей Казаков появлялся утром, и они, уткнувшись в свои чертежи, сидели так до самой ночи. Порой на Андрея наваливалась такая усталость, что ляжет спать – и ни одна доска под ним не скрипнет, – сон мертвецкий!
Иногда во сне грезилась русая, с прямым пробором головка Василисы, портрет ее не получался. Сердцем своим, мечтами уносился он туда, куда не позволял разум и строгий уральский нрав. Обнимал ее во сне – держал в руках ее пальчики.
Как-то раз поведал Василисе о своей встрече с шаманкой. Она испугалась и сводила его в церковь к батюшке, а на обратном пути завела речь о святых и грешниках, о бестолковых язычниках и чистых православных людях.
– Андрей Никифорович, а вы в Бога веруете по-настоящему? – спросила.
– Слыхал я, что Бог – один, и в такого Бога я верую. Да только ведь все по-разному законы его исполняют… У нас в Усолье старообрядцы крестятся двумя перстами, и обряды у них другие. Бороды не бреют, строги, живут по уставу.
– А по уставу – это как? Значит, они не грешат? И вы, Андрей Никифорович, без грехов живете?
– А ты, Василисушка?
– Ой, да как же без греха-то? Намедни матушку ослушалась.
– Да это грех небольшой, совсем маленький, – Андрей нахмурился. – А вот бывают такие грехи, что страшно сказать.
– Поделись со мной – легче будет.
И Андрей теперь уже в подробностях рассказал ту странно-страшную историю сперва про генерала Бибикова, а потом про уральскую шаманку. Что было сие – он не ведает, но без лешего-бесова, знать, не обошлось…
– Большие грехи я тогда совершил, меня нечистая сила водила, не моя воля.
– Ну раз не твоя, значит, и грех не твой?! – Девушка рассмеялась, облегчив сердце «грешника».
А еще сказала:
– Знаешь, днями будет здесь, в нашем храме, архиепископ Платон, великого ума человек! Так можно к нему подойти, поведать все, покаяться – он отпустит тебе грехи. Я только раз слушала его проповедь, так веришь ли? – слезами умывалась… А если вы с Матвеем Федоровичем заработаетесь, так я тебе напомню, подскажу, в какой день идти. Хорошо бы на Благовещение.
Архиепископ Платон (Левшин) был наместником, позднее – настоятелем Троице-Сергиевой лавры. Он был высоко ценим, Екатерина II определила его проповедником и законоучителем своему сыну.
Андрей, побывав на исповеди у архиепископа, тоже проникся к нему благоговением, а тот полюбил мирный и уживчивый нрав молодого художника.
Все более милой становилась Андрею Василиса, смотреть на нее было для него радостью: глаза ясные, блестящие, хоть и строга, не позволяет лишнего. А может, сердце к нему не лежит?..
(Наступит время – и придет тот, кто заставит сильнее биться сердце Василисы, а сама она привяжется к девице, покорившей самого императора. Будет писать она эпистолы Андрею, из которых он узнает про «предмет ее амурный».)
Если бы не работа с Матвеем, потерял бы голову будущий архитектор.
…Однажды неподалеку от строящегося дворца произошло нечто необыкновенное, историческое. Вбежал паренек и возбужденно крикнул:
– Идите, глядите, везут по дороге Емельку Пугача!
Показалась окруженная солдатами и отрядом при двух пушках повозка на колесах. В ней стояла сколоченная из крепких досок клетка, а за решеткой – зверь-Пугач! Черный, взлохмаченный. Он держался за доски, не садился, а только качался из стороны в сторону.
Казалось, Пугач вот-вот раскачает клетку и вырвется на волю. Но уже знали тогда о приказе раздраженной императрицы: «Ежели вырвется сей злодей – головы всем не снести!» А кто в охране? Уж не Суворов ли там? Неужели не нашли для такого дела не столь великого полководца? Екатерина посылала для укрощения бунтовщиков генерала Бибикова, а теперь вот – самого Суворова?
Андрей вспомнил Бибикова и отвернулся от неприятного зрелища. Василиса со странным любопытством не спускала глаз с печальной телеги. Андрей покосился на девушку – отчего она так? Узнать, догадаться о том ему предстояло еще не скоро.
Как-то раз Василиса снова повела Андрея к священнику Платону (Левшину), и на этот раз беседа была продолжительной. Положив руку на голову Андрея, тот говорил об апостоле Андрее, который первым уверовал в Христа и позвал с собой брата своего Петра – оттого называют его Первозванным. Апостол почитался как покровитель Древней Руси, он предсказал создание славного города Киева и славного Новгорода. Святой Андрей стал покровителем морского флота, в честь него Петр I учредил орден Андрея Первозванного… Некогда, в III веке, проконсул римский натравил леопарда на апостола, однако зверь задушил сына того проконсула; Андрей, однако, воскресил его.
– Несть числа добрым деяниям апостола. И тебе, раб Андрей, в честь его дали имя – так можешь ли ты, сын мой, свершать дурные поступки?.. Когда апостола приговорили к распятию на косом кресте, он произнес речь во славу Креста, и было сие стремлением к мученичеству на пути к Царству Божию. Не гордился апостол храбростью своей, и тебе, раб Божий, надлежит не предаваться тщеславию и гордыне… Ежели дал Бог тебе художественный дар, так в том нет твоей заслуги. Стоит только подумать: «Как я потрудился рядом с известным зодчим, как я помог ему» – и тут же Господь отойдет от тебя. А если человек не сохранит Божий дар, не воспользуется им, дьявол заберет его к себе. Надобно вырабатывать смирение, и оно спасет тебя от тщеславия… Делаете дело – спрашивайте себя: угодно ли сие Богу? Не завладела ли мной страсть – орудие дьявола?.. Услыши нас, Господи, услыши и помилуй!
Отец Платон отдельно беседовал с Андреем, и лицо у него было такое доброе, такое ласковое, и рука так плотно и легко лежала на голове Андрея, что ему казалось: здесь обретал он покой и любовь – словно это его родной отец!
Каяться Андрей еще не научился, грехов за собой больших не чувствовал… Жило, пожалуй, в нем еще беспокойство за графа Строганова, смущало неведение отцовства, однако про то говорить с батюшкой стыдно. Отец Платон! Все подкупало в нем, но к откровениям Андрей не был готов. Лицо же священника было такое славное, что в памяти Андрея всплыл тот необычайный господин в белом парике – фамилия вроде Мусин-Пушкин. Но ведь тот был преисполнен знаний научных, кажется, инженер, а митрополит мыслил о Божественной сущности мира.
Какой его грех еще? Василиса? О ней тем более Андрей не мог даже заикнуться. Так и получалось, что ни в одном грехе, тайне не мог ни признаться, ни покаяться раб Божий Андрей.
…В другой раз, приближаясь к Успенскому собору в Кремле – служба уже началась, – Андрей думал: «Вот бы и мне построить храм, подобный тому, что сделали итальянцы! Или лучше…» Но вдруг практическая и страстная мысль отдалилась, откуда-то сверху донеслось чудное пение, на митрополичьем месте появился, воздев руки, отец Платон – и Андрей почувствовал некое прохладное дуновение. Нечто Божественное окружило его и словно приподняло вверх – и душу, и мысль, и тело! Священный трепет пробежал по жилам. И две тихие слезы скатились по щекам…
…Когда Андрей вернулся к Путевому дворцу, Казаков, не отрываясь от чертежа и от своих мыслей, озабоченно говорил:
– В архитектуре нельзя без скульптур из мрамора… Литейное дело тоже надобно, медь, золото… А потолки, декорации, стены? Работа прекрасная, хотя и трудная! Но здесь, в России, архитектор ничего не имеет, кроме жалованья. Пока он нужен – платят, заболел – никому нет до него дела.
Следующей неделей опять событие – к ним постучали: почта!
Это было письмо от Строганова – и какое! Граф срочно призывал своего подопечного, дворового, раба немедленно быть в Петербурге. Что случилось? Какая в нем надобность?
А вечером повстречался с Василисой.
– Вася-Васенька, я уезжаю, – объявил он, с грустью глядя на русую головку, на ускользающую ее улыбку. – Неизвестно, когда увидимся. Забудешь ли ты меня, хочешь ли забыть?.. Может, будем писать письма?
– Я люблю эпистолы, – только и ответила Василиса.
Утром Казаков проводил своего помощника до Ямской слободы, они расстались. Василиса не пришла, но ведь ее и не звали…
И вот кибитка уже приближается к Северной столице. Андрей печален. Куда теперь направит его граф? Отчего не написал никаких подробностей?
Думал про Василису, вспоминал Мишеля… Вроде как они побратимы?
А между тем… Михаил ехал той же дорогой, только в обратную сторону, в Москву. Кибитки их разминулись всего в нескольких верстах от столичной заставы.
Да, так бывает, судьба сталкивает двоих словно нарочно, зная родство душ, – и вдруг разлучает, пуская по неведомым дорожкам и тропкам. Один писатель назвал нашу жизнь «садом расходящихся тропинок» – загадочные слова. Случайности соединяют и разлучают людей – или их нет, а все размечено на небесах, и только там известно, надо ли столкнуть двоих – или провести их через новые испытания, прежде чем порадовать встречей.
Двое не встретившихся художников, каждый в своей кибитке, уносились в мечтах к неведомым далям. А думали о разном: один – о причине графского вызова, другой – о хозяевах дома, в котором жил. Какой странный и страшноватый человек этот Лохман! Столько лет в России, а не научился говорить по-русски. И что связывает его с Эммой, что привело в Россию? Еще эта скрипка…
Не однажды, раза три, видел Михаил стучавшегося к Лохману человека в черном капюшоне, надвинутом на глаза, – оттуда взблескивал быстрый, подозрительный взгляд и виднелись закрученные вверх усы. Он явно был из иной, потаенной жизни Лохмана. Как-то, уходя, Миша столкнулся с ним в дверях, потом оглянулся и в окне увидел, как оживленно разговаривали все трое: Эмма, пришелец и Лохман. Спросил потом Эмму, но та сделала вид, что видела человека впервые.
Он не настаивал, да и что за дело молодому, увлеченному юноше до неведомых гостей. Он не корыстолюбив, готов прийти на помощь друзьям. Жизнь не ожесточила его, он добродушен, смел, легковерен. А Эмма? Как-то, войдя в комнату, Михаил застал ее в расстройстве, глаза у нее расширились, и она всхлипнула.
– Прости меня, милый! Про тайное венчание Львова и Маши Дьяковой в церкви я по дурости сболтнула Лохману, а он – Хемницеру… Прости, Мишель, не сердись!
То было как удар для бедного Ивана Ивановича. Ему и без того тяжело: любовь безответная к Маше, службы в Горном ведомстве лишился. И все же философски воспринял весть о назначении в Турцию: после окончания русско-турецкой войны императрица повелела открыть русское консульство в турецком городе Смирне и направить туда Хемницера. Капнист возмущался: как Иван будет жить один? Львов молчал.
С тяжелым сердцем согласился Хемницер с новым назначением. Встретив Мишеля, печально поделился с ним новостью. И Мишель вдруг неожиданно для себя воскликнул:
– Я поеду с вами!
– Что ты?! Там для тебя нет работы. – Хемницер заморгал длинными рыжими ресницами. – И нет позволения…
– Пусть! Тогда я поеду хотя бы до Черного моря.
Поддавшись столь соблазнительной мысли, Иван Иванович несколько повеселел. Они стали готовиться к дороге…
В тот час, когда Андрей миновал Петербургскую заставу, Мишель и Хемницер покинули ее.
Трик-трак-трак… лошади бойко стучали копытами по весенней дороге… Мишель, оказалось, был склонен к авантюризму – надо же так внезапно поддаться чувствам и отправиться невесть куда?..
Опера «Данаиды»
Царила пора игры, украшательства и театров. В Зимнем дворце «забавами» (как и всей жизнью) распоряжались императрица Екатерина и ее двор. При Малом дворе Павла Петровича иное: музой Павловска была Мария Федоровна, а в Гатчине гвардейцами командовал сам наследник. Он не любил, не уважал свою мать и избегал частых посещений Зимнего. Зато если появлялся в Павловске, среди многочисленных детей своих, рядом с маленькой, ловкой, улыбчивой супругой Марией Федоровной – умел развеселить и даже насмешить гостей. Удивительно, как эта женщина с томными глазами и ленивой повадкой почти каждый год дарила супругу деток и при этом волшебными своими ручками с необыкновенным изяществом и вкусом обустраивала любимый Павловск, его сады, окрестности, выказывая особую любовь к театру.
Актрисами в том театре более всего были девицы из Смольного института, и с ними Мария Федоровна была сердобольна. В Смольный принимали состоятельных девиц, однако госпожа исполнялась сочувствия и к какой-нибудь бедной сиротке – и ту зачисляли в институт.
Она благоволила к директору Императорского театра и даже способствовала его назначению на эту должность. Человек он был талантливый, энергичный, артистичный, хотя его называли «захудалый князь» Долгорукий. Ей нравились его задушевные вирши, долгие, но содержательные. А как весело играл он Фигаро Бомарше! Не имел сильного голоса, зато подвижное его лицо вызывало в зрительских ложах то слезы, то смех.
В Европе славился композитор Глюк, любимец Марии-Антуанетты. Но всех музыкантов обгонял плодовитый композитор Сальери, имя его звенело, и устроители оперы в Париже пошли даже на то, что автором оперы «Данаиды», написанной Сальери, объявили Глюка: этот уже стар, а Сальери (как Фигаро) – везде и всюду.
«Театр уж полон; ложи блещут», – напишет позднее Пушкин, но Долгорукий тоже учится выражать поэтические мысли не без легкости и простоты.
При Малом дворе уже получили новые ноты оперы. На премьеру собрались отъявленные любители.
Блистали бриллианты знатных дам. Светлая зала отливала позолотой, в креслах сидели вельможи.
Вот Шереметев в парадном мундире, а рядом с ним Нелидова. Шереметев тоже, кажется, хотел ставить эту оперу, ему любопытно, что сотворили Бортнянский и Долгорукий, у которого при встрече с графом мелькала то ли завистливая, то ли неприязненная улыбка.
А вот Львов, не знатный дворянин, мелкопоместный, но обладающий отменным вкусом, – к тому же архитектор, которому граф Шереметев думает заказать дом в Москве.
Здесь и случайный наш знакомец – Мусин-Пушкин, все в том же белом парике, с темными дугами бровей и теплым взглядом больших карих глаз – красив, умен и добр!
Граф Строганов, разумеется, тоже приглашен на премьеру, но пока его нет.
А на сцене уже развертывалось действие. Костюмы богатые, авантажные, но что за времена отражаются в них? Не Рим и не Средневековье, а какая-та ранняя цивилизация. Египет? Месопотамия? Или просто страшноватая сказка? Пятьдесят данаидов должны взять себе в жены пятьдесят египтянок. Но одна из них, главная Гиперместра, ненавидит Даная и хочет его убить.
Музыка Сальери, как обычно, звучала тяжело, хотя полна страсти и драматизма.
Прекрасную арию исполнила Гиперместра. Как выразительна! Кто же исполняет?
– Кто она? – спрашивает Мусин-Пушкин.
Долгорукий придал лицу горделивое выражение (словно это он-то и породил сию талантливую девицу). У князя есть основания для этого: девица по имени Евгения Смирная прибыла с Урала, сразу понравилась князю, он узнал ее судьбу и бросился в ноги к Павлу Петровичу и супруге его:
– Ваше величество… ваше величество! Если бы вы знали, что пережила эта девица там, на Урале! Ведь ее отца злодей Пугачев собственными руками повесил! Сколько она настрадалась, а страдания – первый удел для актрисы!
И Евгении Смирной дали главную роль в опере «Данаиды». В зале кричали: «Форо!», аплодировали, а Мария Федоровна одарила девицу перстнем со своей руки.
Мусин-Пушкин и Львов, уединившись, о чем-то говорили, спорили – доносились слова «цивилизация», «роза», «крест». Вполне возможно: ведь Павел Петрович благоволил к розенкрейцерам и считал, что масонские ложи, объединения отвлекают шаловливых французов от вечно бурлящих в них стремлений, шалостей.
Сам же наследник слушал оперу, стоя в дальнем углу, возле древнегреческой скульптуры, обхватив рукой голову, похоже, Сократа. Смотрел он вокруг отрешенно и даже печально.
После окончания длинного представления было объявлено, что следующее представление состоится у графа Александра Сергеевича, в Строгановском дворце.
Дом Александра Сергеевича Строганова славился отменными поварами и царским изобилием. В любой час там было накрыто до 20 кувертов. Даже в дни представлений.
В XVIII веке вообще любили покушать – дворники и дворовые пробавлялись грибами, благо много их на Руси, зато господа…
«Ах, Маша, – писал один современник, – как здесь много кушаний! Поутру пьют чай с сухарями и кренделями, потом, часа через два, завтракают; потом обедают; после того полдничают; потом пьют чай и, наконец, вечеряют, то есть ужинают. После ужина еще подают изюм, миндаль и разные варенья. Кроме того, кузины мои целый день грызут каленые орехи; я не понимаю, как у них зубы не ломаются!»
Монотонные дни нарушались приездом гостей в семейные и церковные праздники. Часто гости приезжали без всякого повода, «гостили и кормились по нескольку дней».
Из Малороссии писали, что черноглазые хохлушки не умеют русского кваса варить и дерзают величать этот наш «отечественный нектар» «кацапским пойлом». Зато у русских помещиков «отечественного нектара» хватало в избытке. Как у бедных, так и у богатых число блюд было нескончаемо.
Другой современник рассказывал о помещике Дубинине: «За обедом его можно было назвать истинным счастливцем: как блестели его глаза, когда на столе появлялась какая-нибудь великолепная кулебяка! С какою любовью выбирал он для себя увесистый кусок говядины! Какая доброта разливалась по всему лоснящемуся его лицу, когда он упрашивал нас “кушать не церемонясь”! Он так был хорош в своем роде за обедом, что после мне уже трудно было и вообразить его в другом положении».
Если день был постный, хозяева угощали сдержанно:
– Вот кашица из манных круп с грибами, вот горячее, в виде пирожков, свернутых из капустных листов, начиненных грибами, чтобы не расползались, сшитых нитками и сваренных в маковом соку.
– Вот ушки и гороховая лапша, гороховый суп и гороховый кисель, и горох, протертый сквозь решето. Каша гречневая, пшенная; щи или борщ с грибами и картофель вареный, жареный, печеный, винегрет сборный, и в виде котлет под соусом. Масло ореховое, маковое, конопляное, и все свое, домашнее и ничего купленного.
Ухитрялись готовить маковое молоко и даже делали из него творог. Одна вдова говорила: «Мой покойник покушать был охотник. Сморчков в сметане, бывало, по две сковороды вычищал, как и не понюхает. Любил их, страсть!.. Ведь умер-то он от них, от проклятых».
Представление во дворце Строганова как раз пришлось то ли на среду, то ли на пятницу. И давали не оперу Сальери про данайцев, а что-то композитора Скарлатти. Оттого, что главная певица – Евгения Смирная – по семейным делам отбыла в Тверь, где жили ее престарелые тетушки.
Столы были накрыты в гостиной и в столовой, а также на улице – для бедных и случайных людей. Там больше всего грибных блюд, а в гостиной! – повара начудили такого, что и не догадаться, из чего что сделано. Была даже знаменитая «Сарданапалова бомба». А рыбы, рыбы! Что поделаешь! Граф фармазон и либерал, к тому ж большой охотник до сюрпризов.
Сродник его князь Иван Михайлович зорко ко всему приглядывался, узнавал в некоторых матронах свои прежние увлечения и непрерывно пожевывал печеньица или грыз орешки.
И только один человек не участвовал в обильном застолье – Андрей Воронихин. Граф сразу поселил его в своем доме, однако кем был Воронихин – слуга, раб (так называли крепостных иностранные гости)? Граф его привечал, а слуги – немало. Он не находил способа поведения в таких застольях и потому был молчалив и сдержан.
После оперы, после представления и ужина всем вздумалось шутить, а тут уж Андрей совсем был промах. Строганов остроумен и заговорил о Голицыных. Сколько их в России – не счесть. Несколько ветвей, да по десятку детей. «Ими можно всю Россию вымостить», – рассмеялся он, и тут же все подхватили:
– А каких им только прозвищ не дадено! Я знавала одного, невеликого ростом Голицына, – так ему дали даже два прозвища – «рябчик» и «зайчик».
– А я знаю «глухаря» Голицына и мадам «Пиковую даму». Другая, в девицах еще, услыхала гаданье, мол, умрет она ночью, – и перестала спать ночью, только днем почивала… И еще был Голицын, который говорил-говорил, а рассказывал он интересно, – потом уставал – и только: «Гэ-гэ-гэ…»
Граф заметил, что аристократы вообще любят посмеяться над собой, иронизируют, словно французы. Тут вступил в разговор князь Долгорукий:
– Что-то нынче никто не прохаживается по моему… подбородку – много таких любителей. Некоторые даже зовут меня «Балкон». А мне сие не страшно, я сам сочинил по такому поводу вирши. Желаете, прочитаю? Пожалуйста:
Натура маску мне прескверну отпустила,
А в нижню челюсть так запасу припустила,
Что можно из нее по нужде, так сказать,
В убыток не входя, другому две стачать.
Глаз пара пребольших, да под носом не вижу,
То есть я близорук – лорнеты ненавижу!
Хоть ростом никогда не буду великаном,
Но в рекрутский набор и мой годится стан…
…Музыкальный вечер оказался не столь оперным, сколь кулинарным на радость гурманам, да еще эти шутки, да стихи Долгорукого! «Славный князь, жаль, что беден, самолюбив, – думал Строганов. – Ему бы свободы побольше, быть бы губернатором в какой-нибудь губернии, чем в услужении у Павла Петровича с его причудами… Надобно подать сию мысль императрице».
Перед десертом рядом с хозяином расположился Мусин-Пушкин – у них, кажется, была беседа о ложе вольных каменщиков. Но не только. Поговорив с Воронихиным о геометрии и математике и подивившись его знаниям, Аполлон Аполлонович обратился к графу с оригинальной просьбой:
– Ваше сиятельство, Андрей – ваш раб и подданный, однако по уму он достоин большего. Не желает ли ваше сиятельство продать его мне? Я бы приспособил его к научному делу…
– Дорогой и любезный Мусин-Пушкин, у тебя, милый, не хватит денег, чтобы выкупить его, – я знаю цену Андрею! Не волнуйся, я дам ему вольную, когда решу…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































