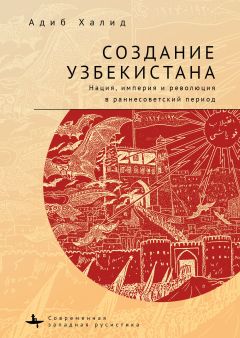
Автор книги: Адиб Халид
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Создание наций и национальные проекты в Советском Союзе
В истории Средней Азии было немного эпизодов, которые породили столько же мифов, как так называемое национально-территориальное размежевание 1924 года, которое привело к созданию этно-территориальных республик на месте прежних образований – Туркестана, Бухары и Хивы. Было бы упрощением рассматривать этот процесс как классический случай реализации стратегии «разделяй и властвуй». В самом деле, такое представление остается незыблемым в западных описаниях этого региона, вопреки всем опровергающим свидетельствам[14]14
Принцип «разделяй и властвуй» постоянно муссируется в работах общего характера, посвященных Средней Азии, и даже в специальной литературе он постоянно упоминается. Такие обобщения очень расстраивают. «Потенциал политической солидарности среди советских мусульман испытал натиск осознанной политики в духе “разделяй и властвуй”, – пишет Мелиз Рутвен. – Современные государства Средней Азии обязаны своим территориальным существованием Сталину. На угрозу пантурецкого [sic!] и панисламского национализма он ответил, раздробив территории российского Туркестана на пять республик» [Ruthven 2004: 103]. Ахмед Рашид [Rashid 2002: 88] полагает, что Сталин прочертил «произвольные границы» и «создал республики, для которых практически не было ни географических, ни этнических обоснований». Поддерживая взгляды Рашида, Филип Шишкин пишет: «Советский диктатор Иосиф Сталин… прочертил границы, разделив этнические группы, и тем самым сделал для них очень трудным организованное противостояние советскому правлению. Если вы посмотрите на карту Ферганской долины… [то увидите] лихорадочно изломанные линии, безумно расчертившие государства зигзагом, напоминающим кардиограмму пациента с тахикардией!» [Shishkin 2013: 238].
[Закрыть]. Такая картина составляет полную противоположность современной историографии в самой Средней Азии, так что существование наций представляется самоочевидным, а раннесоветская политика выглядит как исторически «нормальный» процесс национализации[15]15
Разумеется, в современных историографиях разных стран есть различия. Киргизские историки рассматривают момент размежевания как рождение их национальной государственности. Точно так же нет претензий к этому процессу у историков ни в Казахстане, ни в Туркменистане.
[Закрыть]. Когда ученые в Средней Азии критикуют этот процесс, они указывают на «ошибки» – предумышленные и не только, – в результате которых земли отошли к той или иной нации, но само это мероприятие вредоносным они не считают[16]16
См., например, [Койчев 2001]. Таджикские ученые выражали сожаление в связи с тем, как процедура размежевания лишила «таджикский народ» его исконных земель, однако их претензии направлены скорее против «пантюркистов», чем против Советского государства. Эту ситуацию я рассматриваю в главе 9.
[Закрыть]. В самом деле, архивные исследования отчетливо показали, что размежевание стало частью общесоветского процесса создания этнически однородных территориальных единств; что местные кадры играли центральную роль в обсуждении этого разделения; и что советская власть видела главную проблему Средней Азии в ее политической раздробленности, а не в наличии некоего всеохватного единства, которое следовало разрушить[17]17
Наибольший интерес представляет работа Арна Хаугена [Haugen 2003]; см. также замечательное описание процесса создания Туркменистана, представленное в работе [Edgar 2004: chap. 2]; вдумчивая оценка этого процесса дана во второй главе книги Мадлен Ривз [Reeves 2014].
[Закрыть]. В целом наше понимание советской национальной политики (ее предпосылок и форм реализации) за последние два десятилетия изменилось. Теперь нам известно, что для советских идеологов нации были онтологической данностью, а задача привести административные и национальные границы во взаимное соответствие представлялась политическим императивом[18]18
Вот важнейшие работы, посвященные вопросам создания наций в СССР, [Suny 1993; Слезкин 2001; Мартин 2011; Государство наций… 2011; Hirsch 2005].
[Закрыть]. В более сложных и тонких описаниях размежевания Средней Азии подчеркивалась важность проектов классификации, осуществляемых этнографами и Советским государством [Cadiot 2007; Абашин 2007; Gorshenina 2012; Hirsch 2005]. Тем не менее ни в одном описании разделения не было уделено должного внимания роли в этом процессе элит из числа коренного населения Средней Азии и нигде размежевание не рассматривалось в контексте подъема национальных движений в этом регионе. В результате даже в новых работах, посвященных анализу советской национальной политики, почти ничего не говорится о мотивации коренных элит. Герои этих исследований – советские деятели и этнографы, реализующие общесоветскую политику в Средней Азии. Будучи проводниками политики, основанной на научной классификации, они изображаются в более положительном свете, чем Сталин, который просто проводит линии на карте, однако они все равно вытесняют на дальний план коренные элиты, практически незаметные в новейшей литературе[19]19
Единственное исключение – Адриен Эдгар, которая в своей замечательной книге «Tribal Nation» [Edgar 2004] рассматривает туркменов-коммунистов как деятелей, внесших реальный вклад в создание своей республики. Тем не менее, поскольку среди туркменов не было представителей дореволюционной интеллигенции, чаяния коммунистов туркменской национальности оказались строго определены ситуацией советского правления гораздо в большей степени, чем в случае Узбекистана.
[Закрыть]. В этой книге я предлагаю другую генеалогию зарождения нации в Средней Азии.
«Чагатаизм» и создание Узбекистана
Узбекистан возник в процессе национально-территориального размежевания в 1924 году, и все же он не был порождением партии или Советского государства. В советских условиях это, скорее, была победа национального проекта среднеазиатской мусульманской интеллигенции. Именно мусульманские интеллектуалы, а не советские этнографы были истинными создателями Узбекистана и узбекской нации.
Национальная идея пришла в Среднюю Азию задолго до революции, но именно революция, вроде бы открывшая бескрайние возможности, привела к тому, что в интеллигентской среде эта идея надолго стала средоточием страстей. Кроме того, революция изменила сами представления о нации. Как я подробно показал в другом месте, до 1917 года для джадидов понятие нации объединяло «мусульман Туркестана», то есть нация выделялась по конфессиональному признаку и была ограничена территориально [Khalid 1998: chap. 6]. Однако в ходе революционных событий представления джадидов стали быстро приобретать этническую окраску, поскольку их чрезвычайно увлекла идея тюркизма. Тюркизм, ориентированный на Туркестан (заметно отличающийся от «пантюркизма», ставшего своего рода жупелом советской и западной историографии), подразумевал, что все оседлое население Средней Азии является узбекским. Всю традицию исламской государственности, как и всю высокую культуру в Средней Азии, они приписывали узбекской нации. Золотым веком этой нации стало правление Тимуридов – время процветания высокой культуры на восточно-тюркском (чагатайском) языке. Для описания такого понимания узбекской нации я использую термин «чагатаизм»[20]20
В 1920-е годы этот термин использовался в пейоративном смысле теми, кто выступал с критикой этой идеи. Несмотря на этот «смысловой багаж», я считаю, что он хорошо подходит для описания фундаментальных претензий узбекской национальной идеи в том виде, как ее развивали джадиды.
[Закрыть]. Итак, «мусульман Туркестана» джадиды переосмыслили как узбеков, а чагатайский язык, обновленный и очищенный от иностранных слов, – как узбекский. При таком понимании узбекская нация имеет малое отношение к узбекским кочевникам под предводительством Шейбани-хана, которые вытеснили Тимуридов из Среднеазиатского Двуречья, поскольку она претендовала на мантию самих Тимуридов.
Революционная эпоха открыла целый ряд возможностей (все они в конце концов остались нереализованными) для осуществления среднеазиатского национального проекта: в ноябре 1917 года в Коканде было объявлено о создании автономного правительства Туркестана (см. об этом далее, в главе 2), в январе 1920 года Туркестан переименовали в Тюркскую Советскую Республику (см. главу 3), затем последовала попытка создания национальной республики в Бухаре (см. главу 4). За всеми этими проектами скрывалась чагатайская идея, однако именно национальное размежевание 1924 года дало наконец реальную возможность для объединения оседлого мусульманского населения Туркестана в единое политическое образование. В настоящей книге прослеживается процесс переосмысления и неожиданной реализации этого проекта в 1924 году.
Успешность чагатайского проекта повлияла и на представление о таджиках. Как я показываю в главе 9, большинство персидско-говорящих интеллектуалов в Средней Азии также были причастны к чагатайскому проекту, даже при том, что он зиждился на отрицании персидского среднеазиатского наследия. В отсутствие какой-либо мобилизации в интересах таджикского народа чагатайский проект был взят за основу в процессе размежевания. «Таджиков» стали выделять как остаточную категорию, в которую относили население самых глухих сельских районов Восточной Бухары, наименее склонное к ассимиляции. Только после создания Таджикистана некоторые таджикскоговорящие интеллектуалы стали отклоняться от чагатайского проекта, и новая таджикская интеллигенция начала борьбу за права таджикского языка и за расширение национальной республики. Через некоторое время в результате размежевания политика идентичности начала 1920-х годов оказалась заморожена. Нынешнее состояние Таджикистана можно осмыслить только в контексте триумфа чагатайского проекта в 1924 году.
Очевидно, что ситуация 1920-х годов в Средней Азии много говорит нам о сущности наций и национального проекта в целом. Рассматривая эти вопросы, я избегаю использовать термин «национализм», который считаю слишком широким и нагруженным пейоративными коннотациями, чтобы его можно было использовать в аналитических целях. Для большевиков и их политической полиции «национализм» был негативно направленной силой, действующей в интересах контрреволюционной буржуазии. Для многих персонажей этой книги обвинения в национализме оказались губительны. Такое подозрительное отношение в значительной мере сохранилось, и в языках постсоветского пространства национализм оказывается созвучен шовинизму. Я предпочитаю видеть в феномене национализма более тонкие различия. Я изучаю национальный проект среднеазиатских интеллектуалов, рожденный в пылу увлечения концепцией нации, в борьбе за ее создание. Эта борьба развернулась внутри предполагаемой нации с той же силой, что и вовне ее. Этот национальный проект был нацелен на «пробуждение» самосознания нации, на то, чтобы заставить ее помыслить о себе как о нации – словом, на то, чтобы ее национализировать. С этой целью национальный проект стремился также к преображению предполагаемой нации, к ее просвещению, оздоровлению, переустройству семейной жизни. Можно с уверенностью сказать, что все национальные движения действуют в координатах аутентичности и современности. Нация должна измениться, чтобы стать современной, чтобы обрести средства к следованию прогрессу и в результате укрепить свои силы и заявить свои претензии на место под солнцем. В то же время изменения объясняются необходимостью возвратить былое величие, которое позволит преодолеть тлетворное воздействие современности. В этой книге я прослеживаю пути, которыми интеллигенция шла к обоснованию нации[21]21
Особенно актуальными я считаю работы, собранные в издании [Intellectuals and the Articulation of the Nation 1999].
[Закрыть]. Я рассказываю о том, как разворачивалась борьба за нацию, а не о том, как ее в полной мере удалось сформировать (если такое вообще возможно). Нет никаких сомнений, что в период, о котором рассказывается в этой книге, предполагаемая нация оставалась преимущественно безразличной к национальному проекту или, скорее, оставалась в неведении относительно его, но от этого проект создания нации не становится ни менее важным, ни менее достойным исследования.
Если, как утверждает Парта Чаттерджи, национальное движение должно заявить о национальной суверенности коренного населения, прежде чем вовлекать колониальное государство в политическое противостояние, с тем чтобы добиться независимости, – значит, в Средней Азии до 1917 года это противостояние еще не закончилось [Chatterjee 1992]. В самом деле, большинству национальных движений приходится сражаться на двух фронтах: против внешнего врага (колонизатора) и против оппозиции в собственном социуме, где идея главенства нации должна одержать верх. Борьба против враждебных сил в собственном обществе нередко оказывается в большей мере решающей. Несомненно, так случилось и в Средней Азии. В 1917 году джадиды стремились (безуспешно) убедить свое общество в необходимости организоваться внутри национальных границ и передать им управление. На самом деле революция показалась джадидам такой привлекательной возможностью для перемен именно потому, что их позиции в собственном обществе были слабы. Однако задача поставить советские институты на службу себе казалась им очень трудной. По всем важным вопросам – будь то вопрос о школьном образовании или о положении женщин, о месте ислама в общественной жизни или о направлении развития новой литературы, – у большевиков и мусульманских интеллектуалов были совершенно разные представления. На протяжении большей части первого десятилетия советского правления партия не научилась контролировать ни своих собственных членов, ни персонал созданных ею учреждений. В 1926 году, когда она обрела некоторую уверенность в своей власти над регионом, она открыла так называемый идеологический фронт, с тем чтобы укрепить свой авторитет в собственных учреждениях и подтвердить идеологическую безупречность их миссии. Дореволюционную интеллигенцию начали вытеснять. Я считаю, что первая чистка среди местной национальной интеллигенции, произошедшая в 1929–1930 годах, стала важной вехой в процессе изгнания интеллигенции из политического процесса, а заодно и концом эпохи. Интеллигенция так и не стала государственной элитой, способной национализировать общество таким образом, как это сделали, например, Ататюрк и Реза-шах, или целый ряд центрально-европейских режимов в период между Первой и Второй мировыми войнами. Такое особенное положение национальной интеллигенции стало специфически советской особенностью узбекского национального проекта.
В то же время мы понимаем, насколько важна политическая арена для того, чтобы нация завоевала признание. Кто станет нацией, а кто останется просто группой населения – всегда вопрос признания. Узбекская нация возникла потому, что в местах, важных с политической точки зрения (в данном случае в различных советских государственных органах), существовало движение в поддержку этого проекта. Точно так же и Кыргызская, и Каракалпакская автономные республики возникли благодаря поддержке определенных кадров. С таджиками получилось иначе. И наоборот, если бы существовало национальное движение в поддержку сартов или кипчаков, карта Средней Азии сейчас выглядела бы иначе. В советском контексте – хотя и не только в советском – добиться признания существования нации было важнее, чем создать широкое народное национальное движение; оно предшествовало созданию национального самосознания у членов соответствующей нации. После обретения признания и территории нация могла добиться процветания. В ней формировались государственные структуры, заново кодифицированный и формализованный «национальный» язык, система национальных символов, национальная историография, самые разные общепринятые практики национального – и все они строились в соответствии с советской национальной политикой и с ресурсами Советского государства.
Тем не менее роль Советского государства легко преувеличить. Исследователи справедливо указывали на то, что советская политика в области культурного развития, которая боролась с неграмотностью, расширяла школьное образование на языках коренных народов и содействовала созданию новых учреждений для продуцирования культуры, стала важнейшей особенностью культурного ландшафта в юном Советском государстве[22]22
Самое подробное описание этой политики см. в работе [Мартин 2011].
[Закрыть]. Такие исследования вносят необходимые коррективы в устаревшие представления, сфокусированные исключительно на советских репрессиях против нерусских национальностей и усматривающие в национальной политике лишь прикрытие для русификации. В ряде прекрасных работ формирование национальных идентичностей в раннесоветский период рассматривается как результат советской национальной политики[23]23
См., например, [Edgar 2004; Grant 1995; îğmen 2012; Liber 1992; Loring 2008; O’Keeffe 2013; Слезкин 2008; Shneer 2004; Shternshis 2006].
[Закрыть]. Однако поскольку такие новые исследования рассматривают политику прежде всего в том виде, в котором ее обсуждали и формулировали центральные власти, они рискуют преувеличить роль Советского государства и представить его более милосердным, чем оно было, возможно, на самом деле. Я рассматриваю советскую национальную политику с точки зрения ее преимуществ для самых очевидных выгодоприобретателей. Новая культура не была творением Советского государства и уж точно не была его даром отсталым народам (вопреки заявлениям советской историографии и настойчивым утверждениям современных российских ученых). Она возникла в результате сложного взаимодействия между новым революционным государством и коренными культурными элитами, у которых было свое понимание сущности революции и советской власти. Коренные элиты часто оказывались недовольны своими возможностями; между тем советский режим и его органы политического контроля были одержимы идеей привлечь их на свою сторону (или же устранить их из общественной жизни). Советская политика в сфере культуры была и продуктивной, и деструктивной одновременно. Уничтожение коренной интеллигенции, которым завершается эта книга, неотделимо от достижений советского национального и культурного строительства.
Культурная революция
Идея нации была главной в культурном радикализме, охватившем среднеазиатскую интеллигенцию в эпоху русской революции. В годы, последовавшие за событиями 1917-го, джадиды во имя нации становились на всё более радикальные позиции. Нацию было необходимо просвещать и модернизировать, и при этом подавить внутреннюю реакцию. Требовалась не более и не менее чем революция сознания: среди населения следовало насаждать новые способы мышления и мировосприятия. Новая культура должна была возродиться из пепла старой. В десятилетие после революции культурная жизнь была отмечена серией мятежей – против авторитета сложившихся социальных элит, против эпистемологического порядка, на котором они зиждутся, против правил общественного поведения, против конвенций тюркоперсидской литературной традиции и даже против ислама. Подобный культурный радикализм интересующего нас периода редко оценивают по достоинству, поскольку свидетельства его кроются не в архивных документах, а в культурной продукции того времени.
Продукция эта, при всей ее значимости для современной узбекской культуры, не получила заслуженного внимания. В самом Узбекистане ее изучению всегда мешали политические причины. К 1937 году все основные деятели того времени оказались врагами народа или противниками советской власти. Многие были «реабилитированы» в политическом смысле (с них сняли уголовные обвинения), однако по состоянию на самые последние годы советского периода лишь немногим вернули заслуженное место в истории литературы республики. История литературы советского времени в основном продолжала обходить стороной сложности 1920-х годов и не замечать гигантов этого десятилетия, занимавших центральное место. Когда же СССР почил в бозе, возникла тенденция ударяться в противоположную крайность и превращать литературных деятелей 1920-х годов в национальных героев, в нравственных и культурных вождей узбекского народа. Такая позиция, помимо прочего, подразумевает недостаточный учет их противодействия традиции, а также их взаимных столкновений. Западные ученые, со своей стороны, слишком часто рассматривали эту литературу исключительно как средство политического протеста против советского правления и видели в ней лишь эзопов язык, в скрытом виде выражающий критику и неприятие [Allworth 2002]. Они так увлеклись чтением между строк и поиском зашифрованных политических посланий, что нередко не замечали истинного содержания этих строк. Литературоведы часто не принимают в расчет напряженную атмосферу этой эпохи, как и острые конфликты, раздиравшие среднеазиатское общество, и они нередко принимают критику среднеазиатского общества (важнейшая черта джадидизма начиная с момента его появления) за критику советских порядков. Когда в центре внимания – время больших внутренних потрясений, такое настойчивое понимание критики как направленной исключительно вовне, против «колонизатора», не имеет разумных оснований. В самом деле, преимущественное внимание к расшифровке предполагаемых политических посланий создавало даже препятствия для изучения технических аспектов литературы рассматриваемого периода, ее формальных и морфологических новшеств[24]24
Разумеется, есть исключения, однако они малочисленны и тем самым подтверждают правило; см. [Murphy 1980; Kleinmichel 1993].
[Закрыть].
Всё это вызывает сожаления, потому что именно в 1920-е появилась современная узбекская литература. Именно в это десятилетие возник жанр романа, процветала драматургия, а новые стили в поэзии видоизменили традиции, которые со временем утратили смысл. Без преувеличения можно сказать, что в 1920-е в Средней Азии свершилась настоящая культурная революция, которая заложила основы современной среднеазиатской культуры вплоть до настоящего времени. Настоящая книга посвящена в первую очередь этой культурной революции.
Следует пояснить, что термин «культурная революция» используется у меня совсем иначе, чем в англоязычной историографии СССР, которая, вслед за Шейлой Фицпатрик, применяет этот термин для обозначения совершенно конкретной кампании, которую партия вела в период 1929–1932 годов, чтобы захватить контроль над культурными и научными институтами [Fitzpatrick 1974; Fitzpatrick 1978]. Я имею в виду не «революцию сверху», а творческий взрыв снизу, который был обусловлен энтузиазмом, рожденным революцией. Создание Советами нового культурного поля было палкой о двух концах. Были созданы институты (сравнительно стабильная пресса, книгоиздание, институты поддержки исследований в области истории и этнографии), способные поддерживать культурное производство как вид профессиональной (оплачиваемой) деятельности, но в то же время возникли новые обязательства и новые средства контроля. Фактически, как мы увидим, до 1924 года советские институты культуры еще не сформировались, и культурное производство в значительной своей части осуществлялось за пределами советских институтов или параллельно их деятельности. «Чиғатой гурунги» («Чагатайская беседа»), литературный кружок, члены которого организовали в 1921 году первую Конференцию по языку и реформе орфографии, не был напрямую связан с государством, как и благотворительные общества, направлявшие студентов в 1922–1923 годах учиться за границу, или как «Друзья новой жизни» (см. об этом в главе 6). Все эти организации государство закрыло.
Культурное производство 1920-х годов дает прекрасное представление о радикализме того времени. Я ввожу в научный оборот ряд текстов, которые прежде не изучались. Я встраиваю их в более долгосрочные траектории различных течений модернизма, которыми мусульманский мир оказался исчерчен вдоль и поперек в десятилетия, предшествовавшие революции. Вплоть до 1917 года русские модели не оказывали практически никакого воздействия на культурное производство в Средней Азии, и только в середине 1920-х годов русские литературные и культурные влияния на среднеазиатскую культурную жизнь оказались значительными. Я всерьез принимал всё то, что было сказано в самих текстах. Я настаиваю на том, что их критику местного общества, его обычаев и традиций, а также консервативно настроенных оппонентов реформы следует понимать именно как критику, а не как зашифрованные выступления против русских людей или против советских порядков. В своих переводах, стремясь передать смысл текста, я склоняюсь к буквальности. Аналогичным образом, цитируя поэтические произведения, в своих переводах я вовсе не претендую на поэтичность. Во многих случаях поэтическая структура утрачивалась при переводе, и тогда, помимо перевода, я приводил также и текст оригинала.
Радикализм распространялся даже на ислам. Мы хорошо себе представляем советские кампании против ислама [Keller 2001][25]25
Также см. обзор в [Халид 2010: гл. 3].
[Закрыть], однако гораздо меньше мы знаем о спорах вокруг ислама, разгоревшихся в революционную эпоху среди мусульман. Тем не менее джадидизм с самого начала был движением за реформу ислама, а ислам на протяжении всего этого периода был предметом дискуссий. Помимо прочего, революция произвела значительное брожение в религиозной сфере, о чем речь пойдет в главе 7. Я покажу, что граница между реформаторским и революционным подходами вполне могла быть проницаемой, когда речь шла о критике традиционных порядков. Здесь, как и во многих других аспектах, у джадидов и большевиков могло быть много общего, хотя они сходились далеко не во всем.









































