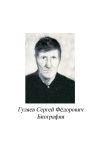Текст книги "Воскрешение мертвых"

Автор книги: Аким Волынский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
5. Ересиарх
Сейчас после смерти Николая Федоровича Федорова между двумя его главными учениками разгорелся довольно пламенный спор на существеннейшую тему его философии. У В. А. Кожевникова, посвятившего Федорову целую книгу, стали возникать сомнения относительно правильности и церковности нового учения. Н. П. Петерсон же, допуская частичные отступления Федорова от духа церкви, настаивал на том, что система его явится, во всяком случае, благотворным элементом в деле будущего православия, подлежащего естественной эволюции. Спор этот сам по себе настолько существенен и принципиален, что я посвящаю ему особую дополнительную главу. К сожалению, я не располагаю в настоящую минуту всеми необходимыми материалами. Третий том «Философии Общего Дела», за смертью Н. П. Петерсона, задержался изданием, но именно в этом томе впервые будет опубликована вся переписка Федорова не только с друзьями и единомышленниками, но и с различными посторонними лицами, приходившими в соприкосновение с волновавшими огромный круг людей идеями. В моем распоряжении имеются в рукописи все же два больших письма, отчетливо обрисовывающих позиции главных распространителей учения Федорова.
Прежде всего Петерсон устанавливает отношение Н. Ф. Федорова к центральному пункту кафолического вероучения – к вопросу о благодати. В книгах Федорова, утверждают противники, несомненно гениальных и несомненно завлекательных по своим благородным нахождениям, слишком «мало и бледно» говорится о благодатных эманациях Отца в мировом процессе. Остановлюсь здесь на минуту, еще не давая возражений Петерсона, чтобы напомнить вкратце сущность учения о благодати. Что такое благодать? В понятии церкви – это дар, и как дар она может испрашиваться, а отнюдь не зарабатываться. Сама вера есть благодать. Никаким изучением книг, никакой добродетельной жизнью она не может быть заслужена и добыта, если не будет ниспослана человеку особым актом божественного изволения. Такова строго церковная формулировка природы благодати как в православии, так и в католичестве, где только магический оттенок ее чувствуется живее. Такой точки зрения в системе Федорова, конечно, нет и быть не может. Петерсон всячески подчеркивает автономность человека в процессе строительства того спасения, о котором идет речь, при этом он совершенно уверен, что передает подлинные мысли своего учителя. Но, будучи автономным, человек в то же время является орудием Божества, орудием Отца, соучаствующего в строительстве всеобщего спасения. Петерсону кажется, что этого совершенно достаточно для сохранения в мире благодати. Даже явление самого Христа, передатчика благодати от Отца к человечеству, не лишает никого самостоятельности, не парализует ничьей самодеятельности. Вот точка зрения Федорова на благодать. Как уже сказано, в самих книгах Федорова мы подробных изложений этого вопроса не находим. Но Петерсон ссылается на свои личные разговоры с Федоровым, которых ни проверить, ни достаточно точно оценить мы не можем. По его словам, Федоров верил во все догматы христианской церкви и в благодатно-мистическое руководительство Бога на земле. «Кроме того, Николай Федорович не раз мне говорил, что мы можем не бояться такой катастрофы, как столкновение земли с каким-либо другим подобным телом, катастрофы, которая уничтожила бы землю и род разумных существ, потому что до этого не допустит Создатель мира, создавший мир не для гибели, а для того, чтобы он достиг совершенства. Выражена ли эта мысль в писаниях Николая Федоровича, я не знаю, но твердо помню эти слова его». Это более чем наивное место вызывает большие сомнения. Мысль прямо детская и недостойная сколько-нибудь глубокого ума. Странно, что Петерсон, своим пером написавший большую часть книг Федорова, не припомнит тех мест, которые подтвердили бы такое многозначительное суждение. Н. Ф. Федоров умел мыслить космически. При всем своем антропоцентризме философия его облетала мировые пространства, населяя людьми, воскрешенными предками, далекие планеты. Но здесь к наивному антропоцентризму присоединяется уже совершенно элементарный геоцентризм. Пылинка, земля объявляется предметом особой попечительной благодати творца вселенной и всех миров, долженствующего милостиво охранять эту пылинку от крушения на небесных путях. Ее эвентуальная гибель квалифицируется как катастрофа мироздания, в безумном предположении, что божественная мысль соизмерима с мыслью человека! Таких абсурдов в печатных трудах Федорова я не встречал. Решаюсь думать, что Петерсон в заботах о спасении системы своего учителя перед церковным ареопагом России приписал Федорову свои собственные недостаточно взвешенные богословские домыслы. Трансцендентного воскресенья в системе Федорова нет. Имеется только воскрешенье имманентное, трудовое, вооруженное всеми средствами научного арсенала.
Однако в церковной постановке вопроса о благодати, если отбросить раздражающий фермент особенной елейной стилистики и сантиментального магизма, улавливаются очертания мысли, бесконечно превышающей федоровскую догматику труда. История знания, история даже индуктивных наук, вся пронизана молниями творчества, которые и являются молниями благодати. Дар творчества есть эманация из неведомых источников, и дух его дышит повсюду. Благодатна прежде всего поэзия: в ней трепещет невидимая атмосфера, полная серебристых неуследимых звонов чудеснейших колокольчиков. Конечно, она рождается не в поте лица, совершаемые же поэзией акты воскрешенья, подчеркиваемые Федоровым, отнюдь не имеют трудового характера. Как тут все беззаботно весело и бездельно свято! И все даром! Благодатны изобразительные искусства. Музыка, кажется, состоит из одной только благодати: ее вдохновенье не укладывается даже ни в какие слова. Очарование музыки не описано сколько-нибудь адекватно никакими мастерами стиля. Но не только наука и искусство являются ареною благодати. Творческое вдохновение знает и реальная жизнь людей, мирная политика государств и даже ведение войн. Повсюду мы констатируем даровые эманации наряду с напряженным трудом обливающегося потом человечества.
Теперь вопрос о рационализме Н. Ф. Федорова. В цитируемом письме Н. П. Петерсона мы находим по этому поводу следующие решительные слова, тоже долженствующие передать будто бы мысли самого Федорова. «Также не имеет основания и незаконно разделение на разумное и сверхразумное: сверх разума ничего нет и быть не может. Разум все объемлет, все в себе заключает». Для Петерсона нет никаких чудес даже в евангельской мифологии, обволакивающей происхождение и жизнь Христа. Все естественно – и прохождение через запертые двери, и даже воскресенье. «Господь обладает высшим разумом, но и наш разум отличается от высшего только степенью». Сверхразума не существует: разница только количественная, а не качественная.
По этому пункту в ответном письме В. А. Кожевникова имеются твердые возражения, замкнутые в строгих пределах церковной догматики. Я не привожу их в цитатах, предпочитая рассматривать такого рода гносеологические вопросы вне каких бы то ни было вероисповедных оков. Разум в нашей телесной коробке, как я уже указывал выше, совершенно не адекватен разуму космическому, безмерно его превышающему не только количественно, но структурно и качественно. В процессе биологических трансформаций возможны в будущем самые неожиданные изменения нашего интеллекта. Он может сделаться сверхразумом по сравнению с теперешним разумом человека. Но и тогда он еще пребудет разумом по сравнению с сверхразумом современного ему космоса. В дальнейшем процессе, оперируя уже с бесконечными пространствами и временами, мы можем в нашем воображении допустить и такое состояние, когда разум человека, уже весь светлый и гармоничный, приблизится к чудесной адекватности, обусловливающей финальное спасение. Но в такие перспективы для целей даже отдаленного критического исследования заглядывать по меньшей мере не приходится. Во всяком случае, не в планах дельфинийского Аполлона можно обсуждать бранхидскую мудрость древних веков.
Н. П. Петерсон в заключение своего письма, обращенного к В. А. Кожевникову, сам соглашается, что рационалистическая насквозь система его учителя не может иметь успеха у представителей кафолического православия. Творческая автономия человека в ней слишком велика. Отцовская же эманация слишком мала. В эсхатологическом отношении открываются новые затруднения. Предстояло бы, по системе Федорова, допустить всеобщее спасенье людей, тогда как православная церковь ограничивает круг спасения только праведниками, приявшими мандат Христа. Все же прочие горят в вечном огне. Со своей стороны и неверующие отнесутся тоже сурово к учению, рационализм которого вылился в необычную форму, для большинства чрезвычайно подозрительную и временами отливающую для наивных судей безбрежным мистицизмом, именно там, где Федоров наиболее чист от всякой трансцендентной примеси. «Толкование христианства Николаем Федоровичем, – пишет Петерсон, – как учение ни на что другое, как на провал, и рассчитывать не может ни у церковно-верующих, ни у совершенно неверующих. Но не как учение, а как призыв к делу всеобщего спасения, оно может быть принято теми и другими». Классификация Петерсона предусматривает лишь людей церковного толка и просто неверующих. Но классификация эта слишком неполна. Есть целый круг людей, равно далеких от тех и от других и со своей стороны не приемлющих Федорова по особым своим основаниям.
Ответных возражений В. А. Кожевникова, как закованных в броню церковной догматики, я здесь не приводил, дав предпочтение моментам наивной, но живой и свободной человеческой логики Н. П. Петерсона. Петерсон принимает Федорова целиком – его теоретические основы и практический проект, не смущаясь тем, что в глазах православной церкви Федоров должен оказаться прельстителем и ересиархом.
6. «В отца место»
Пульс христианского богослужения бьется в литургии. Из просфоры вынимаются частицы, которые, будучи обозначены определенными именами, погружаются в животворящую кровь Христа. Это один из моментов сложного евхаристического тайнодействия, когда хлеб и вино после произнесения установленных слов претворяются в тело и кровь Христа. Для Федорова литургия является не чем иным, как прообразом воскрешенья мертвых в храмовой обстановке. Я сам видел довольно много лет тому назад весь церковный парад литургии в Мекке православия, в Пантелеймонской церкви на греческом Афоне, после долгой беседы на тему евхаристии с образованнейшим монахом о. Ксенофонтом, в миру кн. Вяземским. Не могу до сих пор совершенно освободиться [от] воспоминания о чудесном утре, от еще неокончательно улегшейся минутной бури, поднявшейся во мне в тот день. Обряд вынимания частиц происходит в этой церкви всенародно, при участии верующих, с называнием тут же имен почивших, с необыкновенной торжественностью и редким религиозным воодушевлением. Отчетливо помню разгоревшееся внутренним пламенем лицо священника, обходившего всех присутствовавших большою общею просфорою. Когда он стал приближаться ко мне, я пришел в смущение. В те времена я еще был восторженным поклонником жертвенной идеи евхаристии, и, казалось бы, что могло мне воспрепятствовать принять участие в этом символическом, церковно-театральном действии? И однако, в решительный момент что-то поднялось в моей душе и отвратило мое лицо от священника. Вероятно, не заметив этого движения, он прошел мимо меня. Что же, собственно, случилось? Насколько я ныне, спустя много лет трудов и размышлений на богословские темы, могу воскресить волновавшие меня чувства, я решаюсь сделать только одно допущение. Христианизированная жертвенность была мила моему уму. Я носился тогда с этой идеей не только в жизни, но и в литературных моих работах критико-философского характера. О‹тец› Ксенофонт с поднятым интересом слушал меня в памятную ночь, когда, опираясь на святоотеческие первоисточники, я излагал перед ним мое понимание предмета. А между тем, когда я оказался лицом к лицу с магическим таинством, что-то неприязненно дрогнуло во мне. Точно встали передо мною века иудейского рационализма, кристально-чистого и ясного, как горный воздух Синая, совершенно чуждого всякой театральности и шаманства, отвращающегося с ужасом от всякого колдовства и заклинательной поэзии. Мой тогдашний рефлекс, явившийся полным противоречием моим христологическим идеализациям, пафосу тех дней с оттенком мистического Грааля, я теперь оцениваю с интеллектуальною нежностью, как один из первых проблесков у меня гиперборейского духа.
Храмовую литургию Федоров считает подготовительным этапом для литургии вне-храмовой, именуемой самодержавием. «Дело самодержавия, – читаем мы в первом томе „Философии Общего Дела“, – есть дело священное, внехрамовая литургия, есть братотворение через усыновление для исполнения долга душеприказчества, а душеприказчество и есть сущность самодержавия». Царь восходит на престол, берет в свои руки бразды народного правления, становясь в отца и праотца место. Это решительный шаг к эмапсипации от юридических и экономических гипнозов, которыми полна жизнь конституционных государств, с их рознью и борьбою, столкновением классовых интересов, и возвращение к чистому источнику родства и патриархальности – по преданиям общих умерших отцов. «Самодержавие, – продолжает развивать свою мысль Федоров, – то есть власть, в отца место стоящая, явилось тотчас после смерти первого отца, соединив всех в единой воле, в едином желании, вызванном утратою, смертью». «Сыны умерших отцов думали, или чаяли, видеть во всем, что называлось утратами, то есть в голосе и слове (плач, причитания), во всяком действии и движении (совокупном) средство оживления. Отсюда и долг душеприказчества». Несмотря на некоторую запутанность стиля и неясность выражений, место это чрезвычайно знаменательно в системе Федорова. Замечательный мыслитель перевоплощается в плачущую бабу и приписывает ее причитаниям животворящую силу воскрешенья, которым баба и не задается. Вообще вся эта теория становления в отца и праотца место звучит на указанных страницах «Философии Общего Дела» вдохновенно надуманной мифологией самодержавия. Все, что не самодержавие, вся история Европы, вся многовековая тяжба народов с насильничеством всех видов и типов, все кровопролития во имя права и справедливости – все это, по мысли Федорова, только бунт сынов, оторвавшихся от отцов. Вся история мира является для Федорова сменою монархий, вне которых только шум и беспорядок. Я не хотел бы этой конспектной передачей политической философии Федорова унизить хотя бы и в малой мере его воззрений, находящих на некоторых страницах изложение, исполненное высокого красноречия. Поскольку в теорию эту вступает культ предков, элемент пирамидальной преемственности культуры, концепция горит и сияет непреходящим светом. Иногда это красноречие принимает такие грандиозные формы, что призрачность построения перестает сознаваться, утопая в глубоком восхищении безмерным размахом мысли. Так мы читаем: «Самодержавие есть хранитель нашего единства, не русского только, а вообще единства человеческого рода, ибо оно стоит в праотца место. Как ни называйте этого предка – Адам или Ной, согласно с верующими, или же, согласно с неверующими, общим безыменным предком арийцев, семитов, финно-монголов и проч., где ни помещайте его, в Эдеме или на Памире, – во всяком случае самодержец будет наместником его, этого праотца». Речь идет тут не просто о самодержце каком-нибудь, а о самодержце непременно русском, восседающем на московском престоле. «Как самодержец стоит в праотца место, так и Кремль Третьего Рима стоит в Памира или Эдема место, каковыми и были Вавилон и другие столицы Востока. Если исторически возможны еще сомнения относительно Памира как могилы или колыбели предка, праотца, то географически и особенно этнографически Памир есть несомненно центр, кровля мира, и весь Старый Свет, по общепринятой ныне географической номенклатуре, должно называть Памирским материком, как Западную Европу начинают называть Альпийским полуостровом, а Грецию можно назвать полуостровом Парнасским, причем исторически Альпийский полуостров есть восстановление или возрождение Парнасского, несколько лишь в большем виде».
Такова грандиозная иллюзия величайшего из апологетов самодержавия. Если допустить вместе с Федоровым, что Кремль должен быть признан стоящим в Памира место, то весь старый мир входит в сферу русского самодержавия, которое одно может и призвано творить священнейшую вне-храмовую литургию – «по-крестьянски, по-сельски, по-деревенски». Что касается Европы, этого Альпийского полуострова Памирского материка, то если бы там и утвердился где-нибудь абсолютизм, он был бы лишен всякой актуальной силы, ибо там нет православия, непременного условия собирания людей во имя воскрешенья. Там деспотический католицизм и вечно бунтующий протестантизм.
Мы уже говорили о том, что сын человеческий представляет собою не только повторение умершего отца. Являясь сам живым отцом, он вносит в мир прибавочную ценность нового творчества. Иначе мир застыл бы в стационарном положении. Сказанное как нельзя лучше применимо к федоровской концепции самодержавия. Кто в самом деле должен управлять государством? Отец или сын? Должен ли сын повторять мракобесие отца или же он должен сделаться отцом новых культурных благ? Должен ли Аменофис IV, певец гиперборейского солнца в его чистоте, повторить какого-нибудь из Рамзесов? Мне кажется, не подлежит сомнению, что, не растрачивая в мотовстве или озорстве ценных наследств прошлого, сын человеческий должен прежде всего явиться сам отцом. Это будет отец живой, а не мертвый, инициатор, а не только душеприказчик, как этого хочет Федоров. Но тогда сын приемлет и конституцию, и парламент, и республику. Управление становится делом все более и более сложным. Оно начинает распадаться между бесчисленными специалистами, столь же профессионально осведомленными, как и специалисты всех других областей жизни. Священные монархии уже давно бледнеют на наших глазах. Почему? Отнюдь не потому, что Европа блудно забывает своих отцов и бессмысленно бунтует, но потому, что к пассивному поминовению отцов присоединилось живое, действенное служение, и заботливый глаз сына человеческого, имманентного отца, увидел то, чего не видели прошедшие поколения. Еще за истекшие века там-сям мелькают на арене истории сияющие фигуры отдельных венценосцев. Но даже в пределах одного управления, часто уже на глазах современников, блекнет престиж почти каждого монарха. Так это было с Людовиком XIV при закате его дней. Преемники его, промотавшие великое наследство, от орлеанского герцога до Людовика XV, уже были какими-то гальванизированными мумиями в порфире. Монархия блекнет. В одной стране за другой летят короны и троны. В гордой Англии король уже давно царствует, но не управляет. Он хотел было и совсем уйти в тень, но консервативная страна сохранила эту уже безвредную фигуру как объединительную вывеску метрополии и полезную куклу в дипломатических сношениях. Новейшая республика освободившейся Норвегии воскрешает Гакона. Но новый король стоит минутным полезным манекеном и бесшумно исчезает, как только изменится обстановка международной жизни. Республика ни в каком отношении не является профанацией культа отцов. Она, несомненно, создание сына человеческого и проистекает из того же светлого источника, как и монархия. Свята в прошлом монархия – свята и республика.
Конечно, все политические фракции, весь сложный переплет законодательных компромиссов, все разнообразные усилия и организации государственности на путях новой и новейшей истории – все это тот же дельфинийский Аполлон, расстреливающий тучи. Тут и старые троны, и интернациональный конгресс. Но вдумчивый глаз философа сквозь фигуру дельфийского механика и работника прозревает иррациональную мудрость Аполлона бранхидского, который все этапы человеческих мук и терзаний, все безмерное прошлое и все безмерное будущее, связует живоносною нитью преемственности.
7. Третий Рим
«Титул царский заключает в себе сокращенно всю этнографию, всю географию и всю историю не только русскую, но и включает в себя более и более всемирную». Таковы вступительные слова Федорова к рассуждениям о размерах русской государственности и ее мировом значении. Свой анализ Федоров начинает с декоративных моментов, переходя затем к рассмотрению вопроса по существу. «Смысл или философия этой всемирной истории, – продолжает он, – может быть выражен одним словом: умиротворение или собирание земель и народов, собирание, продолжающееся и еще не оконченное по внешнему пространству, ни по внутреннему содержанию или глубине, то есть нет еще ни полного собирания, ни совершенного умиротворения. Самодержец, царь, обладатель, повелитель – все эти наименования, заключающиеся в титуле, сливаются и завершаются в одном слове: „миротворец“». Как задача первого Рима была завоевание мира и владычество над ним, так задача Рима III, первопрестольной Москвы, есть умиротворение народов. Так высоко сразу же поднимает миссию русского народа Федоров! Весь мир собран под кровлей Кремля, чтобы творить вне-храмовую литургию, Федоров с большим эмфазом делает обзор тех исторических фактов, которые, врастая в декоративный документ, все более и более расширяли значение русского царства на земле. В 1828 году в царский титул внесена армянская область. Какое великое событие это в его глазах! Армения, древнее Урарту, громоотвод Ашура от северного израильского царства. Если бы не Урарту, царство это пало бы значительно раньше, чем это случилось в действительности, и народ израильский, уже густая смесь хамитических и вавилоно-мидийских элементов, распространился бы по южным скифо-сарматским долинам задолго до своего исторического срока. Впоследствии, заключив союз с Вавилоном, Урарту содействовало падению царства иудейского, твердыни и оплота семитического духа на Востоке. Теперь Урарту входит в состав русского государства. Так гадает Федоров. Но что, собственно, обозначает это присоединение Армянского царства к русской короне? Духовно это включение не означает ничего. Наружно это только один лишний предмет в богатом этнографическом кабинете империи. В кровообращение русской души Армения не вошла ни единым шариком. Что же касается великого семитического наследства, с которым соприкоснулось Урарту, то крохи его Россия получила не с армянских гор. Вообще же это яфетидское племя играет в организме русского государства совершенно миниатюрную роль даровитых коммерсантов, конкурирующих с не менее даровитыми соперниками. «Царь туркестанский, то есть царь или победитель над преемниками туранского Афрасиаба, царь туркестанский, этот новый титул царя русского, еще не есть последнее слово титула», – читаем мы дальше в статье Федорова, в свое время поднявшей большой шум в русской печати. Здесь политическое визионерство переходит в настоящую мегаломанию. Титул растет и растет до бесконечности! Так ли далеко отсюда до включения в титул Франции, Испании, всех стран Альпийского полуострова, тем более, что вопрос о Памире в те дни, когда писалась статья Федорова, уже стоял в порядке дня. «Недавно заключенная конвенция с Англиею, – говорит Федоров, – уже указывает на новый титул, титул [царя] северного Памира. А какое глубокое значение имеет новое присоединение, если под Памиром, согласно с новейшими народными преданиями, разуметь прародину арийского племени и могилу предков всех арийских, а может быть, и не-арийских народов. Тогда царь наш становится в отца или праотца место не одного племени славян, то есть его долг смотреть и на другие народы, как на не-чуждые себе, как и смотрел царь-миротворец Александр III». На вершинах священного Памира, библейского Эдема, Федорову рисуется обсерватория, сооруженная русскими руками. В прозрачном воздухе обсерватория эта наблюдает небо и землю и, может быть, оттуда направляет куда следует благотворные воздушные токи всемирной регуляции. С тех пор, однако, как возрос сын человеческий, этот имманентный отец! Он опять занят Памиром, северной Индией, Афганистаном, но уже в других планах. Когда я пишу эти строки, я слышу шум уличных демонстраций, долетающих до меня через закрытые окна. Сын человеческий остановлен в своих заботах о Памире с неожиданной стороны, со стороны обеспокоенных повелителей современной Индии. Мечта Федорова об умиротворении народов с Памира заменена другой всемирной мечтой, и на броненосцах империалистической Англии спешно осматривают пороховые погреба! «Внешнему выражению царского титула, – мечтает дальше Федоров, – нужно придать нравственное значение». Оно не есть «выражение грозной силы, обнявшей шестую часть мира и грозящей остальным пяти частям». Странная вещь: никому в мире царская власть, во всех фазах ее развития, не внушала ни добрых чувств, ни доверия. Федоров приписывает ей миротворческие задачи, от которых были всегда далеки захватные московские князья. И гигантским крыльям Российской империи всегда соответствовал хищный и часто окровавленный клюв. Какой в самом деле миротворец Александр III, с осторожной паузой своего царствования и с неугомонной афганистанской мечтой? А в пределах самой России чем был этот человек? Он мог из рук своего убитого отца передать России свободу, а вместо того он наполнил свои дни затаенной неутолимой местью. Медный всадник Петра смотрит в даль европейских морей, а грузный царь на коне Трубецкого смотрит в Азию тупым взглядом монгольского Чингисхана!
Фантазия Федорова разыгрывается. «Картину мирного разоружения или умиротворения нужно представить на наружных стенах музея, оставив стены Кремля для чего-либо еще более высокого. На стенах Кремля должна быть представлена замена военного оружия другим оружием, избавляющим род человеческий от бед, производимых слепою силою, чтобы оно было видимо всеми, воспитывало бы для мира народ, призванный под видом воинской повинности к разрешению мирового вопроса». Мечты свои Федоров заключает тезисом: «Ни царь для народа, ни народ для царя, а царь вместе с народом становится исполнителем воли Бога в деле Божьем». В другом месте, восставая на клеветников русского народа, Федоров разражается бурной филиппикой. Русский народ – это великий народ. Он принял крещение в общей купели. Он способен к величайшему единодушию в мире. Он созидает храмы в один день. Все у него «сообща, помочами и толоками». Такой народ и спасение личное полагает в спасении целого мира. «Он и лечиться, как и креститься, не хочет в одиночку». Создав призрачный образ царя-миротворца, Федоров создает и призрачное представление о бесконечно единодушном народе, призванном к насаждению и утверждению всемирной солидарности. А между тем за вычетом переживаемых дней и последних годов нельзя назвать эпоху в истории России, когда народ этот занимался делом гармонизации мира на общечеловеческих началах. В самой России – всегда струи, течения и веяния, всегда раскол и полемика, от побоищ на новгородском мосту до дней Аракчеева и Аскоченского. Вечная грызня и поедание друг друга. В канцеляриях всеобщее подсиживание. Около каждого местного помпадура – интригующая придворная шваль. В клубах единодушие держится еще у карт, когда оно и там не прерывается криками и драками. В общественных собраниях злорадное прокатывание на вороных лицемерно предложенных кандидатов к баллотировке. Почти каждая партия уже в стадии рождения распылена на фракции. В литературе и журналистике травля и взаимные преследования доходят до неприличия. Для больших империалистических авантюр всю эту разноголосицу мог объединять только железный кулак деспотизма. Индивидуализм русского народа всегда пребывал в звериной стадии и был бесконечно далек от мечтательной гармонии и идеализированной солидарности, о которой с таким потрясающим восхищением говорит Федоров.
Но может быть, этот народ, раздираясь внутри, вносил в окрестные страны что-нибудь человечное и высокое? В смысле политическом – ничуть. Он только порабощал своей территории соседние слабые государства, деля их с хищными королями и императорами. Русифицировать их он не мог, будучи ниже их по культуре, и если некоторые могли думать, что народу русскому удалась цивилизация киргизов, то и это допущение следует принять лишь с очень большими оговорками. Правда, могут возразить, что русский народ освобождал западных славян. Но дипломатия царей меньше всего думала о самих славянах, народ же с трудом и неохотой отрывался от сохи для спасения посторонних ему братушек.
Остается литература. В политической и философской ее части – от времен Новикова и Радищева – мы были только компиляторами западных мыслителей, и все светлые идеи гуманизма представлены в России лишь в трудах второго разбора. Конечно, ни Лавров, ни Чернышевский или Михайловский, ни даже Плеханов не коренятся в самой России. Европейская книжность тут лежит основным фундаментом, библией, которою питаются отечественные апологеты и гомилетики. Само славянофильство было вскормлено германской философией, и над колыбелью русского самосознания стояли немцы Даль, Востоков, Орест Миллер.
Что же касается литературы художественной с ее подлинными гениями, то тут хотя и мелькают черты священничества по чину Мелхиседека, но только на некоторых страницах двух-трех ее титанов. Мы не дали миру даже Шпильгагена, ибо смехотворною представляется мысль о переводе Михайлова-Шеллера с целями гуманистической агитации на европейские языки. Что бы это было, если бы «Гнилые болота», шедевр его искусства, стали комментироваться в Лондоне! Очевидно – никакого заражения умов. Но если даже Шпильгаген не удался нам в области беллетристической пропаганды, то Диккенс с его реформой тюрьм сияет нам милой далекой планетой, а Виктор Гюго высится перед нашими глазами, как собор Парижской Богоматери! Не здесь, не в этой области наши лавры. То, что принято в европейский Пантеон из нашей художественной литературы, не имеет ясно выраженного всемирно-политического содержания. Решительно не здесь наши лавры! Но справедливость обязывает меня сказать, что Федоров, увлекаясь призрачными лаврами России на арене мира, отнюдь не был при этом шовинистом. Его душа, алкавшая и жаждавшая вселенской правды, только искала обличил для своих грандиозных идей. И дело сына человеческого, приняв наследственный капитал федоровских воззрений, внести его в общее достояние с прибавочной ценностью возросшей души.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.