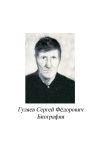Текст книги "Воскрешение мертвых"

Автор книги: Аким Волынский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
8. Птоломеевское искусство
Одна мысль в философской системе Федорова встречает во мне радостное присоединение. Н. Ф. Федоров указывает на то, что наука в своем прогрессивном росте давно уже вступила на коперниковский путь, тогда как искусство до сих пор пребывает в планах Птоломея. Для науки Земля уже давно не центр Вселенной, а лишь небесная пылинка в составе других величин. Искусство же все еще живет иллюзиями верха и низа, [оно] не только геоцентрично, но не ощущает даже самой шаровидной формы земли, при сознании которой естественно опрокидываются обычные наши представления. Вот почему современное искусство, строясь на кажущемся виде Вселенной, создает не живые, а мертвые подобия жизни. А между тем с тех пор, как человек принял вертикальное положение, равно существующее в своем направлении и для меня, и для моего антипода, все представление мира для него должно было измениться и все его творчество должно было облечься в другие формы. Существующее творчество стелется по земле, тяготея к горизонтам. А тело и дух уже давно вертикальны и какими-то указующими перстами глядят к небу. Необходимо не только понять, но и почувствовать звезды как земли и землю – как небесное тело. Именно этого не сделало до сих пор искусство, и потому Федоров называет его птоломеевским. Только отдельные поэты начинают здесь и там вступать на коперниковский путь, например Сюлли-Прюдом или румынский поэт Эминеску. У поэтов этих размах душевной лирики становится иногда космичным. У русских же поэтов, с пленительным Фетом в центре, звезды – что золотые гвоздики на лазоревом бархате и – в лучшем случае – мигающие лампады на воздушной тверди! Эти лампады только символически призываются для воздействия на нашу психику. Но живое чувство бесконечности у большинства наших лириков почти отсутствует, не питается непосредственными астрономическими гипнозами. В этом отношении поэзия как бы пребывает еще на рудиментарной ступени, сама тешась и почти любуясь такой преднамеренной отсталостью. Но и все другие виды искусств, за исключением некоторых родов архитектуры, особенно готической, влачат существование все еще в птоломеевских иллюзиях и низинах. Душа не звездится. Воображение не обезземилось еще до сих пор, несмотря на Коперника и Канта, несмотря на спектральный анализ, на карты Марса и Луны. Свет брезжит для современного человека все из той же скважины, тогда как для научной мысли уже давно открыт светоносный космос. Солнца горят в беспространственных сферах бесконечно праздничной иллюминацией, а душа даже у больших художников замкнулась в земных туманах. Даже Тютчев не решается шевельнуть древний хаос из темного страха перед ослепительными бесконечностями.
Разрешение указанного противоречия между наукою и искусством Н. Ф. Федоров считает делом чрезвычайной важности. «Коперниканское мировоззрение, – читаем мы во втором томе „Философии Общего Дела“, – имеет то общее с мировоззрением христианским, что оба они признаются высшими истинами, но, несмотря на такое признание, ни то ни другое в жизнь не проникли». Нравственное состояние мира остается до сих пор значительно ниже того уровня, на который хотела бы его поставить христианская мысль. «Точно так же до сих пор в жизни продолжают руководствоваться птоломеевским мировоззрением до того, что сами астрономы принуждены говорить о восхождении солнца, луны и звезд. Можно думать, что нравственное устройство мира станет христианским лишь тогда, когда не мысль только, не одно мировоззрение, но и само искусство, то есть дело, станет коперниканским».
В настоящее время птоломеевское искусство бессознательно, может быть, для самого себя, занимается воссозданием всего исчезающего. Человек умер, он лежит горизонтально в земле. Искусство ставит его вертикально в своем памятнике. Храмы – эти вместилища всех искусств – являются подобиями кажущегося мироздания, с его землею и небом, в их птоломеевских разграничениях, с проблесками будущих космических воскресений, представленных символически. Земля тут открывает свои могилы, а в иератическом небе воскресают отцы. Не только во фресках на стенах, в рельефах и статуях, в парадных гробницах и капеллах, но и в самой церковной службе, в возглашениях текстов из поэтических книг, наконец, в фимиаме и музыке песнопения восстанавливается отлетевшее священное прошлое. И все-таки это только символ, только храмовая репетиция, храмовая литургия, готовящая, по мысли Федорова, пути подлинного воскрешения. Перенесите искусство из мира призрачных подобий в коперниковское лицезрение космоса, в созерцание нетленного великолепия действительно реального мира, и мы получим иной вид творчества, иные расширенные храмы с перестроенными по иному мирами. И такое искусство будет находиться уже в гармонии с внехрамовыми литургиями, которые составляют истинный труд человечества на всех его исторических путях. В птоломеевской системе присутствует вечный страх падения тел, наивное стремление к опорам, к величественным кариатидам и атлантам, несущим бремя мира. Непобедимый ужас перед срывом вниз отличает младенческую мысль и живет в ее искусстве. У Коперника нет никаких падений, ему не нужны никакие подпорки. Все тела поддерживают друг друга взаимным притяжением в системе всеобщего динамического равновесия. Детская мысль боится падения. В ее представлении падать можно только вниз. Но именно низа и верха нет у Коперника, так что и падать-то некуда. Есть только движение и покой, гарантированный равновесием.
Все эти представления в переводе на язык эстетики и морали знаменуют величайшее освобождение человеческого духа. Где до сих пор была узкая ограниченность, там теперь беспредельный простор. Где были темные страхи падения, там теперь светлая уверенность уравновешенных сил. Все многоэтажные надстройки Данте кажутся освобожденному духу такими же младенческими, как трехэтажный средневековый театр, где верхний этаж есть небо, средний – земля, а нижний – преисподняя. Вот чистый тип пто-ломеевского искусства! Остроумно и гениально вскрывает Федоров его природу, указывая ему другие пути. К сожалению, страницы первого и второго тома «Философии Общего Дела», на которых изложено это замечательное воззрение, загромождены ненужными вариантами, бедны примерами и лишены стилистической ясности. Все это, может быть, объясняется тем, что мысли Федорова излагаются здесь не им самим, но подбираются по разным случаям с пиететом его верными учениками и затем мозаично слагаются в логические конгломераты. При этом следует отметить, что Петерсон сам по себе не блещет оригинальностью, Кожевников слишком закован в свои догматические доспехи, а оба вместе, даже при склонности Кожевникова к версификации, имеют лишь отдаленное отношение к искусству.
Независимо от этого во всех блестящих полетах своих в области искусства Федоров, по некоторой гениальной маниакальности своей, сам ставит пределы беспредельному. Призывая искусство всецело служить труду воскрешенья мертвых, он делает его хотя и верховно-утилитарным, но все же не безгранично свободным, каковым оно является по самой природе своей. Все-таки это шоры. Как бы ни казалась та или другая гигантская человеческая цель неопровержимою, она должна быть поставлена перед искусством как указание его пути. Глаза искусства смотрят в безбрежные пространства по всем сторонам, как Божья колесница Иезекииля. Они тонут в эфирных глубинах и не выносят никаких преград. Из птоломеевского искусство должно стать коперниковским. Это несомненно. Но в этой высокой стадии оно должно сделаться именно космическим и смотреть вперед без антропоцентрических стекол, не глазами Аполлона Дельфинийского, а духовным зрением Аполлона Бранхидского.
9. Воскрешение и воскресение
Целый ряд мест в обоих томах «Философии Общего Дела» передает нам безбрежную фантазию Федорова относительно воскрешенья мертвых с разных сторон. «Только в полном своем составе, в совокупности всех поколений, род человеческий может войти в обещанное ему единство, в общение с триединым существом, войти в него как бы в свой кадр». Тут Федоров под полным составом человечества разумеет очевидным образом поколения современные и поколения прошедшие, ставшие живыми. Только в таком своем составе роду человеческому предрекается непосредственное сочетание с Богом. Таким образом, религиозный момент в жизни людей обусловлен грядущим воскрешеньем. Самое воскрешенье, выход из могил, рисуется у Федорова «освобождением от гнета внешней слепой силы», делающего человека «не тем, что он есть по своей нравственной природе». Воскрешенье возвратит человеку ту полноту моральных и интеллектуальных сил, которые заложены в его потенции, как в бутоне. В каждый данный момент исторического процесса человечество занимает определенную ступень на лестнице восхождения. По мысли Федорова, воскрешение дает человеку всю предреченную ему осиянность. Думая на темы воскрешенья в планах Федорова, я однажды записал на полях его книги следующее возражение: «Если люди воскреснут, не имея прибавочной ценности в преемственном фонде эпох, то спрашивается, как будут они ориентироваться в современности и как будут говорить с равными им по уму, на каком языке идеи? Говорящий Платон поймет ли Канта, а Гераклит Темный из Эфеса поймет ли Гегеля?» В таком же духе возражал однажды Федорову и Вл. Соловьев, как я узнаю об этом из ненапечатанной рукописи Петерсона, лежащей предо мною. Так в одном письме Соловьева к Н. Ф. Федорову мы читаем: «Простое физическое воскресение умерших само по себе не может быть целью. Воскресить их в том состоянии, в каком они стремятся пожрать друг друга, воскресить человечество на степени каннибализма было бы и невозможно, и совершенно нежелательно». Сбоку против этих слов Вл. Соловьева было сделано рукою Федорова следующее замечание: «Воскрешать каннибализм, то есть воскрешать смерть! Вот нелепость!» «Значит цель, – читаем мы дальше у Соловьева, – не есть простое воскресение личного состава человечества, а восстановление его в должном виде, именно в таком состоянии, в котором все части его и отдельные единицы не исключают и не сменяют, а напротив – сохраняют и восполняют друг друга». Против этого места рукою Н. Ф. Федорова опять начертано: «Против кого пишете, нельзя и понять». Не подлежит сомнению, что церковник Соловьев, думавший о прославленном теле, не расходился в этом пункте с московским мудрецом. Речь идет именно о теле осиянном, расцветшем, высветленном насквозь, преображенном и пересоздавшемся во всех частях. Человек войдет в универсальную стихию идей настолько полно, что исчезнут, растают перегородки, отделявшие друг от друга разные языки и способы выражения мыслей, человеку станет доступно все на свете, «все небесные пространства, все небесные миры», потому что он будет воссоздан из своих «самых первоначальных веществ, атомов, молекул». В таком составе он будет способен жить «во всех средах, принимать всякую форму и быть в гостях у всех поколений, от самых древнейших до самых новейших, во всех мирах, как самых отдаленных, так и самых близких, управляемых всеми воскрешенными поколениями». Хронологию воскрешенья Федоров представляет себе следующим образом. Первый воскрешенный будет воскрешен, по всей вероятности, почти тотчас же после смерти, едва успев умереть. За ним последуют те, которые «менее отдались тленью», и каждый новый опыт в этом направлении будет облегчать дальнейшие шаги. Последовательные воскрешенья дойдут наконец до Адама, до первого умершего. «Первому сыну человеческому будет легче всех восстановить его отца, отца всех людей», так как он будет находиться во всеоружии накопленных человечеством средств воскрешенья и пользоваться сотрудничеством всего воскресшего человечества.
Так восстановляется мысль Н. Ф. Федорова на эту фантастическую, грандиозную тему не только по книгам его, проредактированным Петерсоном и Кожевниковым, но и по наброскам воспоминаний, появившихся в разных изданиях после его смерти. Имеется, между прочим, превосходный в этом отношении документ: беседа Сергея Бартенева сначала с одним из учеников Федорова, с Иваном Михайловичем Ивакиным, а затем и с самим Федоровым, выразительно передающая весь почти фанатический размах учителя по этому вопросу. Конечно, концепция Федорова величественна. Однако именно чистота и непосредственность этой концепции, как и всякой новорожденной оригинальной мысли, сопрягаются с большою наивностью. Но это только заключительный аккорд в системе, наивно величественной не только в отдельных своих частях, но и в целом.
Прежде всего идея сына человеческого взята Н. Ф. Федоровым в исключительном смысле слова. Это сын человеческий в буквальном, телесно-эмбриональном значении физиологической наследственности. Это плоть от плоти. Федоров имеет за себя при этом Новый Завет, но лишь в его эллинистическом переводе позднейшей смешанной формации. Восточное выражение «бен-сын» – не значит «сын» в буквальном смысле слова. Метафорически это значит человек с каким-нибудь ближайшим к нему атрибутом. Еврей – это бен-Иегуда, бен-Израиль, все же еврейское племя – это бени-сыны – в широчайшем смысле слова, как некая духовная среда. Немец – это бен-Ашкиназ, испанец – бен-Сефарди, француз – бен-Цорфат. Что же касается библейского выражения «бен-Адам», неправильно переведенного на греческий язык, без свойственного ему оттенка духовности, то оно обозначает просто человека в противовес существам иной породы. В греческом ὑιός подчеркивается элемент фамильного родства, тогда как в оригинале дается только элемент родства духовного, родства с людьми в широком смысле слова, с человечеством в плоскости гуманизма, без фамильной келейности и близости. Выражение это у Иезекииля не устанавливает родства кого-либо даже с Израилем. Это простое обозначение принадлежности к человеческому роду, нечто вроде Homo Sapiens, универсальное наименование. Таково духовное самосознание еврейского народа. Он мыслит себя частью человеческого рода, а не национально-племенной единицею. Соломон шел в этом отношении впереди тех позднейших времен, когда такое понимание уже начало омрачаться национальным фанатизмом. По Соломону, близкий, близкий по духу сосед, лучше чем далекий брат.
Но в Евангелии имеются и другие выражения, сопрягаемые с словом «бен». Сын божий – это бен-Элогим, сын Всевышнего – это бен-Эльон. Так, по крайней мере, переводит эти слова на древне-халдейский, арамейский язык Франц Делич (1885) и на древнееврейский Залкинсон (изд. 1891). Но что значит бен-Элогим? По-греческому тексту – это до наивности, унаследованной веками, прямой сын божий. Однако иудейское, природно-филологическое понимание этого слова имеет совсем другое значение Элогим – это множественное число от Элога. Множественное число от некоторых слов обозначает только экстенсивность их значения, огромность масштаба их применения. Мей – вода, Майим – это воды, океан, вся водная стихия в целом, все массы вод на земле и в тучах. Таким образом, Элогим – это, в сущности, то же, что Элога, но с подчеркнутым величием значения и применения этого понятия. В Библии бени-Элогим значит народ божий. В Генезисе под этим выражением обозначаются ангелы божий и какие-то мифологические титаны. Понятие божественности и святости в церковном смысле слова при этом совершенно исключается. Во всяком случае, это не сыновья Бога в буквальном смысле слова, как это естественно понимается по вульгаризированному греческому тексту Нового Завета. Если в выражении «бен-Адам» подчеркивается принадлежность человека к определенному зоологическому типу, то в выражении «бен-Элогим» выдвигается вперед духовно-гениальная, интеллектуально-возвышенная черта, вне всякого родства с самим Богом в смысле генетическом. Между прочим, еврейство называет себя также бени-Микра: сыны книги, сыны знания. Как это безмерно далеко от пафоса кровного родства, воспеваемого Федоровым, и как это ослепительно прекрасно по сравнению с кладбищенской поэзией Федорова! Тут веет солнцем и жизнью, а там плакучая ива на всемирном погосте. Таков же смысл и других выражений в новозаветных текстах, переведенных на еврейский язык и тем освобожденных от ханаанских примесей. Сын Всевышнего, бен-Эльон, – это просто человек выдающейся силы и таланта – Вашингтон, Франклин, Александр Македонский или Наполеон. Выражение «Мешиах Элогим», ὁ Χριστός τοῦ θεοῦ значит божественный посланник в самом широком, чуть ли ни космическом понятии этого слова. Наконец, малхос Элогим, царство божье, представляет собою широчайший синтез осуществленных утопий морального характера.
Вообще, необходимо отметить, что, беря свое центральное понятие о сынах человеческих из европейских новозаветных воззрений, Н. Ф. Федоров придает ему ограниченное значение. Между текстом арамейским и текстом греческим – целая бездна. Христос же говорил на арамейском языке, так что приписывать этой насквозь мифологической фигуре воззрения с ограниченным масштабом нет никаких реальных оснований и, кроме того, означало бы окончательный искусственный отрыв от иудейских корней. Это значило бы оторвать все Евангелие от тех монистических основ, которые брежжут сквозь тьму веков как дальние чистые воспоминания о первоначальной гиперборейской общности всего человечества.
Переходим ко второму пункту в системе Федорова, прямо примыкающему к идее сына человеческого, в его физиологически суженной трактовке. У еврея нет культа предков, как и нет связанного с ним культа святых. Элемент поклонения заменен элементом восхищения и восхваления. Сама религия предписывает встать перед старшим из чувства почтения – не больше. Что нет у еврея культа родства, ни живого, ни мертвого, видно, между прочим, из того, что учитель выше родителя. Если в плену находятся отец и учитель, выкупить надо раньше учителя. Даже если иноверец был моим учителем, то он уже для меня – по Талмуду – выше отца. Вообще, никакого фетишизма. Если я выучился у кого-нибудь хотя одной букве алфавита, то он выше для меня отца, у которого я ничему не научился. Ему я обязан большим почтеньем, чем родившему меня отцу. Что же касается обрядностей культа, то они имеют характер скорее каббалистический: это замаливание перед Богом грехов покойников и облегчение им возможности достигнуть вечного покоя. Связи имманентной с покойником, по иудейскому воззрению, не существует, тут нет ни lares, ни mânes римской теодицеи. Возносить молитвы с просьбою к покойникам не в духе иудаизма. Еврейский Николай Угодник скорее сам нуждается в молитвах живущих потомков. Если же евреи и нарекают именами умерших родственников своих новорожденных, то этим имеется в виду не столько акт увековечения, сколько акт желательного предзнаменования судьбы новорожденного. Походил бы он своею судьбою на судьбу предка, имя которого ему дается! Это практическое оправдание афоризма «Nomen est omen».
Н. Ф. Федоров называет всех покойников нашими отцами. Отцы вместе с сынами человеческими, объединенные духом знания и культуры, образуют на земле троичность, прообразом которой он считает пресвят. Троицу в церковной теодицее. В иудейском миросозерцании все это безгранично глубже и теснее связано не только с прошлым, но и с грядущим ростом человеческого самосознания. В молитвах своих евреи употребляют слово «отец»: «наш отец – наш царь, наш отец – на небе». Но повсюду слово «отец» имеет аллегорический смысл. Самое представление о Боге-Отце сравнительно недавнего происхождения, сложилось в период после вавилоно-персидского плена. Оно имеется в литургических книгах, восходящих к эпохе Эздры и Неемии, как представление халдео-зенд-авестское по духу и типу своему. Впервые оно появляется в книгах Иезекииля и Даниила. Чистая же Библия, слагавшаяся на заре еврейской истории, имеет только отвлеченного Бога. Моисей не вывез из Египта ни одного мифологического представления, вероятно, потому именно, что в нем еще не отзвучали предания гиперборейской старины. Вот настоящий карнейский Аполлон, вождь народов, воинственная фанфара праарийского творческого духа, звуки которой прорываются в отдельных звеньях столетий. Она звучит теперь в староарамейской фразеологии, даже среди сиро-халдейских несториан, громче и дерзновеннее, чем в иных проблемах мысли, представленных новейшей позити-вистической наукою.
Итак, сын человеческий, бен-Адам, угасшее прошлое веков, самое представление о Боге – все это символы духовного значения, без элемента родственной келейности, о котором мы говорили выше. Как же в свете гиперборейского духа, бледно отраженного даже в библейских преданиях, мы можем нарисовать себе картину, наполнившую жизнь Федорова экстатическим восторгом и ожиданием? Бог смерти не создал. Смерть вошла в историю человечества через падение и грех. Она происходит от дисгармонии духа и тела. Когда дисгармония закончится гармонией, смерть исчезнет. Тело одухотворится до такой степени, что оно станет не только транспарантным для духа, но сделается его чистой адекватной формой. В этом состоянии для него уже не будет ни времени, ни ночи, с дурманами которых он последовательно боролся в миллионах веков, освещая ночи из разных источников природы и побеждая время восторгами, музыкой и упоением всех родов. И смерти не будет, преодолеть которую он раньше не мог. Будущий человек увидит все во временах и пространствах. Он будет переноситься, куда захочет, одною волею своею. Творчество его, поражавшее некогда большими достижениями, на поверхностный внешний взгляд, только теперь сделается божественным: подумал – сотворил! Но если человек сможет перенестись куда захочет и увидеть себя и все бывшее во всех временах и сроках, то все и воскресло. Прежние отцы восстали, братья и сестры оказались рядом – по плоти и по духу. В таком свете от культа предков не останется ничего. Смотреть надо не назад, а вперед: предки там, в отдалении пространств и веков. Жена Ноя оглянулась назад и превратилась в соляной столб. Орфей оглянулся на Евридику и потерял ее.
Таково воскресенье духовное со всем лицезрением мировых событий прошлого, настоящего и будущего, воскресенье даровое, всеобщее, само к нам грядущее, воскресенье не только людей, но и всей природы, известной нам и неизвестной, видимой и невидимой.
Н. Ф. Федоров мечтает о том, чтобы новый год встречался пасхальным каноном. Но пасхальный канон знаменует пасху природы, воскресающей весною во всем своем великолепии, воскресающей, отнюдь не воскрешаемой. Пасха дает нам воскресенье не трудовое, а даровое благодетельным ходом космических сил. Но и в первоначальной христианской общине воскресенье Иисуса Христа было тоже даровое, празднично ликующее, без расчетных листов. Для христиан воскресенье то же, что суббота для евреев, – приостановка труда, а не его результат. По логике вещей, Федоров, требующий воскрешенья, не имеет оснований праздновать пасху и воскресный день.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.