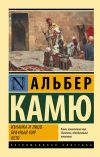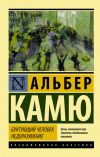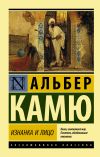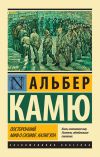Автор книги: Альбер Камю
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 47 страниц)
В самом деле, многие прикрываются любовью к жизни, чтобы избежать просто любви. Гонятся за наслаждениями и стараются «побольше испытать». Но это все умствования. Чтобы наслаждаться, нужно редкостное призвание. Человек существует, не опираясь на жизнь духа с ее приливами и отливами, приносящими и одиночество, и полноту. Когда смотришь на обитателей Белькура – как они работают, защищают своих жен и детей, и подчас кажется, их не в чем упрекнуть, – право же, можно втайне устыдиться. Нет, конечно, я не тешу себя иллюзиями. В жизни этих людей любви немного. Вернее сказать, ее немного остается. Но по крайней мере они ни от чего не увиливали. Есть слова, которых я никогда толком не понимал, например – грех. И, однако, я уверен: эти люди не грешны перед жизнью. Ибо уж если что и грешно, то не отчаиваться в этой жизни, а возлагать надежды на жизнь загробную и уклоняться от безжалостного величия здешнего, земного бытия. Эти люди не плутовали. В двадцать лет жажда жизни делала их богами лета, и теперь, лишенные всех надежд, они остаются прежними. Я видел, как умирали двое из них. Они были полны ужаса, но молчали. Так лучше. Из ящика Пандоры, где скрывались все злосчастья человечества, древние греки последней выпустили надежду как самую грозную из казней. Я не знаю символа более потрясающего. Ибо наперекор тому, что принято думать, надежда – это покорность. А жить – значит не покоряться.
Вот хотя бы один суровый урок, который дают летние дни в Алжире. Но погода меняется, лето уже на исходе. После такого буйства и пыла первые сентябрьские дожди – словно первые слезы освобожденной земли, как будто за несколько дней весь этот край растворился в нежности. И, однако, в эту же пору над всей страной разливается любовный аромат цветущих рожковых деревьев. По вечерам или после дождя чрево земли еще влажно от семени, что пахнет горьким миндалем, все долгое лето она отдавалась солнцу и теперь отдыхает. И снова этим ароматом освящен брачный союз человека и земли, и в нас пробуждается единственная в этом мире подлинно мужественная любовь – преходящая и щедрая.
Пустыня
Жану Гренье
[22]22
© Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019
[Закрыть]
Разумеется, жить – это совсем не то, что рассуждать о жизни. Если верить великим тосканским мастерам, жить – это трижды свидетельствовать – в тишине, пламени и неподвижности.
Требуется немало времени, чтобы признать, что персонажей их картин ежедневно встречаешь на улицах Флоренции или Пизы. Но точно так же мы разучились видеть настоящие лица тех, кто нас окружает. Мы больше не смотрим на наших современников, мы ищем в них только то, что помогает нам лавировать меж людьми и соблюдать правила приличного поведения. Мы предпочитаем живому лицу его самую вульгарную поэзию. Но что касается Джотто или Пьеро делла Франческа, то они хорошо знают, что человеческая восприимчивость – ничто. В конце концов, сердце есть у каждого, и поэтому она присуща каждому. Но великие простые и вечные чувства, вокруг которых вращается жажда жизни, ненависть, любовь, слезы и радости, растут в глубине человека и формируют лицо его судьбы, – как в «Положении во гроб» Джоттино боль стиснутых зубов Марии. В огромных величавостях тосканских церквей я ясно вижу толпу ангелов с бесконечно повторяющимися лицами, но в каждом из этих молчаливых и страстных ликов я узнаю одиночество.
Речь идет, действительно, о живописности, о каком-нибудь запечатленном эпизоде, об оттенках или о волнении. Короче, речь идет о поэзии. Но в расчет принимается только правда. Правдой я называю все то, что имеет продолжение. Существует изощренная точка зрения, что в этом смысле только художники могут утолить наш голод, ибо у них есть привилегия становиться романистами тела. К тому же, они работают в этой великолепной и пустотелой субстанции, которая именуется настоящим. А настоящее всегда передается в жесте. Они изображают не улыбку или мимолетную стыдливость, не сожаление или ожидание, но лицо, его плоть и кровь, его кожу и кости черепа. Из этих лиц, застывших в вечных линиях, они навсегда изгнали метания духа – но ценой надежды. Впрочем, тело не знает надежды, оно знает только биение своей крови. Свойственная ему вечность соткана из безразличия. Как в «Бичевании Христа» Пьеро делла Франческа, где на только что вымытом дворе подвергаемый истязанию Христос и его приземистый палач обнаруживают в своих позах одно и то же равнодушие. И это потому, что пытка не имеет продолжения, и ее урок застывает на холсте. Какой смысл волноваться за того, кто не ждет завтрашнего дня? Безучастность и величие человека, лишенного надежды, вечное настоящее – именно это дальновидные теологи называли адом. А ад, как известно каждому, это еще и страдающая плоть. Именно на этой плоти, а вовсе не на ее судьбе, сконцентрировались тосканцы. Пророческой живописи не существует, и не в музеях нужно искать повода для надежды.
Бессмертие души действительно занимает многие великие умы. Но они отказываются еще до того, как исчерпана суть проблемы, от единственной реальности, которая им дана, то есть от тела. Дело в том, что оно не задает им вопросов или, по крайней мере, они знают единственный ответ, который оно предлагает: это истина, обреченная сгнить и потому источающая горечь и благородство, в лицо которым люди не смеют взглянуть. Великие умы предпочитают телу поэзию, ибо она есть творчество души. Пусть я немного играю словами, но, надеюсь, понятно, что истиной я хочу освятить только высокую поэзию: черное пламя, которое итальянские художники, начиная с Чимабуэ до Пьеро делла Франческа, взметнули среди тосканских пейзажей, как естественный протест человека, брошенного на землю, великолепие и свет которой непрестанно говорят ему о Боге, которого не существует.
С помощью безразличия и бесчувственности случается, что лицо человеческое достигает минерального величия пейзажа. Как некоторые испанские крестьяне начинают походить на выращиваемые ими оливковые деревья, так и лица на картинах Джотто, лишенные смехотворных теней, в которых проявляется душа, в конце концов догоняют саму Тоскану в том единственном уроке, где она не скупится: полыхание страсти в ущерб эмоциям, смесь аскезы и наслаждения, общий для земли и человека отзвук, когда и человек, и земля находят себя где-то на полпути между несчастьем и любовью. Не так уж много истин, в которых сердце было бы убеждено. Очевидность этой истины я вполне постиг однажды вечером, когда сумерки начинали затоплять виноградники и оливы флорентийской долины безбрежной, молчаливой печалью. Но печаль в этой стране всегда лишь сопровождение к красоте. И в поезде, идущем сквозь вечер, я чувствовал, как во мне что-то проясняется. Могу ли я сегодня сомневаться, что, несмотря на обличье печали, это все-таки именовалось счастьем?
Да, Италия щедро подтверждает своими пейзажами урок, явленный ее людьми. Но счастье легко проворонить, ибо оно всегда незаслуженно. В том числе в Италии. И ее прелесть, даже если она внезапна, не во всякий миг очевидна. Италия больше, чем какая-либо другая страна, призывает к углублению опыта, хоть на первый взгляд он, кажется, представлен человеку весь сразу. Суть в том, что Италия прежде всего расточительна в поэзии, и это затуманивает постижение истины. Ее первые чары являются ритуалами забвения: розовые лавры Монако, Генуя, полная цветов и запахов рыбы, голубые вечера Лигурийского побережья. Наконец, Пиза, а с ней и Италия, лишенная шаловливого очарования французской Ривьеры. Но она еще вполне доступна, и почему бы не поддаться на какое-то время ее чувственной грации? Меня ничто не насилует, когда я здесь (и я лишен услад загнанного туриста, так как билет по сниженной цене понуждает меня оставаться некоторое время в городе «моего выбора»), и моя терпеливая готовность любить и понимать кажется мне безграничной в тот вечер, когда я, усталый и голодный, вхожу в Пизу, встреченный на вокзальной площади десятком грохочущих громкоговорителей, опрокидывающих водопад романсов на толпу, в которой почти все молоды. Я заранее знаю, чего жду. После очередной прихоти жизни наступит особое мгновение: закрыты кафе, и внезапно вернулась тишина, а я пройду по коротким и темным улицам к центру города. Темная и золотистая река Арно, желтые и зеленые памятники, пустынный город – как описать такой неожиданный и проворный прием, благодаря которому Пиза в десять часов вечера переодевается в этот странный наряд: тишина, вода и камни? «В подобную ночь, Джессика!» На этих уникальных подмостках вдруг появляются боги с голосами влюбленных Шекспира… Нужно уметь отдаваться мечте, когда мечта отдается нам. В глубине этой италийской ночи я уже слышу первые аккорды такого глубинного пения, которого здесь и не ожидаешь. Завтра, только завтра поля округлятся в свете утра. Но сегодня вечером я – бог среди богов, и перед Джессикой, убегающей «быстрыми шагами любви», я смешиваю свой голос с голосом Лоренцо. Но Джессика – лишь предлог, и любовный порыв ее обгоняет. Мне представляется, что Лоренцо не столько ее любит, сколько благодарен ей за разрешение ее любить. Но к чему сегодня вечером думать о Возлюбленных из Венеции и забывать Верону? Потому что здесь почти ничто не понуждает нежно любить несчастных возлюбленных. Нет ничего более бессмысленного, чем умереть за любовь. Надо жить. И живой Лоренцо лучше, чем погребенный Ромео, несмотря на его розовый куст. Как же тогда не танцевать на этих праздниках живой любви – дремать после полудня на невысокой траве Пьяцца дель Дуомо среди памятников, которые всегда успеешь осмотреть, пить из городских фонтанов, где вода немного теплая, но такая текучая, увидеть еще раз смеющееся лицо той женщины с удлиненным носом и горделивыми губами. Нужно только понять, что это приобщение готовит к более высоким озарениям. Это сверкающие шествия, ведущие дионисовы мистерии в Элевсин. Только в радости человек усваивает уроки, и плоть его, достигнув наивысшей степени опьянения, становится сознательной и ощущает свою сопричастность священной тайне, символом которой является захмелевшая кровь. Полное самозабвение, дарованное пылом начальной Италии, готовит к этому уроку, который освобождает нас от надежды и похищает у нашей истории. Двойная правда тела и мига при лицезрении красоты – как не ухватиться за нее, как за единственное в своем роде счастье, которое должно нас околдовать, но одновременно и погубить.
Самый отталкивающий материализм не тот, который в ходу, но тот, что выдает мертвые идеи за живую реальность и отвлекает на бесплодные мифы наше постоянное прозорливое внимание, обращенное на то, что должно навек умереть в нас. Я вспоминаю, как во Флоренции в монастыре мертвых в Сантиссима-Аннунциата я был выведен из себя чем-то похожим на скорбь и что оказалось всего лишь гневом. Шел дождь. Я читал надписи на надгробных плитах и посвящениях. Этот был нежным отцом и верным мужем; тот – лучшим из супругов и одновременно удачливым коммерсантом. Некая молодая женщина, образец всех добродетелей, говорила по-французски si como il nativo[23]23
Как на родном (ит.).
[Закрыть]. А вот девочка, которая была любимицей близких, но ma la gioila e pellegrina sulla terra[24]24
Радость – странница на земле (ит.).
[Закрыть]. Однако ничто из этого меня не трогало. Почти все, судя по надписям, безропотно покорились смерти, поскольку покорялись и всем своим прочим обязанностям. Сегодня дети залезли в монастырь и играли в чехарду на плитах, призванных увековечить добродетели покойных. Наступала ночь, и я сел на землю, прислонившись к колонне. Священник, проходя мимо, улыбнулся мне. В церкви глухо звучал орган, и теплый цвет его мелодии иногда прорывался сквозь крики детей. Один у колонны, я походил на человека, которого схватили за горло и который провозглашает свою веру как последнее слово. Все во мне протестовало против подобного смирения. «Так нужно», – требовали надписи. Ну нет уж, и мой бунт был справедлив. За этой радостью, идущей равнодушно и самоуглубленно, как пилигрим по земле, мне нужно было следовать шаг за шагом. Но я говорил: нет. Говорил изо всех сил. Плиты сообщали мне, что все бесполезно и что жизнь проходит: col sol levante, col sol cadente[25]25
С восходом солнца, с заходом солнца (ит.).
[Закрыть]. Но я и сегодня не вижу, что́ эта бесполезность отнимает у моего бунта, зато хорошо чувствую, что́ она ему добавляет.
Впрочем, я не это хотел сказать. Я хотел бы немного яснее очертить истину, которую я открыл тогда в самом сердце своего бунта: она была лишь продолжением той истины, что тянулась от маленьких запоздалых роз монастыря Санта-Мария-Новелла к женщинам того воскресного утра во Флоренции, женщинам с влажными губами и нестесненной грудью под легкими платьями. В то воскресенье на углу каждой церкви стояли прилавки с мясистыми, блестящими от жемчужин воды цветами. Я тогда находил в этом нечто вроде «наивности», а также воздаяния. В этих цветах, как и в этих женщинах, было щедрое изобилие, и я ощущал, что хотеть одних – почти то же, что страстно желать других. Для этого достаточно чистого сердца. И все же в такие минуты он, по крайней мере, обязан назвать истиной то, что его так явственно очистило, даже если для других эта истина может показаться богохульством, как тот день, о котором идет речь: я провел то утро во францисканском монастыре во Фьезоле, пропахшем лаврами. Я много времени провел в маленьком дворике, наполненном красными цветами, солнцем и желто-черными пчелами. В углу стояла зеленая лейка. Перед тем, как прийти сюда, я осмотрел монашеские кельи и видел там столики, украшенные черепами. Теперь этот сад свидетельствовал об их существованиях. Я вернулся во Флоренцию по холму, который спускался к городу со всеми его кипарисами. Это великолепие мира, эти женщины и цветы казались мне как бы оправданием тех монахов. Я не был уверен, что это не служило оправданием и для всех людей, которые знают, что крайняя степень бедности всегда сочетается с роскошью и богатством мира. В жизни тех францисканцев, запертых между колоннами и цветами, и в жизни молодых людей с алжирского пляжа Падовани, круглый год проводящих на солнце, я чувствовал нечто общее. Если они и снимают одежду, то для пущего ощущения этой жизни, а не для иной жизни. По-моему, это единственное приемлемое употребление слова «лишение». Нагота всегда подразумевает физическую свободу, и это согласие руки и цветов, это любовное взаимопонимание земли и человека, освобожденного от человеческого, – ах! я бы обратился в эту веру, если бы это уже не стало моей религией. Нет, здесь не может быть богохульства даже в том случае, если я скажу, что внутренняя улыбка святых Францисков Джотто оправдывает тех, кто имеет склонность к счастью. Так как мифы для религии – то же, что и поэзия для истины, то есть смехотворные маски, надетые на страсть к жизни.
Пойду ли я дальше? Те же люди, которые во Фьезоле живут перед красными цветами, имеют в кельях череп, который питает их раздумья. Флоренция у их окон, и смерть на их столе. Некоторая непрерывность отчаяния может затеплить радость. И при определенной температуре жизни смешавшиеся душа и кровь умело живут на противоречиях, одинаково безразличные к долгу и к вере. И я уже не удивляюсь, что на одной из стен Пизы чья-то веселая рука так обобщила своеобразное понимание чести: «Alberto fa l’amore con la mia sorella»[26]26
Альберто занимается любовью с моей сестрой (ит.).
[Закрыть]. Я уже не удивляюсь, что Италия – земля кровосмешений, и – что особенно примечательно – кровосмешений признанных. Ибо путь, ведущий от красоты к безнравственности, извилист, но непреложен. Погруженный в красоту, ум питается небытием. Перед этими пейзажами, от величия которых перехватывает горло, каждая из мыслей – помарка на человеке. И скоро, отвергнутый, обремененный, придавленный и омраченный столькими тягостными убеждениями, он станет ничем перед миром – бесформенное пятно, которое знает истину только пассивную, или ее цвет, или ее солнце. Такие безупречные пейзажи иссушающи для души, и их красота непереносима. В этих евангелиях от камня, неба и воды сказано, что ничто не воскресает. Отныне внутри этой великолепной пустыни в сердце для здешних людей зарождается искушение. Что же удивительного в том, что возвышенные умы перед этим зрелищем благородства в воздухе, напитанном красотой, не убеждены, что величие может объединяться с добром? Рассудок без Бога, которого тот уничтожает, ищет Бога в том, что рассудком отрицается. Борджиа, прибыв в Ватикан, восклицает: «Бог даровал нам папство, и нужно спешить им попользоваться». И слово у него не расходится с делом. Спешить – это хорошо сказано. В этом чувствуется отчаяние, столь свойственное облагодетельствованным людям.
Быть может, я ошибаюсь. Ведь я был счастлив во Флоренции, как и многие другие до меня. Но что такое счастье, если не простое согласие между человеком и жизнью, которую он ведет? И какое более законное согласие может соединить человека с жизнью, если не двойное осознание своего желания быть всегда и своей участи умереть? По крайней мере, учишься ни на что не рассчитывать и рассматривать настоящее, как единственную истину, которая нам дана «сверх всего». Я уже слышу, как мне говорят: Италия, Средиземное море, древние земли, где все соразмерно человеку. Но пусть мне покажут иной путь. Дайте мне открыть глаза, чтобы я мог отыскать свою меру и свою отраду! А впрочем, я вижу сам: Фьезоле, Джемила и гавани, осиянные солнцем. Мера человека? Тишина и мертвые камни. Все остальное принадлежит истории.
Но не здесь следовало бы остановиться. Ведь нигде не сказано, что счастье неразрывно слито с оптимизмом. Оно связано с любовью, что не одно и то же. И я знаю часы и места, где счастье может показаться таким горьким, что ему предпочитаешь лишь намек на него. Но причина в том, что в эти часы и в этих местах у меня не было достаточно мужества любить, то есть не отказываться от любви. Здесь следует напрямую сказать о вхождении человека в празднества земли и красоты. Ибо именно в такие минуты человек, подобно неофиту, сбрасывает последние покровы, теряет свою личность и становится разменной монетой в руках Бога. Да, существует более высокое счастье, когда обыденное счастье кажется ничтожным. Во Флоренции я поднимался в саду Боболи до террасы, откуда открывались Монте-Оливето и городские холмы до самого горизонта. На каждом из этих холмов оливы были бледными, как маленькие туманности, и в дымке, которую они образовывали, выделялись более твердые кипарисы, самые близкие – зеленые и дальние – черные. Глубокую голубизну неба пятнали облака. На излете послеполуденного времени нисходил серебряный свет, и все становилось тишиной. Вершины холмов сначала тонули в облаках. Но вот поднялся бриз, дыхание которого я ощущал на лице. Бриз рассеивал облака, и холмы возникали словно из-за открывшегося занавеса. Одновременно казалось, что верхушки кипарисов мигом врастали во внезапно открывшуюся голубизну. Вместе с ними весь холм и пейзаж из олив и камней вновь медленно поднимались. Но тут приплыли другие облака, и занавес закрылся. А холм снова опустился вместе со своими кипарисами и домами. А затем опять – вдалеке, на отдаленных холмах, все более и более бледневших, – тот же бриз, который расправлял плотные складки облаков и образовывал их снова. В этом великом дыхании мира одно и то же дуновение завершалось с интервалом в несколько секунд и вновь, время от времени, подхватывало тему камня и воздуха в фуге вселенского звучания. Каждый раз тема укорачивалась на один тон: следя за ней на все большем расстоянии, я все больше успокаивался. И достигнув предела этой чувствительной для сердца перспективы, я охватывал взглядом этот бег синхронно дышащих холмов и слышал как бы пение всей земли.
Я знал, что миллионы глаз созерцали этот пейзаж, но для меня он был как первая улыбка неба. Он открывал для меня новые горизонты в точном смысле этого выражения. Он убеждал меня, что без моей любви и этого прекрасного крика камня все было бы бесполезно. Мир прекрасен, и вне его нет никакого спасения. Вот великая истина, которую он мне терпеливо преподавал: разум – ничто, да и сердце тоже. Он учил меня, что камень, нагретый солнцем, или кипарисы, углубляющие небо, ограничивают единственную вселенную, где слова «быть правым» приобретают смысл: природу без людей. И этот мир меня истребляет. Он доводит меня до предела. Он безгневно отвергает меня. Тем вечером, спускавшимся на флорентийскую долину, я держал путь к мудрости, где все уже было покорено, если бы слезы не навернулись мне на глаза и если бы великое рыдание поэзии, переполнявшее меня, не заставило меня забыть об истине мира.
Именно на этом равновесии следовало бы остановиться: редкое мгновение, когда духовность отвергает мораль, когда счастье рождается из отсутствия надежды, когда дух находит свой смысл в теле. Если правда, что всякая истина несет в себе горечь, то так же истинно, что всякое отрицание содержит прорастающее «да». И эта песнь любви без надежды, порожденная созерцанием, может также представляться самым действенным правилом всемирного действа. Вышедший из гробницы воскресший Христос на полотне Пьеро делла Франческа лишен человеческого взгляда. На его лице не написано ничего счастливого, одно только ожесточенное и бездушное величие, которое я понимаю как твердую решимость жить. И в этом мудрец не отличается от слабоумного. Такой поворот меня пленяет.
Обязан ли я этим открытием Италии, или же я извлек его из собственного сердца? Вне всякого сомнения, оно далось мне именно там. Хотя в Италии, как и в других благословенных местах, прорва красоты, тем не менее, люди и там умирают. Тут тоже должна разлагаться истина, а что может быть более возбуждающим? Если бы даже я ее и желал, что делать с неразлагаемой истиной? Она мне не соответствует. И любить ее было бы лукавством. Редко понимают, что вовсе не от безнадежности человек покидает то, что составляло его жизнь. Отчаянные проступки ведут к другим жизням и обозначают только трепетную привязанность к урокам земли. Хотя бывает и так, что на определенной ступени ясности ума человек чувствует, что сердце его исчерпано, и без особого протеста поворачивается спиной к тому, что до этих пор принимал за свою жизнь, иначе говоря, за свою суету. Если Рембо кончил тем, что в Абиссинии не написал ни единой строчки, то это отнюдь не из-за склонности к авантюрам или писательского отступничества. Он сделал это «просто так», а точнее оттого, что при особой обостренности сознания мы в конце концов признаем то, что заставляли себя не понимать, согласно своему призванию. Ясно, что речь идет об изучении географии некой пустыни. Но эта необычная пустыня ощутима только для тех, кто способен там жить, никогда не утоляя своей жажды. И тогда, только тогда, она наполнится живыми водами счастья.
В саду Боболи – только руку протяни – висели огромные золотистые плоды хурмы, лопнувшая оболочка которых источала густой сироп. От этого легкого холма с сочными плодами, от тайного братства, которое приводило меня в согласие с миром, от голода, который влек меня к оранжевой плоти подле моей руки, я постигал равновесие, которое приводит некоторых людей от схимы к наслаждению и от аскезы к буйному сладострастию. Я восхищался, я восхищаюсь и доселе этой связью, объединяющей человека с миром, этой двойственностью, в которой мое сердце может принимать участие и диктовать условия своего счастья до точного предела, где мир может его дать или прикончить. Флоренция! Одно из немногих мест в Европе, где я понял, что в глубине моего бунта дремало согласие. В небе Флоренции, смешанном со слезами и солнцем, я учился соглашаться с землей и пылать в мрачном пламени ее празднеств. Я испытывал… но что за слово? Какой вздор! Как освятить согласие любви и бунта? Земля! В этом великом, оставленном богами храме у всех моих идолов глиняные ноги.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.