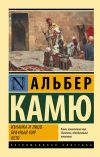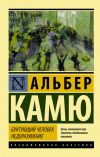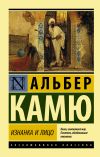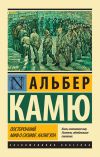Автор книги: Альбер Камю
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 47 страниц)
Загадка
[38]38
© Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019
[Закрыть]
Рухнувшие из глубины небес потоки солнца мощно проливаются на окружающую нас равнину. Все затихло перед этим грохотом, и Люберон кажется только огромной глыбой тишины, к которой я беспрестанно прислушиваюсь. Я слышу, как кто-то ко мне бежит издалека, невидимые друзья зовут меня, моя радость растет, такая же, как и много лет назад. И снова счастливая загадка помогает мне все постигнуть.
В чем абсурдность мира? В этом ли сиянии или в воспоминании о том, что его не было? В моей памяти хранится так много солнца, как могу я настаивать на абсурде? Всех вокруг меня это удивляет; иногда я сам дивлюсь этому. Я мог бы ответить и им и себе, что именно солнце мне в этом помогает и что его свет в мрачном сверкании своей мощи формирует Вселенную и ее формы. Но все это можно сказать и иначе, и я хотел бы перед этим черно-белым светом, который всегда был для меня светом истины, просто объясниться по поводу абсурда, слишком мне знакомого, чтобы терпеть, когда о нем рассуждают, не учитывая нюансов. Впрочем, разговор о нем снова приведет нас к солнцу.
Ни один человек не в силах сказать, что он собой представляет. Но случается, что он может сказать, чего он собой не представляет. От того, кто еще в поиске, требуют, чтоб он сделал конечный вывод. Тысячи голосов ему объявляют, к чему он пришел, однако он знает, что это совсем не то. Продолжайте искать, и пусть они говорят что угодно. Все это так. Но порой нужно и защищаться. Я не знаю в точности, чего ищу, я осторожно это формулирую, потом отрекаюсь, повторяюсь, иду вперед и отступаю вспять. Однако мне приказывают дать всему окончательные имена. Тогда я упорствую: разве то, что названо, уже не потеряно? Вот что я попытаюсь сказать по этому поводу.
Один человек, кажется, кто-то из моих друзей, всегда имел два характера, свой собственный и тот, который ему приписывала его жена. Заменим жену обществом, и мы поймем, что формула, выведенная каким-нибудь писателем из контекста своего мировосприятия, может быть искажена чьим-то толкованием, а ее предъявляют автору каждый раз, когда он хочет говорить совсем о другом. Слово – тот же поступок: «Вы произвели на свет этого ребенка?» – «Да». – «Значит, он ваш сын?» – «Но это не так просто, не так просто!» Вот почему Нерваль в одну злополучную ночь повесился дважды: сначала за себя, ибо был несчастен, а второй раз за свою легенду, которая некоторым помогала жить. Никто не может писать ни об истинном несчастье, ни о некоем счастье, и я тоже не стану пытаться здесь этого делать. Но что касается легенды, ее можно описать и вообразить хотя бы на минуту, что ты ее развеял.
Обычно писатель пишет, чтобы его читали (те, кто говорит противоположное, достойны восхищения, но не доверия). Однако у нас все больше и больше таких, которые пишут ради своеобразного признания, в том только состоящего, что их не читают. Действительно, начиная с момента, когда писатель в состоянии дать материал для красочной статьи в нашей массовой прессе, у него есть все шансы стать известным множеству людей, которые его никогда не прочтут, им достаточно знать его имя и читать то, что о нем напишут другие. Отныне он будет известен (и забыт) не за то, чем он в действительности является, но в соответствии с образом, который ему навяжет какой-нибудь бойкий журналист. Чтобы создать себе имя в литературе, совсем не обязательно писать книги. Достаточно прослыть автором одной книги, о которой будет писать вечерняя пресса и над которой отныне будут клевать носом.
Скорее всего, эта более или менее громкая слава будет незаслуженной. Но что поделаешь? Лучше допустить, что это неудобство может оказаться благотворным. Врачи знают, что некоторые болезни даже желательны: они по-своему компенсируют функциональное расстройство, которое без них может обратиться в более серьезный недуг. Существуют весьма уместные запоры и ниспосланные провидением артриты. Наводнение слов и поспешных суждений, затопляющее сегодня любую общественную деятельность в океане пошлости, по крайней мере, учит писателя скромности, которой ему постоянно недостает в стране, где его ремеслу придается столь непомерное значение. Увидеть свое имя в двух-трех популярных газетах – такое суровое испытание, что оно поневоле предполагает и некоторую пользу для души. Да будет благословенно общество, которое с такими небольшими издержками ежедневно нас учит даже своими похвалами, что величие, ею прокламируемое, на самом деле ничтожно. Лишь громче шум, который оно поднимает, лишь быстрее он стихает. Он напоминает о том костре из пакли, который Александр VI не раз приказывал разжечь в его присутствии, дабы не забывать, что вся слава мира проходит, как дым.
Но оставим иронию. Для нашего предмета достаточно сказать, что художнику надлежит быть смиренным: пребывать в хорошем расположении духа, таскаться по приемным дантистов и парикмахеров, оставляя впечатление, которое он считает недостойным себя. Я знал одного модного прозаика, который слыл заводилой в разнузданных ночных вакханалиях, где нимфы были прикрыты только своими волосами, а у фавнов была под ногтями грязь. Следовало все-таки задуматься, когда же он находит время создавать свои творения, которые занимают бесчисленные книжные полки библиотек. На самом деле этот прозаик, как и многие его собратья, ночью мирно спит, чтобы потом ежедневно долгими часами работать за письменным столом, и пьет минеральную воду, поскольку щадит свою печень. Тем не менее, средний француз, стопроцентная трезвость и пугливое чистоплюйство которого всем известны, возмущается при мысли, что один из наших писателей учит, будто нужно напиваться и не мыть рук. Примеров предостаточно. Я лично могу дать превосходный рецепт того, как заполучить с минимальными издержками безупречно нравственную репутацию. Я и сам ношу груз такой репутации, что вызывает смех у моих друзей (я же при этом просто краснею; уж я-то хорошо знаю, настолько я ее не заслужил). Достаточно, к примеру, отказаться от сомнительной чести пообедать с главным редактором газеты, которую ты не уважаешь. Элементарную чистоплотность люди выводят из какого-то душевного выверта. Никто, однако, не додумается, что если вы отказались пообедать с этим редактором, то скорее всего потому, что вы его не уважаете, а плюс к этому не переносите скуку – а что скучнее парижского обеда? Стало быть, нужно смиряться. Но при случае можно попытаться скорректировать игру, твердить, что ты не всегда можешь пребывать художником-абсурдистом и что никто не в состоянии верить в литературу, приводящую в отчаяние. Конечно, всегда есть возможность писать или уже иметь написанное эссе о нации абсурда. Но, в конце концов, можно также писать об инцесте, тем не менее не набрасываясь на свою несчастную сестру, и мне не доводилось читать, чтобы Софокл убил своего отца и обесчестил мать. Мысль, что писатель обязательно пишет о себе и изображает самого себя в своих книгах, есть одно из ребячеств, завещанных нам романтизмом. Напротив, совершенно не исключено, что художник прежде всего интересуется другими, или своей эпохой, или привычными мифами. И даже если ему доведется изобразить себя в какой-нибудь пьесе, то уж в самом крайнем случае он раскроет, каков он в действительности. Творения писателя часто изображают историю его ностальгии или его искушений, но почти никогда его собственную историю, особенно когда она претендует на автобиографичность. Никто и никогда не осмеливался изобразить себя таким, как есть.
Насколько это возможно, я предпочел бы, наоборот, быть объективным писателем. Объективным я называю автора, который, оставляя за собой место субъекта, никогда не превращается в объект. Но распространенная в наши дни страсть смешивать писателя с его героем не оставляет автору эту относительную свободу. Таким образом, поневоле становишься пророком абсурда. А что я делал кроме того, что вынашивал какую-нибудь мысль, поймав ее на улицах, по которым хожу? Я взлелеивал эту мысль (и отчасти продолжаю это делать), само собой разумеется, совместно с моим поколением. Просто я держал ее на необходимом расстоянии, чтобы точнее трактовать ее и следить за логикой ее развития. То, что я смог написать потом, достаточное тому доказательство. Но формулу использовать удобнее, чем ее оттенки. Выбрали формулу – и вот я пожизненный глашатай абсурда.
Стоит ли уточнять, что в опыте, который меня интересовал и о котором мне случалось писать, абсурд может рассматриваться лишь как отправная точка, даже если воспоминание о нем или страх перед ним сопровождают все последующие поступки. Точно так же, конечно, с необходимыми поправками, картезианские сомнения, сколь бы методичными они ни были, все же недостаточны, чтобы сделать из Декарта законченного скептика. Так или иначе, но как ограничиться мыслью, будто ничто не имеет смысла и отчаяние подстерегает на каждом шагу? Не докапываясь до сути вещей, можно по крайней мере заметить, что как нет абсолютного материализма (ведь только для того, чтобы произнести это слово, надо тут же признать, что в мире есть нечто большее, чем материя), точно так нет и тотального нигилизма. В тот момент, когда говорят, что все – бессмыслица, выражают нечто, имеющее смысл. Отрицать в мире всякий смысл – это значит свести на нет любое суждение о ценностях. Но, к примеру, сделать невозможным жить и питаться – это уже несет в себе суждение о ценностях. Жизнь выбирают с того мгновения, когда не позволяют себе умереть, и тем самым признают хотя бы относительную ценность жизни. И что, в конце концов, обозначает литература отчаяния? Отчаяние молчаливо. Само молчание, в конечном счете, сохраняет смысл, если говорят глаза. Истинное отчаяние – это агония, могила или пропасть. Если оно говорит, если оно размышляет, особенно если оно пишет, брат сразу же протягивает нам руку, каждое дерево становится оправданным, зарождается любовь. Литература отчаяния – в самом названии кроется противоречие.
Конечно, чрезмерный оптимизм не по мне. Я, как и все мои сверстники, вырос под барабанный бой первой войны, и с тех пор наша история не переставала быть цепью убийств, несправедливостей или насилия. Но с настоящим пессимизмом мы сталкиваемся тогда, когда преувеличивают жестокость и низость. Что до меня, то я никогда не переставал бороться против этого бесчестия, я ненавижу жестоких. В самом мрачном нашем нигилизме я искал только повод его преодолеть. И отнюдь не из отваги или там редкостной возвышенности души, но из инстинктивной верности свету, в котором я родился и где уже миллионы лет люди научились славить жизнь даже в страдании. Эсхил часто приводит в отчаяние; однако он сияет и греет. В центре его мира не жалкая бессмыслица, которую мы видим окрест, но загадка, то есть смысл, который не сразу разгадывают, потому что он слепит. Сохранившимся до нашего иссушенного века упрямым и стойким сыновьям Греции ожог нашей истории должен казаться невыносимым, но они его все-таки выдерживают, ибо силятся его понять. В центре нашего творчества, будь оно как угодно мрачным, светит неистощимое солнце, то же самое, которое неистовствует в долине и на холмах.
После этого костер из пакли может пылать; не все ли равно, чем мы можем казаться и что мы себе присваиваем? Того, что мы существуем, того, что мы должны существовать, вполне достаточно, чтобы заполнить наши жизни и стать предметом наших усилий. Париж – восхитительная пещера, и его обитатели, видя, как их собственные тени перемещаются на задней стене, принимают их за единственную реальность. То же самое можно сказать о странной и многовековой славе, которую излучает этот город. Но вдалеке от Парижа мы узнаем, что свет за нашей спиной, что нужно, сбросив наши путы, обернуться, чтобы оказаться к нему лицом, и что наша задача, перед тем, как умереть, – попытаться, прорвавшись сквозь лес слов, найти ему название. Каждый художник, несомненно, занят поисками истины. Если он велик, каждое его произведение приближает к истине или, по крайней мере, стремится приблизиться к этому центру, к скрытому солнцу, в котором все однажды должно сгореть дотла. Если он художник посредственный, каждое его произведение удаляет от нее, центр находится тогда повсюду, и свет распыляется. Но художнику в его упорных поисках могут помочь только те, кто его любит, а также те, кто, любя его или создавая собственные произведения, находит в своих переживаниях меру всякого чувства, а стало быть, умеет судить.
Ах, этот шум… а ведь любить и творить можно только в тишине! Но нужно запастись терпением. Еще мгновение, и солнце наложит печать на уста.
1950
Возвращение в Типасу
С яростью в душе уплыл ты далеко от отчего крова, пройдя Геркулесовы столбы, и поселился в чужих краях.
«Медея»
[39]39
© Перевод. Т. Чугунова, 2018
[Закрыть]
Пять дней над городом Алжиром безостановочно лил дождь и в конце концов вымокло даже море. С бескрайнего небосвода на залив стена за стеной обрушивался ливень. Серое и бесформенное, как огромная губка, море вздувалось в бухте, утратившей привычные очертания. Однако поверхность его при этом оставалась почти неподвижной. Лишь изредка едва различимое и широкое колебание приподнимало над морем какие-то мутные испарения, которые достигали порта и заполняли бульварное кольцо. В ответ город тоже всеми порами своих белых промокших стен выделял испарину. Куда бы ты ни пошел, повсюду воздух был предельно напоен водой, и казалось, что его можно пить.
Я разгуливал по этому декабрьскому Алжиру, который все равно оставался для меня летним городом у затонувшего моря, и ждал. Я сбежал из Европы с ее длинными ночами и зимними лицами. Но и летний город опустел и вместо улыбок являл разве что круглые, блестящие от дождя спины прохожих. Вечерами, укрываясь в нестерпимо освещенных кафе, я прочитывал собственный возраст на лицах, которые узнавал, не в силах назвать тех, кому они принадлежали. Я знал только, что их обладатели были молоды в пору моей молодости, но теперь перестали быть таковыми.
И все же я не уезжал, не слишком отдавая себе отчет в том, чего дожидался, разве что возвращения в Типасу. Слов нет, это безумие, притом почти всегда наказуемое, – возвращаться в места своей юности и желать заново пережить в сорок лет то, что любил или чем наслаждался в двадцать. Но я был предупрежден. Однажды я уже возвращался в Типасу, тогда прошло совсем немного времени после войны, ознаменовавшей для меня конец юности. Кажется, я надеялся снова обрести там ту свободу, которую не мог забыть. Больше двадцати лет назад я, надо сказать, провел в этом месте много утренних часов, бродя среди руин, дыша полынью, согреваясь на камнях, отыскивая небольшие розовые кусты, цветущие по весне, но быстро осыпающиеся. И только в полдень, когда смолкали даже сомлевшие цикады, я убегал оттуда, не в силах выдержать всепоглощающего жара беспощадного света. Иногда ночью я спал с открытыми глазами под сверкающим звездным небом. Тогда я жил. Спустя пятнадцать лет я вернулся к своим руинам, раскинувшимся у самой кромки воды, я шел по улицам забытого города, заросшего померанцевыми деревьями, на косогорах возвышающихся над бухтой, снова гладил колонны цвета хлебной корки. Но тогда руины были уже обнесены колючей проволокой, и попасть туда можно было только через разрешенные входы. Кроме того, запретили по причинам, кажется, нравственного порядка, гулять там по ночам; а днем всегда дежурил охранник. В то утро, конечно, по чистой случайности, руины накрыло дождем.
Сбившись с пути, шагая по пустынной и промокшей округе, я пытался хотя бы обрести ту силу, до сих пор не изменявшую мне, которая помогает принять то, что есть, когда признаешь, что не в состоянии ничего изменить. Да и как я мог повернуть реку времени, придать миру тот лик, который любил когда-то и который исчез в один день, задолго до этого дня. 2 сентября 1939 года я не отправился в Грецию, как планировал. Война сама пришла к нам, а затем накрыла и Грецию. Это расстояние, эти годы, которые отделяли теплые камни от колючей проволоки, я находил в тот день и в себе, стоя перед саркофагами, полными черной воды, или под вымокшим тамариском. Изначально воспитанный в созерцании красоты, бывшей моим единственным богатством, я начинал с полноты восприятия. Затем наступило время колючей проволоки, я имею в виду тиранию, войну, полицию, время бунта. Пришлось урегулировать свои отношения с мраком: красота дня превратилась в воспоминание. В утопающей в грязи Типасе воспоминание блекло. Какая там красота, полнота восприятия и юности! В свете пожарищ мир внезапно обнажил свои морщины и раны, застарелые и новые. Он разом постарел, и мы вместе с ним. Я знал, что тот порыв, за которым явился сюда, способен увлечь только того, кто не ведает о том, что будет увлечен им. Не бывает любви без капли невинности. А где эта невинность? Рушились империи, нации, и солдаты вцеплялись друг другу в глотки. Наши уста были осквернены. Первоначально, сами того не ведая, невинные, мы становились виновными против собственной воли: тайна росла вместе с нашим опытом. Вот отчего мы интересовались – смешно! – нравственностью. Став калекой, я мечтал о добродетели! А раньше, в эпоху невинности, я не ведал о существовании нравственности. Теперь я знал об этом и не был способен жить на такой высоте. На том мысе, прежде мне милом, между мокрых колонн разрушенного храма, возникло ощущение, что я иду за кем-то, чьи шаги еще раздаются по плитам и мозаикам, но кого мне уже никогда не догнать. Я уехал в Париж и несколько лет оставался там, прежде чем вернулся к себе.
И все же все эти годы мне чего-то не хватало. Когда тебе посчастливилось однажды сильно полюбить, жизнь проходит в поисках былого пыла и света. Отречение от красоты и чувственного счастья, неразрывно связанного с нею, эксклюзивное служение несчастью требуют величия, которого мне недостает. То, что принуждает тебя исключать что-либо, в конце концов оказывается ложным. Изолированная от всего красота принимается гримасничать, изолированная справедливость начинает подавлять. Желающий служить только одной из них в ущерб другой, не служит никому, даже себе, и в конечном итоге дважды служит несправедливости. И вот наступает день, когда при своей всегдашней жесткости человек перестает восторгаться – все уже известно, жизнь вращается по кругу. Это время изгнания, бесплодного существования, смерти души. Для возрождения нужны благодать, самозабвение либо родина. Случается, когда в утренние часы за поворотом улицы на сердце опускается восхитительная роса. Она потом испаряется, но оставляет после себя свежесть, а именно ее всегда требует сердце. Мне снова нужно было уехать.
В Алжире, вновь блуждая под тем же проливным дождем, мне казалось, что он и не прекращался со времени предыдущего приезда, который тогда я считал окончательным и всем существом ощущал тоску, разлитую в дождливом морском воздухе, несмотря на это мрачное небо, спины убегающих прохожих, кофейни, чей свет искажал лица, я упорно надеялся. Да и разве я не знал, что алжирские дожди, хотя и кажется, что им никогда не будет конца, прекращаются, причем внезапно, так же, как внезапно испаряется вода в реках моего родного края, за два часа успев подняться, залить гектары полей и исчезнуть? И вот в один прекрасный вечер дождь действительно прекратился. Я подождал еще одну ночь. Влажное ослепительное утро занялось над промытым ливнем морем. С чистого, ясного неба, стиранного и выполосканного во многих водах и доведенного этими бесчисленными стирками практически до прозрачности, спускался какой-то трепещущий свет, делающий очертания каждого дома, каждого дерева резкими и придававший им прекрасную новизну. В подобном свете, должно быть, на заре мира возникла Земля. Я вновь отправился в Типасу.
Из шестидесяти девяти километров пути нет ни одного, который не был бы отмечен воспоминаниями или ощущениями. Неспокойные детские годы, юношеские мечтания среди рокота автобусных моторов, утра, свежие девичьи лица, пляжи, привычное напряжение молодых мускулов, легкая вечерняя тоска шестнадцатилетнего сердца, желание жить, слава и все то же на протяжении многих лет небо с его неистощимыми силой и светом, с его постоянной ненасытностью, из месяца в месяц поглощающее своих жертв, распятых на пляже в похоронный полуденный час. И все то же море, почти неосязаемое по утрам, которое я вновь обрел на горизонте, как только дорога, покинув Сахель с его виноградниками бронзового цвета, спустилась к побережью. Но я не остановился, чтобы полюбоваться морем. Я желал вновь увидеть Шенуа, эту тяжелую прочную громаду, представляющую собой единую каменную глыбу, которая огибает бухту Типасы на западе, прежде чем самой ступить в море. Ее видно издалека – большое голубое образование, сливающееся с небом. По мере приближения цвет становится все насыщеннее, словно густеет, затем он уже как окружающая вода и теперь Шенуа начинает напоминать огромную неподвижную волну, чей сказочный порыв вдруг резко замер, нависнув над внезапно успокоившейся морской стихией. Еще ближе, почти у Типасы, гора предстает хмурой громадой буро-зеленой расцветки, этаким заросшим мхом богом, которого ничто не в силах поколебать, приютом для своих сыновей, один из которых – я.
Не спуская глаз с Шенуа, я наконец ступаю за колючую проволоку вокруг руин. И вот я среди них. И, как случается только раз или два в жизни людей, которые после этого могут считать себя полностью состоявшимися, я обретаю в ликующем декабрьском свете именно то, за чем пришел, и что, несмотря на время и мир, было подарено мне одному посреди окружающего запустения. С форума, усыпанного оливками, можно взглянуть на селение внизу. Ни одного звука не долетает оттуда: в прозрачный воздух от домов поднимается легкий дым. Молчит и море, словно задохнувшееся от непрестанного потока сверкающего и холодного света, проливающегося с небес. И только далекий петушиный крик долетает откуда-то с Шенуа, он один славит недолговечную победу дня. Среди руин, так далеко, как только может видеть глаз, лишь источенные временем каменные глыбы да полынь, деревья да колонны, такие совершенные в кристально-прозрачном воздухе. Кажется, утро замерло, светило остановилось на не поддающееся исчислению мгновение. В этом свете, в этой тишине медленно тают годы ярости и мрака. Я прислушиваюсь к почти забытому шуму в себе, такое ощущение, что мое сердце, давно остановившееся, вновь принимается тихонько биться. И вот, пробужденный к жизни, я узнаю один за другим едва различимые звуки, из которых соткана тишина: basso continuo[40]40
Basso continuo (итал.) – непрерывный бас; аккомпанирующая группа инструментов в музыке XVII–XVIII вв., в которую входят непременно скрипка, виолончель, клавесин, теорба и др.
[Закрыть] птиц, легкие вздохи моря у подножия скал, колебания ветвей деревьев, слепое пение колонн, шелест полынных зарослей, легкие шорохи юрких ящериц. Я слышу это, а еще прислушиваюсь к тем приливам счастья, что поднимаются внутри меня. Мне кажется, я наконец вернулся в гавань, хоть на мгновение пристал к берегу, и что этому мгновению отныне не будет конца. Но немного погодя солнце заметно сместилось в небе. Дрозд исполнил краткую прелюдию, и тотчас со всех сторон хлынули птичьи хоралы, мощные, ликующие, полные радостной дисгармонии и бесконечного восторга. День двинулся дальше. Ему предстояло сопроводить меня до вечера.
В полдень, стоя на полупесчаном склоне, покрытом ковром из гелиотропов, напоминающим пену, оставленную яростными волнами последних дней, я разглядывал море, казавшееся в этот час изможденным и едва способным к движению, и утолял те две жажды, которыми нельзя долго пренебрегать, не подвергая себя иссушению. Я имею в виду жажду любви и жажду любования. Ибо не быть любимым – лишь невезение, но не любить – несчастье. Мы все сегодня умираем от этого несчастья. Это потому, что кровная ненависть иссушает само сердце; продолжительное требование справедливости изводит любовь, которая и породила ее. В яростном шуме нашего мира любовь невозможна, а одной справедливости не хватает. Вот почему Европа ненавидит свет дня и не способна противостоять несправедливости. Чтобы помешать справедливости – этому прекрасному фрукту оранжевого цвета, состоящему целиком из горьковатой и сухой мякоти – высохнуть окончательно, я заново открывал для себя в Типасе следующие истины: необходимо сохранять в себе свежесть чувств и источник радости, любить свет дня, который неподвластен несправедливости, и вернуться в битву с этим вновь обретенным светом. Я заново открывал в здешних местах древнюю красоту, молодое небо и измерял свою удачу, приходя наконец к пониманию, что в худшие годы нашего безумия воспоминание об этом небе ни на миг не покидало меня. Это оно, в конечном счете, не позволило мне отчаяться. Я всегда знал, что руины Типасы моложе, чем возводимые нами здания и развалины нашего времени. Каждый день мир заново начинался здесь в неизменном сиянии нового света. О свет! Это крик всех персонажей античных драм, находившихся перед судьбоносным выбором. Он стал последним прибежищем и для нас, отныне я знал об этом. Посреди зимы я наконец понял, что во мне живет непобедимое лето.
И вновь я расстался с Типасой и вернулся в Европу с ее битвами. Но воспоминание об этом дне все еще поддерживает меня и помогает одинаково воспринимать и воодушевляющее, и удручающее в жизни. Ничего не отвергать и соединять белые и черные нити в одну натянутую струну – чего еще желать в этот тяжелый час, который мы переживаем в настоящий момент? Во всем, что я сказал или сделал до сих пор, мне кажется, присутствуют эти две силы, даже если они и прекословят друг другу. Я не смог отречься от света, в котором родился, и все же не захотел отказываться от отпечатков нашего времени. Было бы слишком просто противопоставить здесь нежному названию Типаса другие, более звонкие и жесткие наименования: путь внутренних странствий современного человека, который мной уже пройден, ведет от холмов разума к столицам преступления, сразу в обоих направлениях. Безусловно, можно всегда отдохнуть, уснуть на холме, как и встать на постой у преступления. Но отказавшись от одной части сущего, отказываются и от самого существования, следовательно, отрекаются от жизни или от любви к жизни. Воля к жизни и принятие действительности без оговорок и нареканий – та добродетель, которую я более всего почитаю. Хоть иногда, по крайней мере, но я хотел бы отдавать ей должное. Мало эпох требуют в той же мере, как наша, чтобы человек одинаково относился и к лучшему, и к худшему; я желал бы ни от чего не уклоняться и в точности сохранить память как об одном, так и о другом. Да, есть возвышенная красота и есть униженные. Какими бы ни были трудности, я желал бы никогда не предавать ни первого, ни второго.
Но эти суждения все еще походят на какую-то нравственную систему, а мы живем во имя чего-то, что идет дальше моральных ценностей. Если бы мы могли назвать, чего именно, как все было бы просто. На холме Святой Сальсы, на востоке от Типасы, вечер преисполнен жизни. Еще светло, но угасающий свет уже возвещает о конце дня. Поднимается ветер, легкий, как эта ночь, и вдруг безмятежное море начинает движение, как широкая пустынная река из одной стороны горизонта в другую. Небо темнеет. И тогда наступает время таинства, ночных богов и запредельных наслаждений. Но как передать это? На одной стороне маленькой монетки, которую я уношу с собой отсюда, различимо прекрасное женское лицо, которое мне повторяет все то, о чем я узнал за этот день, а другая сторона изъедена временем. О чем способен поведать этот рот без губ? Пожалуй, о том же, что говорит иной таинственный голос, живущий во мне, день за днем возвещающий о моем невежестве и счастье:
«Секрет, который я ищу, зарыт в оливковой долине, под травой и хладными фиалками, возле старого дома, пропахшего побегами виноградной лозы. Более двадцати лет я обегал эту долину и все похожие на нее, расспрашивая немых пастухов козьих стад, стучался в двери необитаемых руин. Порой, в час первой звезды, в еще светлом небе, под дождем из тонкого света, мне казалось, что я знаю. Я и правда знал. Может, и до сих пор знаю. Но никому не нужен этот секрет, мне и самому он ни к чему, и я не в силах расстаться со своими близкими. Я живу в семье, которая думает, что царит над богатыми и ужасными городами, возведенными из камней и тьмы. И сутки напролет она громко заявляет о себе. И перед нею склоняется все, что не склоняется ни перед чем: она же глуха ко всяким секретам. Ее сила, возносящая меня, порой надоедает, а крики, бывает, утомляют. Но ее несчастье – мое несчастье, мы с ней одной крови. Я ее сообщник, немощный и шумный: разве не я кричал среди камней? Я пытаюсь забыть, иду по нашим городам из железа и огня, бесстрашно улыбаюсь ночи, призываю бури – и останусь верен. Я и правда забыл: отныне глухой и деятельный. Но, может быть, однажды, когда мы будем готовы умереть от истощения и невежества, я смогу отречься от наших кричащих могил, чтобы пойти и лечь в долине под тем же светом, и в последний раз вспомнить то, что знаю».
1952
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.