Текст книги "Три портрета эпохи Великой Французской Революции"
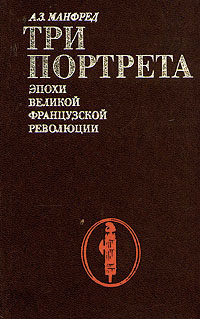
Автор книги: Альберт Манфред
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Буржуазия есть буржуазия. Для нее главным стимулом оставались прибыль, доходы, и Республика, как это ни парадоксально, с ее ожесточенными войнами, смертельной борьбой с внутренними и внешними врагами создавала такие благоприятные возможности для обогащения, каких никогда не было ни раньше, ни позже.
Должно быть принято во внимание и другое. За годы революции произошло крупное перераспределение собственности. Эмигранты, бежавшие за пределы Франции, бросали на произвол судьбы свои замки и земли, они тем самым отдали свои владения в распоряжение нации. Началась конфискация земель, эмигрантских замков, и тот, кто был более ловким, умелым, в короткий период аккумулировал огромное состояние.
Проникали ли эти процессы в ряды якобинцев? Под своды Конвента? В том нет никаких сомнений. Сама якобинская группировка расслаивалась и в какой-то своей части перерождалась. Те люди, которые еще вчера заявляли о своей верности великим принципам справедливости, о готовности служить человечеству, как только представлялась возможность, запускали руки в государственный карман и тащили из него то, что было можно. Процесс Ост-Индской компании, который так подробно был изложен Альбером Матье-зом, показал это превращение части якобинцев в хищников, спекулянтов, казнокрадов, мародеров: Шабо, Ба-зир, Фабр д'Эглаитин, Эро де Сешель и другие депутаты Конвента оказались попросту либо ворами, либо соучастниками жульнических операций.
С какого-то времени стали распространяться слухи, что Жорж Дантон, до сих пор считавшийся одним из самых популярных вождей революции, уединившись в своем поместье Арси сюр Об, ведет образ жизни, трудносовместимый с представлениями о добродетельном и скромном человеке. Здесь нет ни возможности, ни необходимости вдаваться в рассмотрение по существу вопроса о продажности Дантона, который был в свое время поднят Альбером Матьезом. С моей точки зрения, Матьез был все-таки слишком пристрастен к Дантону и в конечном счете несправедлив к знаменитому деятелю революции.
Дантон во всем оставался противоположностью Робеспьера, его прельщала не столько будущность человечества, сколько наслаждения сегодняшнего дня. Это был человек, живший жизнью напряженной, бурной и по возможности более легкой.-Он любил материальные блага этого мира и не лицемерил, не пытался предстать в роли героя, прокладывающего пути будущим поколениям. Весьма возможно, что некоторые из конкретных обвинений, предъявленных Дантону сто пятьдесят лет спустя после его смерти Матьезом, имели под собой реальную почву. Дантон действительно последний год жил на широкую ногу. Откуда брались деньги для этой легкой, беспечной жизни – это остается и до сих пор недостаточно ясным. Но вместе с тем нельзя забывать и той большой роли, которую Дантон сыграл в критическое для Республики время, в сентябре 1792 года, когда он стал человеком, наиболее полно воплотившим все национальные силы Республики. Его с должным основанием и Маркс и Ленин называют великим мастером революционной тактики. Дантон остался французским патриотом и в последние дни своей жизни. Теперь вполне доказано, что у Дантона, осведомленного о подготовляемом против него ударе, были реальные возможности бежать из Франции. Знамениты вошедшие в историю слова Дантона: «Разве можно унести отечество на подошвах башмаков!» Это не было красивой фразой, эти слова выражали сущность Дантона. Дантон отказался от предоставленной ему возможности бежать. Он шел навстречу опасности с высоко поднятой головой.
Мы уклонились несколько в сторону и отошли от основного предмета. Хотел того Дантон или нет, но в силу своего политического и государственного авторитета он невольно становился тем центром, вокруг которого объединились все недовольные справа революционным правительством. Все те, кто нажил огромные деньги, но был вынужден прятать их в кубышки и ходить в скромном бедном костюме, чтобы не привлекать к себе внимания, все те, кто имел основания опасаться тяжелой руки Комитета общественного спасения, кто с тревогой оглядывался на Робеспьера, не замечает ли он тайных проделок, к которым они прибегают, – все они искали покровительства и защиты. Хотел того или нет, повторяем еще раз, Дантон, но он невольно становился вождем, защитником этой группы разбогатевших людей.
Растущая, быстро набиравшая мощь новая, спекулятивная буржуазия и стала той главной силой, которая потенциально была направлена против революционного правительства. До поры до времени она должна была с ним мириться, хотя и была занята только наживой, одной лишь наживой, ничем иным. Но кто-то должен был защищать Францию от армий интервентов, кто-то должен был обеспечить победу на фронтах. Это могли сделать люди железной закалки, люди калибра Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, Леба, а не все эти дельцы, стяжатели, озабоченные наполнением своих карманов. И дельцы аплодировали Робеспьеру, объявляли себя верными сторонниками Горы, революционерами и защитниками революционного правительства. Они знали, что если интервенты победят, если осуществится реставрация старого строя, то надо будет все отдавать, не только награбленное богатство, но и поместья и замки, которые они сумели купить за бесценок, всем придется за все поплатихься. Поэтому до поры до времени они поддерживали революционное правительство, возглавляемое Робеспьером.
Но когда к весне 1794 года стало уже вполне очевидным, что революция побеждает, что армии Республики переходят в контрнаступление против армий интервентов, когда постепенно один департамент Франции за другим переходил под власть Республики, тогда в их среде зародилась мысль, что надо искать пути освобождения от этой жесткой и требовательной власти.
Поворот вправо новой, спекулятивной буржуазии, ставшей ведущей классовой силой, повлек за собой и поворот крупного, собственнического крестьянства. Не следует забывать, что на продаже национальных иму-ществ, как и на дележе общинных земель, на распродаже эмигрантских владений разбогатела не только городская буржуазия, но и крестьянская верхушка деревни. За годы революции возник новый класс, многочисленный класс крестьян-собственников, держащихся за каждый участок приобретенной земли. Эти крестья-не-собственпики также мирились с якобинской властью до тех пор, пока угрожала опасность возвращения сеньоров, возвращения помещиков, пока крестьянин боялся, что у него отберут землю и заставят снова работать на бар. Французская армия была в основном крестьянской армией. И крестьяне дрались не на жизнь, а на смерть с вражескими войсками, потому что они защищали в этой войне приобретенные ими владения, дрались за свои кровные интересы.
Но когда победа стала склоняться на сторону Республики, в особенности после решающего сражения под Флерюсом в июне 1794 года, когда опасность реставрации перестала быть реальной угрозой, крестьянство, зажиточное крестьянство прежде всего, стало открыто выражать свое недовольство якобинской диктатурой. У крестьянства были для этого и вполне реальные материальные основания. Якобинская власть действовала жестко. 14 армий нужно было накормить, солдатам надо было каждый день давать хлеб. И революционное правительство не очень-то церемонилось, дабы обеспечить снабжение армии. Не колеблясь, Комитет общественного спасения принял ряд законов о реквизиции зерна, реквизиции хлеба, реквизиции продовольствия, об обязательных поставках, которыми крестьяне должны были обеспечить армию. В свое время академик H. M. Лукин убедительно показал, как велико было недовольство зажиточных слоев деревни политикой реквизиций и конфискаций, которую проводило револю-ционнос правительство .
Итак, вслед за буржуазией против якобинского правительства повернуло и зажиточное и в значительной мере среднее крестьянство. Социальная база якобинской диктатуры быстро размывалась.
Эти подспудные процессы, столь ясные и очевидные для нас, людей конца XX века, были менее видны непосредственным участникам революционной борьбы.
X
С начала 1794 года уже более или менее определенно, отчетливо стали обозначаться противоречия в самой якобинской группировке. В марте 1794 года Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон не могли уже обманываться в том, что против революционного правительства возникает нажим с двух сторон. На первый план как будто выдвигалась опасность, шедшая со стороны левых группировок в рядах якобинского блока, которых часто неточно называют эбертистами. Группа эбертистов была лишь частью левого крыла и сама не представляла собой чего-либо однородного. Сам Эбер, редактор весьма популярной газеты «Пер Дюшен», газеты в псевдонародном, полулубочном стиле, был человеком без отчетливых политических воззрений <В библиотеке ИМЛ при ЦК КПСС имеется полный комплект «Pиre Duchesne» Збера.>. Его газета, претендующая на роль политического рупора санкюлотов, с осени 1793 года и по март 1794 года занимала по большинству вопросов крайне левые, чтобы не сказать «левацкие», позиции. Эбер представлял экстремистское крыло якобинского блока. Эбер вместе с Фуше и Шометтом в свое время выступил пропагандистом и организатором так называемой политики дехристианизации. Воздействуя грубыми методами, сторонники этой политики требовали, чтобы священники отказывались от своего сана, закрывали церкви, вели открыто антицерковиую политику. Дехристианизаторская политика с ее гонениями на церковнослужителей вызвала недовольство крестьянства: оно осуждало эту политику. Робеспьер с его широким кругозором и ясным пониманием государственных задач вмешался и пресек деятельность дехристиа-низаторов. Он публично осудил принудительное закрытие церквей и гонения против священников как меры, не отвечающие политике революционного правительства. Авторитет Комитета общественного спасения был так велик, что Эбер, Шометт и Фуше поспешили покаяться в своих прегрешениях, и дехристианизаторская политика была всеми ими осуждена.
Но Эбер под флагом служения санкюлотам, простым людям предлагал и меры, непосредственно затрагивавшие интересы революционной власти. Он призывал к войне, беспощадной, жестокой войне против всех категорий торговцев, не только крупных, но и мелких, против зеленщиков, против женщин, торгующих редиской, В его глазах все они превращались во врагов революции. Это было уже опасным; такое «левачество», говоря терминами наших дней, грозило восстановить против революционной власти мелкую буржуазию, бедный люд.
Критические стрелы газеты Эбера были направлены против Дантона и дантонистов, так называемых снисходительных. Но направляя удары против Дантона, он целил одновременно и в революционное правительство Робеспьера и Сен-Жюста, хотя у Эбера не хватало храбрости сказать это вслух..
В марте 1794 года Эбер и его-сторонники предприняли попытку поднять восстание против революционного правительства. В Клубе кордельеров, где выступал Эбер, они, завесив траурным покровом Декларацию прав человека и гражданина, призывали к восстанию, хотя и без должной решимости и твердости в голосе. Призывая к восстанию против революционного правительства, к повторению дней 31 мая – 2 июня, Эбер рассчитывал на то, что этот призыв будет поддержан Парижской коммуной. Но Коммуна Парижа во главе с Шометтом отмежевалась от эбертистов и выступила против авантюристического плана. Большинство секций также не поддержало призыв Эбера. Почувствовав, что дело его идет к проигрышу, Эбер стал доказывать, что он не имел в виду восстание против правительства. Тем не менее судьба его была уже решена. 24 марта Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и другие близкие к эбер-тистам политические вожди, большей частью левые якобинцы, были арестованы и преда-ны Революционному трибуналу.
Процесс эбортистов представлял собой новую главу в практике применения революционного террора. До сих пор гильотина действовала только против врагов революции. Процесс эбертистов был первым политическим процессом, в котором террор стал инструментом решения разногласий внутри якобинского блока.
Лично Эбер предстал на процессе в крайне непривлекательном виде. Он был малодушен, труслив, перекладывал вину на других, пытался сам уйти от ответственности и оставил у присутствующих крайне тяжелое впечатление. Но каким бы ни было поведение Эбе-ра, процесс этот принципиально был важен, потому что здесь острие революционного террора было повернуто против членов одной и той же группировки.
Нес ли Робеспьер за это политическую ответственность? Да, конечно. Он знал, на что шел, и сам этот процесс с точки зрения правовой представлял собой явное отклонение от общепринятых норм судопроизводства.
Процесс эбертистов проходил в форме так называемой амальгамы. Суть этого приема, изобретение которого приписывается чаще всего Фукье-Тенвилю, прокурору Революционного трибунала, заключалась в следующем. Лица, действительно виновные в тех или иных политических акциях, соединялись механически с группой других лиц, с которыми в реальной жизни не были связаны. Например, к процессу эбертистов была присоединена группа иностранных шпионов – так они по крайней мере были представлены публике – Проли, Перейра, Дефие и другие. Это и было амальгамой: люди, не имевшие ничего общего с эбертистами, были с ними соединены воедино. В процессе участвовал и прямой полицейский агент, который был разоблачен тем, что в конце остался единственным живым из всех участников процесса106.
Знал ли обо всех этих деталях, всех этих правовых нарушениях Робеспьер? Об этом трудно судить, он не был, конечно, вездесущ, и собственно аппарат репрессивных органов не был в его руках – он подчинялся Комитету общественной безопасности, но политическую ответственность за процесс эбертистов он нес. Казнь Эбера, Моморо, Ронсена, Венсана была предрешена Комитетом общественного спасения еще до того, как Революционный трибунал вынес им смертный приговор.
Борьба внутри якобинского блока толкала Робеспьера и дальше. Поражение эбертистов, открытых противников дантонистов, привело к резкому усилению группы «снисходительных». Главным противником были все-таки правые силы, а не левые, и удары по группировкам (обоснованные или нет – это дело особое), чи7 едящимся левыми, объективно усиливали правых. Внешним выражением этой возросшей роли правого крыла, атакующего революционное правительство, было издание газеты «Старый кордельер» Камилла Дему-лена. Из номера в номер Камилл Демулен, талантливый журналист, острый полемист, все несдержаннее, все резче нападал на Комитет общественного спасения.
Для Робеспьера психологически вопрос о борьбе против дантонистов осложнялся тем, что он был связан личной дружбой с Камиллом Демуленом. Они были когда-то школьными товарищами, сидели чуть ли не за одной партой и сохраняли добрые отношения до последних дней. В черновых записях Робеспьера, получивших после его смерти известность под названием «Заметки против дантонистов», Максимилиан Робеспьер писал: «Камилл Демулен по причине изменчивости его воображения и по причине его тщеславия был способен стать слепо преданным приверженцем Фабра и Дантона. Таким путем они толкнули его к преступлению; но они привязали его к себе только ложным патриотизмом, который они напустили на себя. Демулен проявил прямоту и республиканизм, пылко порицая в своей газете Мирабо, Лафайета, Варнава и Ламета в то время, когда они были могущественными и известными, и после того, как он раньше искренне хвалил их»191. Эти примечательные строки показывают, что накануне решающих действий Робеспьер сохранял еще прежнее расположение к Демулену.
Процесс против Дантона и дантонистов, хотя и не имел такой подробной и полной протокольной записи, как процесс эбертистов, освещен достаточно полно в специальной литературе, и о нем можно составить вполне отчетливое представление. Здесь добавлять к известному почти нечего. Но психологически для историка, быть может, более важны, чем сам процесс (исход которого был заранее предрешен), его прелиминарии, конечно не в сфере формальной, юридической. Я имею в виду иное. Как постичь трудно поддающийся точным определениям духовный процесс нисхождения вчерашних друзей – молодых людей, полных жизненной силы, оптимизма, идущей от молодости беспричинной радости, – перехода в ущербный мир отлучения, отчуждения, за которым следует недолгий, все убыстряющийся, неостановимый спуск в подземное царство смерти? Из протоколов Якобинского клуба, изданных Альфонсом Оларом, известно, хотя бы в краткой несовершенной записи, как происходило в клубе обсуждение вопроса о последних номерах «Старого кордельера» Камилла Демулена (напомним, что последний номер газеты был конфискован постановлением революционного правительства) и о его редакторе. Следует ли добавлять, что весной 1794 года все участвовавшие в обсуждении Демулена уже вполне отчетливо понимали, что исключение из Якобинского клуба почти автоматически влечет за собой предание Революционному трибуналу?
Пусть простят меня строгие судьи – мои собратья по цеху историков-специалистов и взыскательные читатели, не любящие каких-либо отклонений от установленных норм, за то, что вместо изложения подтверждаемых точными документами подробностей решающего для судьбы Демулена заседания я пошел несколько иным путем.
Я попытался, опираясь на предоставленное историку право дивинации, нарисовать ту же картину исключения Демулена из Якобинского клуба, но несколько иначе: через восприятие его женой Камилла – Люсиль Демулен.
И вот что у меня получилось.
Когда начало темнеть, Люсиль подошла к окну. Заседание якобинцев могло уже кончиться, и по тому, как он возвращается – по его походке, посадке головы – держал ли он ее высоко поднятой или низко опущенной, по многим другим приметам – она сразу бы поняла, чем же завершился этот решающий день.
Но время шло, сумерки быстро сгущались; на улице становилось все меньше прохожих. Когда стало совсем темно, она прошла к креслу, с ногами свернулась в мягком сиденье и стала прислушиваться.
Как медленно, мучительно шло время. Стояла такая тишина, что можно было расслышать приглушенные шаги редких прохожих по тротуару. Потом опять долгая, ничем не нарушаемая тишина.
Но вот внизу хлопнула дверь, и она услышала его шаги. По этим нетвердым, неровным шагам, медленно поднимающимся по скрипучей лестнице, она поняла: все пропало.
Не надо было ни о чем спрашивать; слова были не нужны. Некоторое время они сидели молча, друг против друга. Потом Камилл не выдержал: сбивчиво, неясно, заикаясь сильнее, чем обычно, он стал рассказывать, как все это произошло.
Его терзали запоздалые, бесполезные самоугрызения: надо было выступать совсем иначе, не так; надо было самому переходить в наступление, раскрыть глаза на чудовищность совершаемого. Надо было им крикнуть: «Опомнитесь! Очнитесь! Великий боже! Кого вы хотите исключить? Саму революцию? Самих себя? „Генерального прокурора фонаря“, человека, первым бросившего в горячие дни июля 89-го года в Пале-Рояле призыв к штурму Бастилии, редактора „Революций Франции и Брабанта“, Камилла Демулена, пять лет воплощавшего революцию? Демулена нельзя исключать, не поднимая руку на саму революцию, не перечеркивая все совершенное ею…»
Вот если бы он так сказал, они бы остановились. И Максимилиан, Максимилиан, столько раз бросавший на него быстрые, косые, как бы внутренне смятенные взгляды, Максимилиан призвал бы их к порядку: он бы понял, что здесь проходит грань, непреодолимый рубеж. Переступи через эту грань, через пропасть раз, и завтра могущественная и всевозрастающая сила лавины всех увлечет, всех затянет вниз, в бездонную пучину.
Но эти неотразимые в своей суровой правдивости слова не были произнесены. И теперь ничто не могло изменить неотвратимого, заранее предрешенного хода событий.
И Камилл заплакал – силы его оставили, он больше не мог ни на что надеяться.
И он плакал, плакал громко, всхлипывая, как ребенок, уткнувшись лицом в колени Люсиль. А Люсиль, нежная Люсиль гладила мягкой теплой рукой его взлохмаченные волосы, его мокрое от слез лицо и тихо успокаивала: «Ничего, мой маленький, ничего, все обойдется. Наступит утро, будет светло, все станет на свое место, и мы снова будем счастливы».
Ей и вправду, наверно, казалось, что, когда кончится эта мучительная ночь, когда рассеются ночные тени и вновь наступит ясный, озаренный солнечными лучами день, все само собой вернется к прежнему, и она будет снова слышать не всхлипывания Камилла, а его задорный, поддразнивающий смех.
Могла ли тогда знать Люсиль, что уже брезжущий рассвет будет еще беспощаднее, чем эта ночь, что в один из ближайших дней скатится под ножом гильотины голова Камилла, а ьще позже, через месяц, и она сама в белом, нарядном, почти подвенечном платье поднимется на эшафот, чтобы, закрыв глаза, ждать, как избавления от мук, когда на нее опустится нож палача.
Политический процесс против дантонистов был в чем-то существенном отличен от так легко проведенного разгрома группировки эбертистов. Различий было много. Прежде всего группа «снисходительных», как чаще всего именовали группировку Дантона, была в действительности самой влиятельной силой в стране. Независимо от того, какую роль в революционном правительстве или в Конвенте играли единомышленники и сторонники Дантона, они представляли объективно ту классовую силу, мощь которой день ото дня возрастала. Хотел того Дантон или нет, но он становился руководителем тех кругов буржуазии, может быть, даже шире – зажиточных слоев собственников вообще, которые считали, что пора переходить от революционных деклараций, от режима чрезвычайных мер к будничной республике буржуазии, открывающей возможности для реализации практических завоеваний революции. Эта сила возрастала день ото дня, час от часа, она стала богатой, экономически влиятельной и она не хотела больше слушать речи о добродетели, долге перед отечеством, о героизме, священных принципах равенства, о всем том, что противоречило простой и грубой потребности воспользоваться поскорее и полностью, в свое удовольствие материальными благами, приобретенными за это время.
Повторяю еще раз, что в этих строках дано схематическое, если угодно, упрощенное изображение социальных процессов, совершавшихся в то время. Дантон – человек большой личной одаренности, разносторонне талантливый, и не подлежит сомнению, что он представлял себе свои задачи на данном этапе революции ©т-нюдь не так просто, как только что говорилось. Принято считать – и здесь нельзя не согласиться с теми авторами, которые создали немало трудов о знаменитом французском политическом деятеле, – что политическая программа Дантона весной 1794 года требовала смягчения революционного режима, учреждения Комитета милосердия, прекращения террора или значительного ослабления его и постепенного перехода к конституционному республиканскому режиму. Эта характеристика также слишком прямолинейна, но в задачи данного повествования но входит рассмотрение образа Дантона во всей его сложности и противоречивости. Речь идет об ином.
Робеспьер, начиная борьбу против Дантона, отдавал, не мог не отдавать себе отчета в том, что его противником выступает политический деятель, обладающий почти равным с Робеспьером авторитетом. Робеспьер отдавал себе отчет в том, что борьба против Дантона будет труднее, чем против Эбера или какого-нибудь Проли. Робеспьер должен был задуматься и над тем, насколько допустимо применение по отношению к политическим деятелям, имеющим крупнейшие заслуги перед революцией, тех же средств революционного террора, которые применялись против эбертистов. Здесь вновь возникал вопрос о границах допустимости революционного террора. Что значило предать Жоржа Дантона или Камилла Демулена Революционному трибуналу? Это означало отправить их на гильотину. Комитет общественного спасения не для того затевал политический процесс, чтобы открывать дебаты, допускающие любое возможное решение. Приговор был известен раньше, чем начался судебный процесс. Судебный процесс для того и проводился, чтобы повергнуть противника в небытие.
Чтобы психологически объяснить, как человек несомненно честный, в политических помыслах старавшийся всегда оставаться честным перед самим собой, как мог Робеспьер решиться на предание казни Жоржа Дантона и Камилла Демулена или Филиппо и других их друзей, нужно понять систему взглядов Неподкупного.
Робеспьер был убежден в том, что после огромных усилий народа, после ожесточенных сражений и наконец обозначившегося перелома в борьбе с контрреволюцией Республика подходит все ближе к осуществлению своих идеалов. Тот «золотой век», то царство равенства и справедливости, то слияние человеческого общества с великой, всегда цветущей зеленой природой, о котором мечтал много лет последователь Жан-Жака Руссо и которое пытался претворить в жизнь глава революционного правительства Максимилиан Робеспьер, этот идеальный мир, казалось Робеспьеру, был уже недалек. Что было препятствием к достижению этой цели? Раньше этим препятствием были роялисты, аристократы. Вторым эшелоном противников на пути приближения к идеальному строю были фельяны, Лафайеты, Байи, Муньс и иные приверженцы конституционной монархии. Революция их также отбросила и смела со своего пути. Третьим эшелоном были жирондисты – Бриссо, Верньо, Бюзо, Ролан и другие. Народное восстание 31 мая – 2 июня 1793 года сломило власть Жиронды и жирондистов.
После победы над Жирондой существовала недолгое время иллюзия, будто теперь можно сразу же перейти к этому справедливому обществу равенства. Написанный Робеспьером проект конституции 93-го года и принятый Конвентом текст новой конституции Республики доказывали, что у руководителей Горы, у якобинцев, была почти полная уверенность в том, что они близки к достижению этого справедливого, высшего общественного строя.
Жизненная практика разбила эти надежды, опровергла их. Для того чтобы достичь этого общества лучшего мира, нужно было преодолеть еще натиск столь могущественных противников, как феодальная Европа, вся коалиция европейских держав, опиравшаяся на силы внутренней контрреволюции. Противники, обозначившиеся после 2 июня, были во много раз сильнее предшествовавших. Но тот же опыт показал, что и эта, казалось бы, невероятно трудная задача была по плечу якобинцам. Они осуществили невероятное. Нищая, голодная, изолированная Французская республика, сражаясь против всей или почти всей феодальной контрреволюционной Европы, сумела одержать над ней победу. Это было чудом, но к весне 94-го года это чудо стало действительностью, реальностью. В него все поверили, поверили друзья Республики и ее противники. На всех фронтах армии Республики перешли в контрнаступление. Значит, после того как были сломлены эти самые могущественные силы, стоявшие на пути к достижению цели, ничто больше этому не препятствовало. Так логично, так можно было бы думать.
И теперь, когда в представлении Робеспьера уже как бы обозначились контуры близкого лучшего мира, перед ним встали новые препятствия: группа эбсрти-стов, группа дантонистов, новые эшелоны противников революционного движения вперед, всех тех, кто мешает достижению «царства добродетели» – последнего предела к его установлению.
Робеспьер был революционером в самом точном значении этого слова. Он стремился к достижению цели, которой посвятил всю свою жизнь. И когда он пришел к убеждению, что этот справедливый, .лучший мир не может быть достигнут без сокрушения эбертистов и дантонистов, вопрос для него был решен.
Перечитывая еще раз «Заметки против дантонистов», мы нигде не обнаруживаем следов его душевных колебаний или каких-либо внутренних сомнений. Выше отмечалось, что в этих заметках нельзя найти ничего враждебного лично к Камиллу Демулену, но к Дантону Робеспьер подходит пристрастно. Он подчеркивает прежде всего его отрицательные черты. Он считает его интриганом, он ищет в его политической биографии преимущественно недостатки. Стоит вспомнить, что было время, когда Робеспьер выступал в защиту Дантона. Еще сравнительно недавно во время встречи с Дантоном он старался найти пути примирения с тем, кто мот бы стать его политическим противником. Эти примирительные ноты по отношению к Дантону полностью исчезают со страниц черновых заметок, заметок, написанных для самого себя. Что же, это лишний раз подтверждает ту версию, которая только что была предложена: Робеспьер для себя самого решил, что необходимо сломить, опрокинуть эту последнюю силу, вставшую на пути к достижению лучшего, справедливого строя.
Непосредственное осуществление разгрома группы дантонистов оказалось труднее, чем предполагал Робеспьер. Дантон отказался – об этом было уже выше сказано – от предоставленной ему возможности бежать. Это было не в его правилах, это противоречило его натуре борца, идущего навстречу опасности. И в этом поведении Дантона, доказывающем его историческое величие, были, вопреки расчетам Робеспьера, и реальные шансы на успех.
Дантон на судебном процессе в Революционном трибунале избрал своей тактикой нападение. На первый чисто формальный вопрос о месте жительства и об имени он отвечал: «Местом моего жительства вскоре будет нирвана, а мое имя вы найдете в пантеоне истории». Он перешел в первой же, практически возможной связной речи к нападкам на своих врагов. Не он должен был защищаться, утверждал Дантон, но его противники. «Пусть покажутся мои обвинители, и я ввергну их в ничтожество, – гремящим голосом возглашал он в переполненном до отказа зале. – Люди моего закала неоценимы, у них на лбу неизгладимые знаки, отмеченные печатью свободы, республиканский гений». Конечно, это фразеология XVIII века, эпохи революции, но всем стилем своих ответов Дантон показывал, как намерен он вести свою защиту на судебном процессе. Дантон обладал голосом поразительной мощи, в этом он уступал разве лишь Мирабо. Гремящий голос Дантона, доносившийся сквозь распахнутые окна судебного помещения, собрал на улице огромную толпу. Он с таким искусством, с такой силой напора, с такой убежденностью в своей правоте контратаковал своих обвинителей, что симпатии присутствующих в зале и собравшейся на улице толпы народа явно склонялись в его сторону.
Камилл Демулен под влиянием смелой атаки Дантона также перешел в контрнаступление, и обвиняемые по существу превратились в обвинителей. Исход процесса становился совершенно неясным, и Фукье-Тен-виль, убедившись в том, что он не может достичь не только морального, но и юридического превосходства над своими противниками, прервал судебное заседание. Но когда процесс возобновился, исход его по-прежнему оставался неясным. Потребовалось личное вмешательство Сен-Жюста, приехавшего в здание Революционного трибунала и изменившего процедуру судебного следствия. Грубо попирая формальные законы, Фукье-Тен-виль упростил судебную процедуру: после того как обвиняемые были фактически лишены слова, Камилл Демулен свернул в комок приготовленный им ранее текст речи и швырнул в лицо обвинителя. Он отказался продолжать в условиях грубого попрания законности защиту.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































