Текст книги "Три портрета эпохи Великой Французской Революции"
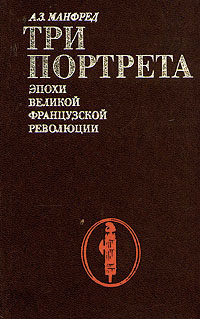
Автор книги: Альберт Манфред
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
VII
В Маноске Мирабо – наконец-то! – берется за дело. Он оттачивает остро гусиные перья и торопливо пишет, торопливо потому, что чувства опережают мысли. Ему так не терпится скорее вылить на бумаге все свое негодование, накопленное за долгие годы раздражение, все свои обиды, возмущение, ярость, что он не в состоянии сразу придать этим бушующим чувствам должную, логическую, подчиненную строгим литературным правилам форму.
Название приходит раньше всего; оно ясно и определенно: «Опыт о деспотизме»7. В этом названии нет лишней, неуместной чувствительности и вполне точно обозначен противник. Деспотизм – вот враг! Вот главный противник, по которому следует вести прицельный огонь.
В том же 1774 году в Лондоне на английском языке вышла книга автора, по понятным причинам пожелавшего остаться неизвестным. Но, несмотря на английское издание и прямые указания автора на то, что сочинение написано в связи с нашумевшим в то время «делом Уилкса», содержание сочинения заставляло полагать, что анонимный автор, вероятнее всего, был французом и испытал сильное влияние французской просветительной мысли. Книжка называлась «Цепи рабства» («The chains of slavery» ). Сочинение обратило на себя внимание; позже, в 1793 году, на французском языке оно было издано во Франции. В этой сравнительно небольшой по объему, но экономно и в энергичном стиле написанной книге была дана последовательная и систематизированная критика деспотизма на множестве примеров прошлого и некоторых, не всегда точно обозначенных, фактах современности8.
Автор повторил в качестве названия своего сочинения заголовок известного политического памфлета Джона Лильберна эпохи английской революции XVII века. Хотя в предисловии говорилось, что книга подсказана задачами избирательной кампании, сочинение было произведением не столько английской общественной мысли, сколько французской.
Автор «Цепей рабства» 1774 года шел от Жан-Жака Руссо. Он не только открыто провозглашал себя его последователем, но и принимал полностью аргументацию Руссо, повторял ее и развивал дальше. В частности, он делал, несомненно, важный, значительный шаг вперед от Руссо, принимая как непреложный тезис о праве народа на сопротивление, на противодействие тирании деспотизма. Автор подвергал конкретному рассмотрению – теоретически и с точки зрения практики – вопросы вооруженной борьбы или даже вооруженного восстания народа, против ига деспотии.
«Цепи рабства» и обратили на себя внимание современников именно потому, что в этой книге впервые в политической литературе того времени проблемы борьбы против деспотизма переносились из плана морального осуждения в сферу реальных, конкретных практических действий. Это значило, говоря иными словами, что в книге ставился вопрос не только о том, что такое «цепи рабства», в чем проявляется и какие формы приобретает деспотизм, но и как его уничтожить, как разбить «цепи».
Автором сочинения, остававшимся еще ряд лет загадочным, был живший в ту пору в Англии известный в медицинских кругах доктор медицины университета святого Эндрьюса в Эдинбурге, естествоиспытатель, биолог и физик, уроженец г. Будри, кантона Невшатель в Швейцарии, Жан-Поль Марат, вошедший позже в историю под именем Друга народа – по названию газеты, издаваемой им в годы Великой французской революции.
Знал ли Оноре-Габриэль Мирабо «Цепи рабства» анонимного автора? С полной определенностью ответить на этот вопрос затруднительно, но можно утверждать с большой долей вероятности, что, когда он начинал собственное сочинение о деспотизме – весной 1774 года, он этого произведения не знал. Он его и не мог знать, хотя бы потому, что «Цепи рабства» вышли из печати в конце 1774 года9, а Мирабо начинал свой «Опыт о деспотизме» в апреле – мае того же года. Может быть, он с ним познакомился позже? Такое допущение возможно, но существенного значения оно не имеет.
Сопоставление «Цепей рабства» Марата с «Опытом о деспотизме» Оноре де Мирабо заслуживает внимания прежде всего потому, что оба автора, не знавшие друг друга, пришли самостоятельно к весьма близким, чтобы не сказать тождественным, заключениям.
В «Опыте о деспотизме» Мирабо писал: «Долг, интерес и честь предписывают сопротивляться высшим распоряжениям монарха и даже вырвать у него власть, если злоупотребления его могут уничтожить свободу и не остается иных средств ее спасти»10.
Достаточно сопоставить эти строки с соответствующими страницами «Цепей рабства» Марата11, чтобы убедиться, что оба автора одновременно и вполне независимо друг от друга пришли к общему, принципиально важному и новому в развитии французской общественной мысли XVIII века заключению. Выраженные разными словами положения Жан-Поля Марата и Оноре-Габриэля де Мирабо заключались в том, что если деспотизм власти (монарха) попирает свободу, то народ не только вправе, но и обязан оказать сопротивление покушению на свободу, вплоть до свержения власти монарха, если это окажется необходимым.
То был политический вывод капитальной важности.
Кажущееся случайным на первый взгляд совпадение дат – и Жан-Поль Марат, и Мирабо, ничего не знавшие в ту пору друг о друге, пришли к этому выводу одновременно, в 1774 году, – в действительности имеет определенное объяснение и в какой-то мере закономерно.
За годы, прошедшие со времени написания «Общественного договора» Жан-Жака Руссо, произведения, справедливо считавшегося самым передовым в мировой прогрессивной мысли XVIII века, за минувшие одиннадцать-двенадцать лет кризис феодально-абсолютистской системы во Франции настолько обострился, атмосфера общественного недовольства настолько накалилась, что абстрактно-теоретические выводы Руссо уже оказывались недостаточными. 1774 год – год преддверия так называемой мучной войны – широких, принимавших угрожающий для властей характер крестьянских выступлений, во многих случаях вооруженных, прокатившихся почти по всему королевству. «Мучная война» разразилась в 1775 году, но вызревала она ранее. Предпосылками крестьянских восстаний и выступлений 1775 года были прогрессирующее обнищание и голод среди подавляющего большинства производителей хлеба и других необходимых жизненных благ. Непомерная, всевозрастающая алчность сеньоров, помещиков, интендантов, откупщиков, местных сборщиков налогов, судебных властей, церкви с ее «десятиной», полиции и жандармерии во всех их разветвлениях, всего чудовищно огромного аппарата феодально-абсолютистской монархии и привилегированных сословий, существующих и богатеющих за счет беспощадной эксплуатации крестьянства, привела его к концу 60-х – началу 70-х годов к полному разорению.
Кризис режима, нараставший и углублявшийся на протяжении многих лет, коренился прежде всего в аграрных отношениях, в оскудении сельского хозяйства, в разорении крестьянства, в крайнем обострении классовых противоречий между крестьянством и всеми угнетавшими, эксплуатирующими его паразитическими группами феодально-абсолютистской монархии. Освобождение крестьян от феодальных повинностей, поборов и всех прочих форм угнетения, порожденных режимом феодального «старого порядка», становилось условием его существования.
Это, конечно, все трюизмы, и автор должен за них просить прощения у читателей. Но эти давно знакомые, кажущиеся нам привычными положения в последние десятилетия (как, впрочем, и раньше) берутся под сомнение некоторыми историками и публицистами, пытающимися уверить нас в том, что Великая французская революция по сути дела была не нужна, так как никаких реальных противоречий в старой предреволюционной Франции не существовало.
Вот почему мне представляется необходимым еще раз повторить в данном контексте эти кажущиеся некоторым авторам старомодными истины. Ведь только исходя из этих аксиоматических положений можно объяснить образ мышления, образ действий трех главных героев данного исторического повествования.
Но если классовые противоречия в деревне были основными в углублявшемся кризисе режима и аграрный вопрос стал главным в назревавшей буржуазной революции, то это вовсе не значило, что они были единственными и что кризисные явления сводились только к ним. Нет, конечно. На эти основные противоречия наслаивались многие другие, порою не менее острые, и в сознании людей того времени иные конфликтные ситуации казались нередко более значительными, более важными, чем первые. Не подлежит сомнению, например, что для либеральной дворянской и буржуазной оппозиции война абсолютистского правительства Людовика XV против парламентов, как и вся открыто реакционная политика последних лет его царствования, обычно связываемая с именами Мопу и Терре, представлялась главным злом и вызывала наибольшее недовольство и раздражение.
Не случайно поэтому смерть Людовика XV, «Людовика любимого» (le bien aimй), каким его хотели бы представить в наше время Гаксотт и иные историки крайне правого направления12, – смерть в 1774 году этого так долго царствовавшего монарха была встречена с облегчением. Никто, кроме, быть может, графини Дю-барри, не оплакивал этой непредвиденной кончины (король умер от ветряной оспы). Все до неприличия откровенно радовались восшествию на престол нового, молодого монарха – Людовика XVI; на него возлагались все надежды.
У авторов двух почти одновременно появившихся книг о вреде деспотизма, у Оноре-Габриэля де Мирабо и Жан-Поля Марата, остававшихся во всем остальном глубоко, я бы даже сказал, принципиально различными, помимо общих, свойственных всей просветительской мысли мотивов существовали и побудительные стимулы, связанные с личной биографией каждого.
О Марате речь здесь не идет <Я пытался это в свое время объяснить в книге «Марат» (серия «Жизнь замечательных людей»), по должен к этому добавить, что если бы я ее писал сейчас, пятнадцать лет спустя, то она была бы написана несколько иначе.>.
В том, что касается Мирабо, то у него к двадцати пяти годам было уже вполне достаточно чисто личных причин кипеть выходящим из берегов негодованием против деспотизма. За недолгие годы своей взрослой жизни он сумел в полной мере познать деспотизм отца, деспотизм матери, деспотизм монархии и ее институтов. Спору нет, эти злоключения молодого графа Мирабо придавали его обвинительным речам против произвола деспотизма особую искреннюю убежденность. Но было бы ошибочным, на мой взгляд, как это делают некоторые его биографы, объяснять первые литературные выступления Мирабо против абсолютистского режима только несчастливо сложившимися для него годами молодости под суровой рукой тиранического отца.
Нет, основа антиабсолютистских выступлений Мирабо была и глубже и шире. Она была рождена не только и даже не столько просветительской литературой XVIII века, на которой воспитывалось все современное ему поколение, но и прямым соприкосновением с действительностью, с теми настроениями всеобщего недовольства, атмосферой приближающейся грозы, которые не мог не чувствовать любой внимательный наблюдатель. Мирабо был из их числа. Он умел замечать приметы своего времени. Человек образованный, умный и, несомненно, талантливый, он был восприимчив к неодинаковым, во многом различным, но при разном звучании всегда чем-т© встревоженным голосам эпохи. Он был одним из тех, кто раньше других почувствовал приближение грозы.
Конечно, его недолгий еще жизненный опыт способствовал его идейному созреванию. Он видел вблизи, совсем рядом, короля, его окружение, версальский двор, и они вызвали у него чувство отвращения. Он хорошо знал людей своего сословия, своего круга – высшую, родовитую знать Франции – отца, мать, тестя, своих сверстников; все, что он знал, говорило не в их пользу. Он видел, как тяжело живется во Франции простым людям – хлебопашцам, крестьянам, тем, кто кормит своим трудом привилегированные сословия. Все эти личные наблюдения укрепляли его критические суждения о существующем порядке. Этот мир насилия, бесправия, беззакония, несправедливый, жестокий мир должен быть изменен. Руссо был прав: существующие общественные институты противоречат естественным правам человека. Главный источник зла – деспотизм, и против него должны быть направлены разящие удары.
Так обобщенно, схематично и наивно представлялись Мирабо задачи храброго бойца, вышедшего в рыцарских доспехах, с мечом в руках на смертельный поединок с могущественным противником.
Следует избегать, само собой разумеется, и всяких преувеличений. «Опыт о деспотизме» при некоторых чертах сходства с «Цепями рабства» имел и существенные отличия. Хотя в этом раннем произведении Марата его общественно-политические взгляды еще не достигли полной зрелости (что было вполне понятно), тем не менее, прочитав это анонимно опубликованное произведение, можно безошибочно утверждать, что оно было написано революционером-демократом. Сочинение было как бы озарено отблеском далеких пожарищ народного мятежа. В прошлом или будущем? То были отголоски минувших восстаний или предвосхищение будущих? На такие вопросы трудно ответить. Но, читая «Цепи рабства», нельзя не ощутить дыхание-буйных ветров, несущихся над миром.
В книге Мирабо, посвященной в сущности той же теме, это не чувствуется. Ее писал не революционер и не демократ. Какие-то неуловимые нюансы, не поддающиеся точному определению оттенки – обороты ли речи, склонность ли говорить от первого лица, порою прорывающиеся барственные нотки – все это дает вам почувствовать, что это мятежное, проникнутое искренними чувствами произведение умного, хорошо разбирающегося в обстановке человека написано гран-сеньором. Это критика зоркого наблюдателя, принадлежащего, несомненно, к верхам. Подобно тому как, читая «Мемуары» герцога Сен-Симона или «Афоризмы и максимы» Ларошфуко, вы не можете ошибиться в сословной принадлежности их авторов, так и, читая превосходный, злой «Опыт о деспотизме» Мирабо, вы сразу же ощущаете, что это произведение написано человеком не из народа.
Это сказано здесь, конечно, не в осуждение Мирабо; этические оценки были бы неуместны и смешны. И дело в данном случае не в сословной принадлежности и не в происхождении и воспитании. Эта констатация, свободная от любой формы морализирования, тем более от попыток резонерствовать, важна сама по себе. Это своеобразие Мирабо как личности и как политического деятеля в дальнейшем должно быть замечено, принято во внимание.
Позже, когда Мирабо будет совершать – до 1789 года – свою эволюцию влево, и с началом революции, выдвинувшей его (до каких-то пор) в первые ряды, это внутреннее противоречие, или раздвоенность, как угодно, политического лидера, сражавшегося против абсолютизма, за свободу, и «дикого барина», аристократа, избалованного и распущенного, не способного преодолеть склонности к мотовству, всех впитанных с молоком матери, как бы прирожденных привычек главенствовать, быть первым, позже эта внутренняя раздвоенность станет трагической, фатальной в его судьбе.
Мы обозначили здесь пунктиром или самыми общими штрихами, когда речь зашла об «Опыте о деспотизме», лишь зарождение, первые симптомы этих опасных тенденций.
Но все это обозначится в полной мере позже. А пока пора вернуться от общих рассуждений к реальным событиям непростой биографии нашего героя.
VIII
Маноск, представлявшийся возбужденному воображению Мирабо чуть ли не местом ссылки на краю света, оказался прелестным городком, где несколько хороших, просвещенных в духе века дворянских семей приняли с величайшим радушием прибывших не по своей воле пришельцев.
Громкое имя графа де Мирабо открывало перед молодой четой двери любой дворянской усадьбы или особняка. В Маноске был дом родственников, довольно близких, Эмили – гостеприимная семья господ де Гассо. Родственные семьи сблизились. После приезда супругов Мирабо в родительский дом все чаще стал наведываться их сын кавалер Лоран де Гассо, командовавший отрядом мушкетеров в гарнизоне, расположенном недалеко от города. В раннем детстве Лоран и Эмили играли "вместе в песочек; стоит ли удивляться тому, что кузен и кузина теперь охотно вспоминали в оживленной беседе такое близкое и такое далекое детство?
В Грассе, недалеко от Маноска, было расположено имение маркиза де Кабри. Этот выродок, этот всегда тихо посмеивающийся молодой маркиз, сумасшедший или притворяющийся сумасшедшим, играющий какую-то странную, а может, и страшную роль, был безразличен, а вернее, антипатичен Мирабо. Но маркиза де Кабри, его сестра, всегда притягивала к себе Опоре. Вместе им никогда не бывало скучно.
Правда, о маркизе Луизе де Кабри порою, как бы мимоходом, замечали, что последнее время ее часто встречают в костюме амазонки в обществе капитана де Бриансона, совершающими верхом на лошадях дальние путешествия по живописным предгорьям Альп.
Мирабо это отнюдь не смущало. Он одобрял образ действий Луизы, Не оставаться же ей в одной клетке с этим высохшим орангутангом – маркизом де Кабри! И подумать только, как испортил жизнь своим детям – сыну, дочери – их отец, которого доверчивые французы продолжают прославлять как Друга людей!
Оноре тем охотнее хотел встретиться с Луизой, что он снова чувствовал себя одиноким. Он порвал столь затянувшуюся связь с госпожой де Лиме-Кориолис. Эта дама родила сына, поражавшего удивительным портретным сходством с графом Мирабо. В провинции ничто не остается незамеченным. Об этом мальчике с большой головой, так поразительно похожем на "всем известного знатного молодого человека, заговорили во всех гостиных дворянских усадеб.
Оноре-Габриэль, понятно, не мог возражать ни против самого факта, ни против данного ему истолкования. Но когда дама, в которой он до сих пор находил больше достоинств, чем недостатков, проявила склонность придать излишне большое значение сходству между отцом и сыном, Оноре без труда нашел повод, чтобы рассориться с ней навсегда.
Мирабо о мадам де Лиме-Кориолис никогда больше не вспоминал.
Это оказалось для него тем легче, что в собственном доме его подстерегали неожиданные осложнения. Случайно из письма к Эмили, на которую со времени переезда в Маноск он перестал обращать внимание, из подвернувшегося ему под руку письма, написанного незнакомым почерком, письма Лорана де Гассо, как это выяснилось из текста, он узнал, что жена, эта тихая, незаметная Эмили, ему неверна. Как, когда это произошло? Он не мог на это ответить, не мог ничего припомнить, хотя бы потому, что он действительно всю весну и лето в Маноске попросту не замечал своей жены. Он ее видел каждый день, говорил ей, очевидно, какие-то слова, слушал ее ответы – иначе быть не могло, – но он скользил по ней взглядом, не задерживаясь. Так, вероятно, смотрят па привычную дверь, на пол, на чашку, из которой каждое утро пьют кофе. Графиня де Мирабо, Эмили, его жена, не занимала никакого места ни в его мыслях, ни в его чувствах.
Менее всего он был склонен осуждать или винить в чем-то себя. Он не был верен жене, и это в порядке вещей. Но чтобы жена ему изменяла!.. Оноре был в бешенстве. Он бросился в ярости, чтобы избить, уничтожить этого прикидывавшегося тихоней кавалера де Гассо. По счастью для обоих, он его не застал: мушкетер короля был в своей воинской части. Застигнутая врасплох неистовым негодованием мужа, Эмили чистосердечно призналась и затем в слезах смиренно просила у мужа прощения. Она каялась в грехе, давала клятвенные заверения, что больше это никогда не повторится. Она проявила столько супружеской покорности, столько раскаяния, скорбного смирения, столько выплакала слез, что наконец была прощена мужем, и мир, по крайней мере по видимости, в семье был восстановлен13.
Чтобы погасить в зародыше скандал, не дать сплетне разойтись по всей округе, старшие де Гассо, умудренные жизненным опытом, спешно женили Лорана-Мари де Гассо. Невеста давно уже была на примете: то была дочь маркиза де Туретт – наследница крупного состояния. В XVIII столетии согласия молодых, вступавших в брак, не требовалось. За них все решали родители. Летом 1774 года без промедления свадьба кавалера де Гассо и мадемуазель де Туретт была сыграна.
Честь графини и графа де Мирабо была полностью восстановлена. Кто посмеет теперь, после торжественно отпразднованной свадьбы молодого де Гассо, повторять вздорные, лживые сплетни?
Но расколотый фарфор плохо склеивается. После недавнего потрясения мир в доме супругов Мирабо непрочен. Между мужем и женой все чаще возникают ссоры. Вряд ли свадьба молодого до Гассо могла доставить радость Эмили. Она вовсе не была такой простушкой, какой воображал ее муж. Она все видела, ничто не ускользало от ее внимания. Во время одной из ссор она холодно и сухо сообщила мужу, что давно осведомлена о том, что говорят по поводу странного сходства сына госпожи де Лимс-Кориолис с ее, графини де Мирабо, законным супругом. У него не хватило решимости опровергать всем известное, и он должен был признать, что жена день ото дня все более выходит из узды. Смиренный тон покаяния был предан забвению. Если она в чем и готова была раскаяться, то лишь в том, что тогда, после того злосчастного письма, так унижалась, так покорно просила прощения у ее недостойного мужа. Теперь жена все чаще, все смелее контратаковала супруга; неизвестно каким путем, но она была превосходно осведомлена о всех его прегрешениях.
Во время одной из ссор, становившихся все более резкими и грубыми, Эмили в запальчивости бросила ему обвинение в супружеской неверности. Он дал ей пощечину; рука у него была тяжелая. Эмили запомнила на всю жизнь этот удар по лицу.
Мир в доме Мирабо был сорван, снова началась война.
Не желая считаться с тем, что он находится в Манос-ке под надзором полиции, что ему запрещен выезд из города, Мирабо самовольно выехал в Грасс; ему не терпелось встретиться с Луизой.
Почти целый месяц, позабыв о всех невзгодах, заботах, обо всем этом страшном, сумеречном мире, он коротал часы с Луизой де Кабри и капитаном де Бри-ансоном в веселых, беспечных верховых прогулках по глухим сказочным горным дорогам отрогов Альп, Днем они совершали долгие утомительные путешествия по узким дорогам и горным тропам. Нередко приходилось ездить осторожно, по одному, гуськом. Когда вечерело и опускалась быстро, почти мгновенно, густая непроницаемая, черно-чернильная темнота, они находили какой-нибудь маленький отель, тускло светивший издалека, и тут начиналась упоительная пирушка.
Дни остановившегося-времени, дни без вчера и без завтра, без раздумий, счастливые, блаженные часы, когда никто не замечает отсчета уходящих минут.
Но всему приходит конец. Эта блестящая кавалькада – позади господ на почтительном расстоянии следовали берейторы, – так беспечно и весело путешествующая по дорогам провинции, была замечена и привлекла внимание старых, чопорных дам – владелиц поместий, свято чтущих все правила церкви; кумушек помоложе, всегда готовых посплетничать на чужой счет; старых строгих господ, следящих за поддержанием порядка; моралистов, охотников до всяких происшествий, искателей приключений – словом, всех любителей совать свой нос в чужие дела. Какая провинция королевства испытывает недостаток в великосветских сплетниках?
Начались пересуды. Затем в один из воскресных дней на дверях лавочек, магазинов, отелей, официальных учреждений, даже в церквах оказались расклеенными на видном месте небольшие, но броские своего рода плакаты. В них сообщалось в намеренно напыщенном, но не лишенном злобного остроумия тоне о бесстыдных похождениях высокопоставленной дамы в обществе двух мужчин – своего брата, безбожника и распутника, и кавалера, втроем, напоказ, глумящихся над священными законами господа бога, церкви и короля.
Пасквиль был сочинен опытным, набившим руку в литературном ремесле дворянином; в том не могло быть сомнения. Но кто же был автором гнусного пасквиля? Все три участника компании, осмеянные в памфлете (они не могли его не прочесть: он им повсюду попадался на глаза), терялись в догадках. Впрочем, сам пасквиль на них не произвел большого впечатления: молодые люди пренебрегали мнением этих заскорузлых обитателей провинциальных, медвежьих углов.
Случилось так, что в один из прекрасных, беспечно веселых дней им повстречался на дороге знатный местный сеньор, владелец поместий Муана господин Жиль-бер де Вильнев-Муан. Компания возвращалась навеселе. Старый строгий господин не слыл почитателем маркизы де Кабри и ее свободного образа жизни. Но бог весть почему Мирабо заподозрил в нем автора пасквиля и в вызывающе грубом тоне стал требовать извинений или дуэли. Де Вильнев-Муан не проявил ни малейшей склонности удовлетворить ни первое, ни второе требование грубияна. Тогда Мирабо, вырвав из рук старого господина зонтик, разбил его, ударив того по голове, а затем, не довольствуясь этим, поднял его на воздух, бросил на землю и на глазах собравшихся крестьян стал катать, пинать его ногами.
Когда некоторое время спустя избитый, полуживой господин де Вильнев-Муан добрался до собственного дома, он, едва лишь придя в себя, подал в судебные инстанции жалобу о попытке графа Мирабо убить его.
Оноре-Габриэлю было ясно, что происшествие не пройдет безнаказанно. Вся эта нелепая история была тем досаднее, что вскоре обнаружилось, кто был действительным автором гнусного сочинения против Луизы де Кабри и ее спутников. То был се законный супруг – маркиз де Кабри. Этот странный молодой человек с остановившимся взглядом мертвых, как бы ничего не видящих глаз, сумасшедший, безумец, по общему мнению, которое он всем своим поведением поддерживал, на самом деле все видел, все замечал; злой и мстительный, он скрытно, никем не замеченный шел неотступно по следам своей жены.
Мирабо вернулся в Маноск. Оставалось ждать, когда на его плечи опустится меч правосудия. К тому же, как всегда, он снова был без денег. Он заставил себя забыть о пистолете, поднятом старческой рукой его матери, чтобы сразить сына, и написал ей почтительно-сыновнее, просительное письмо. Он умолял мать – она ведь была так богата, а он, ее первенец, беден и в беде – помочь сыну деньгами. Он находил слова, которые, казалось, могли разжалобить камень.
Ответ не заставил себя ждать. Письмо матери было коротким: у нее нет для сына денег. Она не утверждала, что денег нет вообще, – их нет для Оноре-Габ-риэля.
Тогда у него почти мгновенно родилась иная идея: надо отправить Эмили с миссией доброй воли в Бинь-он, к его отцу – маркизу де Мирабо. Эмили с ее обходительными, мягкими манерами, с ее певучим голосом, может быть, удастся склонить «Друга людей» на свою сторону. У отца могущественные связи в Париже: со времени восшествия на престол молодого короля Людовика XVI физиократы вошли в моду. Отцу нетрудно прикрыть, положить под сукно жалобу де Вильнев-Муана. И потом Эмили сможет убедить своего свекра, что его сын, граф Мирабо, достигший, кстати сказать, совершеннолетия, не может существовать без денег.
Эмили не пришлось долго уговаривать. Она быстро согласилась с предложением мужа.
Графиня де Мирабо была умной женщиной. Наверно, она сразу же поняла, что предложенный мужем способ расставания при сложившихся в семье отношениях – самый лучший, самый пристойный выход из непреодолимого кризиса. Наверно, и Оноре-Габриэль думал так же, как и она, но по понятным причинам он не хотел высказывать мысли вслух.
Сборы были недолгими. Взглянуть со стороны – в семье Мирабо вновь утвердился добрый мир, восторжествовала безоблачная, теплая семейная дружба. Расставаясь, муж и жена заверяли друг друга в том, что это будет временная, совсем короткая разлука.
Но в глубине души – об этом тоже нельзя было сказать вслух – оба, вероятно, чувствовали, что расстаются надолго, может быть, навсегда.
Мирабо в части своих расчетов оказался прав. Эмили действительно без усилий сумела расположить в свою пользу свекра. Старый маркиз не мог нарадоваться на свою невестку: она была умна, начитанна, хорошо воспитана; у нее были приятные манеры, прелестный голосок. Главное же, что он особенно в невестке ценил, ей понравился дом в Биньоие. Эмили и в самом деле почувствовала себя в добротном аристократическом, немного старомодном замке маркиза де Мирабо как рыба в воде. Он напоминал дом ее счастливого детства.
Маленький внук, маленький Виктор де Мирабо, стал любимцем, утешением старого деда. Старый славный род Мирабо будет достойно продолжен; дед был готов взять на себя все заботы по воспитанию внука. Словом, все были довольны и счастливы.
В Маноск из Биньона приходили ласковые, успокоительные письма. План Оноре-Габриэля был, казалось, близок к осуществлению. Он почувствовал себя наконец чуть спокойнее. Он снова вернулся к прерванным литературным занятиям; с увлечением стал вновь работать над завершением «Опыта о деспотизме».
Приближалась осень. Он ждал теперь каждый день, нетерпеливо, считая часы, когда зазвенят колокольчики пароконной почтовой повозки. Почта должна была привезти ему деньги, которые получит от отца милая Эмили, так хорошо выполняющая тонкую дипломатическую миссию, королевский указ из Версаля, кассирующий жалобу до Вильнев-Муана, а может быть, указ нового, доброго короля Людовика XVI, возвращающий графу де Мирабо всю полноту свободы, так несправедливо отнятой у него в предшествующее царствование.
Каждый день час-два он ожидал у небольшого домика почты, прислушиваясь к доносящимся издалека перезвонам почтовых колокольчиков. Дни . проходили – все было напрасным; он так и не дождался того, чего ожидал.
В расчетах Мирабо, которые он связывал с миссией Эмили и которые, казалось ему, были близки к счастливому осуществлению и действительно в какой-то своей части оправдались, была лишь одна, но первостепенной важности ошибка. Эмили и в самом деле удалось сблизиться со свекром и найти с ним общий язык. Она стала самой влиятельной союзницей старого маркиза. Но союз невестки и свекра был направлен не в пользу мужа и сына, а против него, против Оноре-Габриэля.
До сих пор у Мирабо в Биньоне был один противник – не любивший сына отец; теперь их стало два: отец и объединившаяся с ним, не любящая мужа, ничего ему не простившая, умная, враждебная жена.
В один из вечеров, уже после прихода почты, снова обманувшей его ожидания, в дверь к Мирабо постучали. То были жандармы. Они предъявили тайное королевское распоряжение о заточении Оноре-Габриэля Рикет-ти де Мирабо в крепость-тюрьму на острове Иф без определения сроков заключения.
Совместные усилия маркиза и графини де Мирабо не остались безрезультатными.
IX
Кругом море, море, море… Где-то позади рейд Марселя, по остров окружает со всех сторон водная гладь, далеко-далеко впереди, на почти неразличимой линии горизонта, сливающаяся с холодным, сумрачным небом. Опоре Мирабо – узник крепости Иф. Эта крепость-тюрьма, отделенная от суши непреодолимым для пловца водиым пространством, была всегда окружена таинственными легендами. Кто был скрыт, погребен в ее казематах? По преданиям, здесь был заживо похоронен тот, кого называли загадочной «железной маской». В подземелье крепости Иф томились самые опасные государственные преступники. Позднее, в XIX веке, Александр Дюма прославил на весь мир страшную крепость Иф, упрятав по воле сил зла своего любимого героя, будущего графа Монте-Кристо, в ее гибельные узилища. Но и в XVIII столетии у крепости Иф была дурная слава. С острова Иф не возвращаются – так говорили уже в дни молодости Мирабо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































