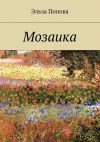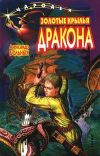Читать книгу "Ревельский турнир"

Автор книги: Александр Бестужев-Марлинский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
III
В любви, добыче и утрате
Мои права – в моем булате.
Кто не читывал рыцарских романов, кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титло царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда – худо ли, хорошо ль – передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно – это аксиома: вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз.[17]17
Риттергауз (нем.) – рыцарский дом в Ревеле (Таллине) на Вышхоре; перед ним в старину происходили рыцарские турниры.
[Закрыть] Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избрания, пошумели, поспорили, кого избрать, и когда от кружения козьей ноги[18]18
Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей – в честь Ревеля, которого имя производят они от слова Ree-fall – падение серны, – примеч. автора.
[Закрыть] у них закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право, не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею.
Минна, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв фрез[19]19
Фрез (фр.) – высокий плотный воротник.
[Закрыть], чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу.
За нею последовал Эдвин.
– Благодари господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею… – сказал барон, потирая от удовольствия руки. – Благодари; я за себя и за тебя дал слово…
Один из герольдов[20]20
Герольд (нем.) – вестник, глашатай; распорядитель на рыцарских турнирах.
[Закрыть] в вышитом гербами далматике[21]21
Далматика – род мантии или пакидки.
[Закрыть] преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из трефов коронку, и смущенная нечаянностию Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.
– Я не поздравляю вас, – тихо сказал Эдвин, положа руку на сердце, – вы и без короны владели сердцами.
Минна покраснела и молчала.
Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны.
– Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей, – сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь… – Соколом моим, фрейлейн Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь; конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фрейлейн Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф, – у меня уж и чепрак лиловый заказан.
– Много чести… благодарю вас за внимание… но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугою.
– И быть полосатым шутом, – тихо примолвил доктор.
– Знатная мысль! – воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши. – Вот, что называется, соглашаться, не сказав «да». Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.
– Милости прошу присесть, господа, – говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту. – Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества – моей дочери; растолкуйте ей должность царскую, а ты, милый Эдвин, постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.
Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столику.
– Добро пожаловать, старая кукушка, – сказал барон входящему Фрейлиху, рассылыцику гермейстера, – добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!
– И, батюшка, ваша высокобаронская милость! Что вздумали, – отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога. – Я ведь как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, так же часто и так же верно вещую на прибыль, как и на убыль.
– Что же нового, Фрейлих?
– Чему быть новому на этом старом свете, г. барон? – продолжал словоохотливый немец, развязывая сумку. – У меня даже для завтрашнего праздника и повой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.
– Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.
– Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.
– Не лучше ли выпить за мое здоровье? – сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги. – Конечно, повестки от гермейстера?
– Приказы, благородный рыцарь.
– Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..
– Где нам это знать, г. барон, – стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру[22]22
Киршвассер (нем.) – вишневая водка.
[Закрыть], я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.
– Правда, правда, – ворчал про себя Буртнек, – ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя легавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих.
(Читает.)
– «Ба… ба… барону… Бур… Бур…» Провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца; это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами![23]23
Fraktur-Buchstaben. – Примеч. автора.
[Закрыть]
– О! конечно, – сказал, не слушая его, рыцарь Доннербац.
– Без сомнения, – прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.
– Это еще учтивее, – примолвил с усмешкою доктор, – письмо написано ломаным языком.
– У тебя оп очень гибок на споры, – возразил Буртнек, – посмотрим-ка его рысь на деле… прочти, пожалуй… У меня глаза слабы, не могу разобрать: буквы мелки, как маковые зернышки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.
– Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них, – сказал доктор, пробегая бумагу глазами. – От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггенея пре… при…
– Возьми очки, – сказал барон.
– Возьмите терпенье… – возразил доктор. – Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.
– Далее, далее?
– Не далее, а назад, барон! Мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: «Гермейстер Бруггеней, благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста барону Эммануилу Христофору Конраду… фон Буртнеку, урожденному…»
– Ты рехнулся, доктор…
– Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс при смерти не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: для урожденной такой-то…
– Какая мне надобность до ее рожденья и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! Ни дать ни взять, ты словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор…
– Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу. Приказ, кажется, дан в придачу титулам; он и весь в четырех словах: «исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».
– Пусть он сам его перемащивает своим пергамином[24]24
Пергамин (пергамент) – кожа животных, особым образом обработанная и служащая для написания документов и писем.
[Закрыть], а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.
– Не ездите, так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде, они не журавли: не перелетят чрез болото.
– Это уж их дело, а не мое.
– Но ведь большая дорога – вещь мирская; а как она идет через ваше владение…
– Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.
– Это значит, что где многие делают все, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.
– Другую, другую, доктор…
– Разве третью, – сказал Лонциус, паливая стопу.
– Я говорю про бумагу, – с досадой произнес Буртнек.
– А я думал, про стопу, – отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи.
(Читает.)
– «Гермейстер…» и тому подобное… «По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседствен-ными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и беззаконно, наездом и вооруженною рукою и насилием и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, я с фогтами и командорами Ордена[25]25
…с фогтами и командорами Ордена… – Командоры и фогты – высшие чины Ливонского ордена, назначавшиеся магистром Ордена, ведали надзором и управлением округа.
[Закрыть], рассмотрев сие дело, нашли…» Ошибка против грамматики! – вскричал доктор, останавливаясь.
– Скажи лучше, против правды, – возразил Буртнек. – Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой…
– «…рассмотрев, нашел, по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами; а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на полюбовные сделки и многократные свои требования, и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия и положить новую границу от ручья Куремсе до озерка Пигуса, до заводи, где коней купают, оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к повой Пойгиной бане, а оттуда…»
– Оттуда пусть он убирается к черту! – вскричал барон, вскакнув со стула… и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак[26]26
Фейерверочный бурак – гильза с порохом, выбрасывающая огненный фонтан.
[Закрыть], и бранные шутихи полетели во все стороны… – Вот правосудие! Вот законы!.. Когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножнами, тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон так кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копье вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет, – а теперь, смотри, пожалуй! Эти ходячие чернильницы, эти черепокожые писаря вздумали притиснуть границу к самому рву замка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья, – и какой воды!
– Без воды обойтиться можно, – возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение. – «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгериа во владение…»
– Пусть только явится ко мне… Пусть только приедет… Я его под бичами заставлю вертеться кубарем… я его попрошу отведать спорной воды в озере!..
– «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте новой разгранички, чтобы они ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями…»
– Этому не бывать… шпорами клянусь, не бывать!.. Всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы вассалов своих… но в этом случае разве я злодей, чтобы согласиться обратить их спины памятною книжкою для безголовых судей?..
– А что скажет на это гермейстер?
– То, чего я не послушаюсь… Что мне дорожить его благосклонностью, его флюгерною дружбой? Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Уыгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без боя, даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой частокол с железными маковками и пе одна пара сильных рук указать ему дорогу восвояси.
Так восклицал раздраженный барон, топая ногами, и громче и громче раздавался голос его, до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга.
Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием.
Добрый Лонциус, сбросив с лица шутливое выражение, беспокойно слушал барона и следил взорами его движения.
– Да, да, – продолжал Буртнек, – я докажу и Унгерну и гермейстеру… что Буртнек прожил и умрет не без друзей.
– Честию клянусь, – вскричал Эдвин от души. – Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото – ваше.
– Располагайте, – сказал, пошатываясь, Донпербац, – мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда.
– Благодарю… сердечно благодарю… – отвечал умиленный барон, подавая им руки. – Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле… Боже мой!.. Завтра турнир, и Унгерн, наверно, по-прежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово… отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу… Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами, и где же? Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья!.. Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен и сломишь Унгериа как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе… Но теперь… Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится… но лишь победитель Унгерна будет ее мужем… Вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг, кто бы ни выбил Унгерна из седла, – я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность.
– Руку и слово, барон, – вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку, – и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке, если не так же сомну его!
С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.
– Батюшка, милый батюшка! – воскликнула испуганная Минна.
– Минна… Я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля – твоим желаньем: что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником.
Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями… и скрылся.
– Куда, куда, любезный Эдвин? – кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было. – Чудак!.. а славный малый, – примолвил он, – скажи слово, и Эдвин отдает все без росту и закладу.
– Молодец, – повторил Доннербац, – даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.
– Преумница, – прибавил доктор, – хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца…
«Прекрасный юноша, бесценный человек!» – думала полумертвая Минна, но она не сказала этого вслух.
IV
Как бешеный вбежал Эдвин домой.
Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелись вдребезги, и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя…
– Кончено… Решено… – говорил он, скрежеща зубами. – Турнир и Минна – люди, люди!.. Поклонники предрассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьем у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду, – вскричал он слуге своему.
– Куда? – спросил тот с изумлением.
– Кто смеет спрашивать куда? Я еду, и этого довольно; ветер хорош; кораблей много: готовься.
Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!
Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме; вот оно:
«Для меня все решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно, – тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой… Безумец я, безумец! Из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. Или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба? Ты думал… Нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву… Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности, испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня, и кажется, все часы, все дни, потерянные в рассеянности, промелькнувшие в восторге, склубились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор… Простите моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость, еще один взор, как сегодня… и я причарован, – и что тогда? Мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливца, которому выпадет мое счастие, ив ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее… Буду скитаться по свету, чтобы забыться, не для того, чтобы забыть вас… Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будут мне отрадою… буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна, и верьте сердечному, хотя не рыцарскому слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Миина! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите.
Эдвин».
Холодный ветер взвивал кудрями Удвина, который, прислонясь к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампады, и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо, и медлил в нерешимости… Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.
V
Летит как вихорь, как огонь Пред недвижимым строем; И пышет златогривый конь Под будущим героем.
Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали сребристооблачной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; все было оживлено, все дышало радостию, все праздновало возвращение весны, воскресение природы.
С зарею Ланг и Брейтштрассе – две дороги, ведущие к Домплацу в Вышгороде, – заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вкруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня, трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями.
Под балдахином сидел гермейстер, в белой бархатной мантии с черным на левом плече крестом, в полукафтанье с разрезами, унизанными застежками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски. Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизанной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!
Между тем как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность, Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся окружность, и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием, и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.
– Мне жаль бедную Минну, – сказал доктор, которому все казалось в забавном виде. – Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы. Какое противоречие – гермейстер и Минна!
– Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука – самые близкие соседи, – отвечал Эдвин. – Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских, – следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статуйку, – жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр[29]29
Бургомистр – здесь: старший член магистрата.
[Закрыть] Фегезак с дражайшей своей половиной; они горят одною страстью – к стеклу, то есть он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу, – дворянка Зегефельс. Он, сказывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах… Тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой, – это ландрат[30]30
Ландрат – член королевского или земского совета.
[Закрыть] Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлейн Лилиендорф; знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою, – баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма… Не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы…
– ПОлно, пОлно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?
– Всем, кому угодно, доктор!.. Он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт; он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак… Это самая светлая голова изо всего Ревеля.
– Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние. Но кто этот в пух разубранный рыцарь… с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?
– Это мученик и образец щегольства… Фогт фон Тулейн… В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга:[31]31
Гер. Плеттенберг в 1503 году издал, для удержания роскоши, указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий; по это осталось без действия. – Примеч. автора.
[Закрыть] шейная цепочка его весит ровно в тридцать фунтов, и посмотрите, в какие перстни закованы его пальцы! Он имеет вес между рыцарями.
– Ну, а тот, с бекасиною фигурою, низенький?
– И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрейбер[32]32
Вицбетрейбер (нем.) – шут, острослов.
[Закрыть] Рабешнтраль. Но вот въезжают и рыцари. В голове их командор Везенберга Гарткнох: он прост как страус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель; сквозь его прозрачность[33]33
Seine Durchlaucht. Его светлость, его прозрачность – немецкий титул. – Примеч. автора.
[Закрыть] можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока… Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы… Далее…
Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.
Рыцари, при звуке труб и литавр, по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копья перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлемники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, бренчание сбруи и плески и разнообразие кругом – все изумляло странностию, было дико, но пленительно.
И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба, и уже копья ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат более, чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копья поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш, – народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с копем своим. Забавнее всего был удар копья Унгернова: он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на йоги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников.
– народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с копем своим. Забавнее всего был удар копья Унгернова: он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на йоги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников.
Бросив повода и опершись на копье, величаво стоял он среди площади. Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала, – никто не являлся.
Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду, отдать лучшему, храбрейшему!»
– Отворите! – закричал неизвестный рыцарь, приближаясь, – и в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее.
Хвост разом осаженного коня лег на землю, по рыцарь не шевельнулся в седле, только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрянули от удара. Минуту стоял он как вкопанный, слегка поигрывая поводами, как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотою насечкою. Огненный цветом и ходом конь его храпел и фыркал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвеваемой его ногами.
– Какой статный мужчина! – сказала, прищуриваясь, фрейлейн Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.
– Какой жеребец! – воскликнул ее брат, – во всех статях, – даже и хвост трубою. Это картина – не конь. Крестец – хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли… и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна… только что не говорит.
– Эту привилегию имеют только ослы, – с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.
– Это я вижу теперь, – смеючись отвечал фон Клокен. – Но кто этот неизвестный удалец?
– Это Доннербац! – отвечали многие голоса.
– Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.
Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копье, низко-низко поклонился Минне – и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но оп сразу и так близко осадил коня, что мундштук звукнул о мундштук…
– Что это значит? – с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.
– Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике, – насмешливо отвечал неизвестный, – то брошенная перчатка значит вызов на бой.
– Рыцарь, я уже давно этою указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремена!
– Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок.
– Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой… Нет, брат, это уж чересчур потешно!
– Чему ты смеешься, гордец? Я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.
– Ах ты, безымянный хвастун! Ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.
– Наглец и пустослов! Поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.
– Я выгоню тебя вон из света, безумец! – вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копье в перчатку противника. – И также воткну на копье твою голову.
– Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!
– Это твой приговор… Поклонись в последний раз петуху на олаевской колокольне, – вы уж больше не свидитесь…
– А ты приготовь поздравительную речь сатане…
– Посмотрим, какого цвета кровь, двигающая этот дерзкий язык!
– Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца, – говорили рыцари, разъезжаясь.
И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравняли копья, и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн сбирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьем. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится…
Труба гремит.
Вихрем понеслись противники друг на друга – раз, два, и копьев как не было, но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня, и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завеяли платками в одобрение Унгерна.
Таковы-то люди, таковы-то женщины: они всегда на стороне победителя.
– Славно, славно, земляк! – кричали ему ревельцы. – Ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадью.