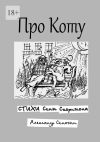Читать книгу "Ключ Соляного Амбара"

Автор книги: Александр Бубенников
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр Бубенников
Ключ Соляного Амбара
1. Декабрь 1990 г., НИИ, Москва
О феномене Соляного Амбара на его малой родине и ключе амбара и ко многим общественным явлениям и человеческим судьбам он думал давным-давно… В предпоследний год «перестройки» завлаб академического института по имени Александр, взял в руки и раскрыл только что вышедший в издательстве «Советский писатель» томик с романом «Соляной амбар» со стола своего аспиранта, и решил вскользь пролистать странички с неизвестным ранее названием знакомого феномена. Зачем читать всю книгу из-за хронической нехватки времени на текущие неотложные дела? Зачем хлебать полную кастрюлю дымящегося перед тобой наваристого украинского борща, если можно пригубить пару-тройку ложек и определиться мысленно, стоит ли давать волю аппетиту, насыщать организм материальной ли, духовной ли пищей во время обеда или пиршества духа?
Наугад открыл страницу ближе к началу книги. Сначала было что-то невероятно близкое из трепетного каждой живой человеческой душе времён далёкого, чудно-памятного, светлейшего детства. «Это сквозь сон детства – то, как впервые возникло ощущение света; угол комнаты; кусок света, первый оставшийся в памяти, он поистине пробрался на подоконник, сел заиграл. Мать – нечто громадное, тёплое, растящее, охраняющее, беспрекословно любимое. Отец – он уходит куда-то в неизвестное и приходит оттуда, принося право на жизнь. Затем первый снег за окном и первая весенняя оттепель. И я уже множество понятий – тепло, холодно, свет, мрак. Затем растут пространства – двор, около дома, переулок, – и расширяются живые предметы, кроме мамы, папы, бабушки начинают определяться соседи-люди и соседи-звери, и звери понятнее людей. Ещё неясно, что такое в точности – живые существа… И множество уже обретено запахов…»
Александру был невероятно близка тема дома детства, с тогда ещё живыми всеми существами, мамой, папой, бабушкой, дядей и он стремительно наугад открыл страницу уже за серединой книги «Соляной амбар», где лирический герой романа, юноша Андрей Криворотов отправился к своему закадычному другу Леопольду Шмуцоксу, рассказывавшему Андрею свои жуткие тайны. Причём во время этого рассказа, что немаловажно для дальнейших умозаключений, Леопольд стоял у печи, а тень Андрея, метавшегося по комнате, бегала от лампы по потолку, изображая черта. И рассказ Леопольда был безумно странен и страшен не только для Андрея вначале 1910-х, но и для Александра в 1990-м:
«Да, я хочу застрелиться, потому что со мной случилась страшная вещь, которую определить не могу и с которой бессилен справиться. Я люблю свою мать. Нет, подожди. Ты любишь Лелю Верейскую, которая об этом даже не знает, – но ты ее любишь, как идеал, – и ты же пристаёшь к своей горничной Насте. Я никогда не любил никаких Лель, я никогда не приставал к женщинам, потому что мне это омерзительно и совершенно не нужно… И вот, как ты любишь Лелю и свою горничную, и как Иван Кошкин любит девок из публичного дома, так и я люблю свою маму, только гораздо сильнее. Я люблю ее больше жизни, больше всего на свете и гораздо больше самого себя. Мне стыдно и позорно. Я молюсь на свою мать, как на бога, самое лучшее, все лучшее – она, – но не раз, точно случайно, я входил в ванную, когда мылась мама, – она меня не стыдилась, я больше не делаю этого, потому что боюсь, что у меня разорвется сердце… И я готов убить отца из ревности и от ненависти, – и я убил бы его, если бы не знал, что у него от Марфина Брода до Москвы, везде рассованы содержанки, и он оставляет мать в покое…»
«– Постой, погоди, давай обсудим здраво! – кричал Андрей и не находил слов. – Ну, ты… ну, я… – и бегал по комнате, гоняя свою тень и тряся головой, точно хотел стряхнуть свои мысли. – Ну, ты… – разлюби… Впрочем, ерунда!.. ну, я…»
«Мне надо застрелиться, – говорил Леопольд, – потому что ничего иного я не могу придумать. Я не могу посягнуть на мать, я не могу убить отца… А может быть, могу сделать и то, и другое, – потому что мечтаю о маме и о том, как я убью отца. Я думал, – я ничего не понимаю… Всю жизнь самым близким человеком мне была мама, и я сейчас ничего не могу ей сказать, потому что я не смею оскорбить ее… И я оскорбляю ее, потому что я целую ее не как мать, а как любовницу…»
Какая-то невзрачная мыслишка царапнула мозг Александру: «Нечто подобное ты уже слышал… Возможно, читал в далёкой прошлой жизни о героях с другими именами… Леопольд?.. Точно, никакого Леопольда там не было, был кто-то другой, бесконечно запутавшийся, заплутавший… заблукавший… Вряд ли достойный жалости или, тем более, понимания и сочувствия к личности потенциального самоубийцы… Или случится реальное самоубийство этого Леопольда?.. Или убийство отца, как в античной Эдиповой трагедии?..»
Александр решился всё же с каким-то внутренним душевным напрягом пролистнуть ещё несколько станиц, хотя ему, обожавших своих родителей, маму и папу с самого раннего детства, было неприятно погружаться в круговорот, во временной колодец «Эдиповых комплексов» юнцов Леопольда и Андрея, героев странного исповедального романа. И грустно сморщившись, с явным недовольством собой, не понимающего с каких-то незапамятных пор позу своего земляка Бориса Андреевича Вогау со знаковым псевдонимом «Пильняк», но по инерции подглядывающим без всякого желания за самобичеванием героев, прочитал:
«Андрей стряхивал мысли с волос и говорил: «– Постой, погоди, давай обсудим заново. Это же нарушение естества – любить свою мать. Понять этого не могу. Ты прости, ведь это же мерзость и вообще противно, даже эстетически, кроме того – против естества… Это уж – сверхницшеанство… Впрочем, ерунда!.. ну, я…»
«– Мне надо застрелиться, – долбил Леопольд и плакал.
На парадном привычною рукой зазвонил герр Шмуцокс. Андрей, по уговору с фрау Шмуцокс, не должен был попадаться на глаза герру, через кухню он пошел срочно домой. Прощаясь, он целовал Леопольда, мазал слезы и шептал на ходу: «– Постой, погоди… Ну, ты дай мне слово, что не застрелишься, пока мы не обсудим все, как следует… Впрочем, ерунда!..
– Дай неделю на рассуждение…»
Можно было бы закрыть на этом месте книгу… Но Александр уже вспомнил, как давно, четверть века тому назад слышал или даже читал нечто подобное, но совершенно запамятовал, чем там дело кончилось. Потому – для определённости – решил пролистать ещё пару страничек «Соляного Амбара». Зачем? Затем, чтобы начать когда-нибудь искать ключ Соляного Амбара к жизни и смерти, революции, социализму с человеческим лицом, капитализму с лицом уродства будущего… И вот что он прочел дальше, морщась и мрачнея:
«Герр Шмуцокс наутро уезжал в Москву.
Перед сном в спальне, надевая длинную немецкую ночную рубашку, герр Шмуцокс сказал жене рассудительно и негромко:
– Я полагаю, Марихен, что у нашего мальчика настало время… ну, разреши мне присмотреть на фабрике какую-нибудь здоровую и красивую русскую девку, ее можно будет отправить на освидетельствование к доктору Криворотову, – и пусть наш мальчик… у него уже настало время…
С фрау Шмуцокс произошла истерика, как только что у сына.
Андрей, ушед от Шмуцокса смятенный делами друга, пошел на Откос, чтобы проветрить мозги. Луна светила простором, мороз разбрасывал алмазы по снегу и шелестел шагами Андрея. Тень Андрея сиротливой собачкой вертелась у ног Андрея, – такою же сиротливой, как мысли Андрея. Андрей на самом деле ничего не понимал и мучился. Смерть друга ему казалась реальною, он не хотел смерти друга, он физически чувствовал приближение смерти в его компанию и испытывал страх смерти, такой же гнусный, как этот его вечерний с Леопольдом разговор. Это было так же страшно, как кошачьи глаза в амбаре. Здоровым телом, мурашками по позвонку он чувствовал противоестественность и мерзость. Тишина комнаты Леопольда, разговоры – здесь на Откосе – казались Андрею страшными, как капли осеннего дождя у бродяги за воротником. Андрей целовал Леопольда – и здоровым телом ощущал, что ему противно целовать этого красивого юношу, точно Леопольд – гнилой внутри. Страшнее, чем поцеловать бы Валентину Александровну, пудреную лягушку. Кроме всего прочего, Андрей чувствовал на себе ответственность за друга, – и ему хотелось играть роль героя, чего он не замечал, конечно.
Андрей долго стоял на Откосе, смотрел в снега за Подол и повторял вслух:
– Должен застрелиться. Нет. Должен застрелиться. Нет…
Андрей заснул у себя в чулане, не раздеваясь, и проснулся наутро в головной боли, в придавленности, в ощущениях страшного и нечистоты, когда лучше и не просыпаться, – в тех же ощущениях, как первое утро Чертановской школы. Он проснулся с решением, как тогда в Чертанове о новой жизни – да, пусть Леопольд стреляется – но в подсознании он ощутил, как и в Чертанове, что этого не будет, не бывает, его не послушают, а дружба – дружба кончена. Тошнотно увидеть Леопольда и очень любопытно с ним поговорить еще раз на столь необыденные разговорные темы. С фрау Шмуцокс было условлено еще вчера, когда она приходила к Андрею, что наутро он не пойдет в гимназию, герр Шмуцокс уедет с десятичасовым поездом в Москву и он, Андрей, придет к фрау Шмуцокс в половине одиннадцатого, когда никого не будет дома. Андрей пошел мыться, мылся холодной водою, полагал, что промораживает мозги. Домашним он сказался нездоровым, отец, доктор Иван Иванович, посмотрел его язык, пощупал пульс, определил:
– Да, небольшой налетец на языке. Прими касторку.
В половине одиннадцатого, пробираясь задними переулочками, чтобы не заметили случайно гимназические надзиратели, Андрей пришел к фрау Шмуцокс. Он готовил речь, – и сказал совсем не то, что заготовил. Вдруг к ужасу своему он рассказал все, как было на самом деле, – говорил и ужасался тому, что говорил, – ужасался и злился, потому что ужасался, – захлебывался и говорил бессвязно, все по очереди.
Закончил он злобно:
– Я предаю друга, мне нельзя теперь с ним встречаться, я дал честное слово, что все будет втайне. Ему надо застрелиться и больше ничего, и пусть стреляется. Это касается именно вас. Я снимаю с себя ответственность за его смерть. Он любит вас, как женщину, он подглядывал за вами в ванной, он ревнует вас к Карлу Готфридовичу. Прощайте! – вам тоже надо застрелиться. Прощайте. Ему надо застрелиться!.. – пусть стреляется!..
Андрей стоял посреди комнаты, когда говорил это. Он выбежал вон из комнаты, шмыгая носом, всовывал ноги в калоши и никак не мог всунуть. Фрау Шмуцокс не заметила, как убежал Андрей. Она опомнилась, когда Андрей хлопнул парадной дверью. Она побежала за ним и догнала его у калитки на улицу, крикнула, как кухарка:
– Вы никогда, никому не смеете говорить об этом!..
Она спохватилась, она съежилась, она сказала лирически:
– Да-да, Андрюша, это очень страшно. Никогда не говорите, никому не говорите об этом… Знайте, – я ваш друг, если даже вы потеряете дружбу Лео…
Голова фрау Шмуцокс поникла, плечи ее опустились. Она улыбнулась, как улыбаются во сне. Брови ее опали в бессилии – и сразу же собрались в строгости и решимости. Раздумье сменило улыбку – и опять пришла улыбка, как во сне. Андрею показалось, что фрау Шмуцокс совершенно голая, – он крикнул:
– Мария Адольфовна! на улице мороз, вы раздетая, идите домой!..
Фрау Шмуцокс подняла голову в гордости, неизвестно зачем поднялась на цыпочках, – крикнула почти озорно:
– Никогда, никому, Андрюша!..
И фрау Шмуцокс громко хлопнула калиткой, оставив Андрея на улице, Андрей ощутил себя мусором, выметенным за калитку.
…Доктор Иван Иванович заметил дня через два, что сын его Андрюша явно похудел, и в сумерки подсел к Андрею для душевного разговора. Он поговорил о гимназии и вообще о жизни, – «жизнь – это борьба», говорил Иван Иванович, но жизнь есть также «постепенное развитие», – затем Иван Иванович заговорил о сущности дела:
– Я замечаю, сынок, – сказал Иван Иванович, – что твои настроения связаны с фотографией, которая висит около твоего стола… Ну, с фотографией барышни Верейской… Я опускаю то обстоятельство, что ты сын лекаря и имеешь гордость русского разночинца, а она феодальная княжна, феодально воспитываемая, то есть вы не пара друг другу. Я хочу говорить о другом, о любви. Любовь есть естественная потребность организма. Когда ты не голоден, естественно, ты не хочешь есть, – то есть ты хочешь есть, когда в этом потребность. Так и любовь… Ты не сердись на меня, сынок, я бы снял эту фотографию со стены, чтобы она тебя не волновала…
На масленице были балы, спектакли и вечеринки. К концу масленицы любопытство у Андрея по поводу того, что делается в доме Шмуцоксов, взяло верх над всем остальным, – и к этому времени прошла неделя, оговоренная Андреем и Леопольдом на раздумье перед самоубийством. В гимназии был бал.
Андрей остановил Леопольда в пустом коридоре и сказал заговорщиком:
– Сегодня ровно неделя…
– Какая? – спросил Леопольд.
– После нашего разговора…
– Какого? – спросил Леопольд.
– Ну… о самоубийстве…
– Ах, да, – сказал Леопольд и взял Андрея под руку. – Давай условимся никогда больше об этом не говорить. И это должно остаться тайной для всех.
Леопольд пошел в танцевальный зал.
В тот вечер нашла на Камынск – последняя, предмартовская – метель, сыпала снегом, выла ветрами, заметала дороги, дома, улицы. Бал закончился в час ночи, великий пост уже начался час тому назад. За Леопольдом приехали сани с медвежьим пологом, кучер ожидал его в раздевальной с кенгуровой шубой.
Дом Шмуцоксов выл трубами и чердаком в метельной ночи, крепко натопленный. Дом пребывал во мраке. По крыше, по стенам бегал, плакал, кричал ветер. Леопольд приехал, когда дом уже спал. Он быстро прошел в ванную и затем к себе в комнату. Дом заглохнул. Из спальни, со свечою в руке, без пледа, в ночном халате, вышла фрау Шмуцокс. Она обошла дом, все комнаты, кухню, заглянула в каморку к кучеру и дворнику, в каморку к женской прислуге. Она плотно прикрыла двери из кухни в коридор, из коридора в столовую. Движения ее были действенны. В столовой потухла свеча. Скрипнула половица на пороге в комнату Леопольда. От кровати Леопольда светился огонек папиросы. Огонек полетел в угол к печке.
– Иди сюда, мама…»
2. Август 1964 г. Москва, ЦКБ
Александр определился и вспомнил, когда он читал нечто подобное у Пильняка, слушал рассуждения на тему «революционного» инцеста сына и матери, любовников – с Эдиповым комплексом трагедии – одного пожилого интеллектуала. Это был рассказ «Нижегородский откос», написанный писателем в декабре 1927 года, который он прочитал сразу же после «Повести непогашенной луны», в самом конце августа 1964 года.
Их, пациентов палаты ЦКБ в отделении типа «Ухо, горло, нос» оказалось трое. Когда Александр прибыл туда в самом конце студенческих каникул перед осенним семестром на втором курсе инженерно-физического вуза, чтобы «раз и навсегда» удалить себе гланды, мешающих учебе и спорту, в палате, куда его определили медсестры, уже находились студент третьего курса мехмата МГУ Юрий и неказистый старичок, профессор-гуманитарий, оба очкарики.
Юрия заселили в эту палату буквально за час-другой до прихода туда Александра. Соседи его были из одного и того же университета имени Ломоносова, но когда Юрий поинтересовался, какой факультет и кафедру представляет старичок, тот нечленораздельно пробурчал что-то неопределенное. Мол, раньше был на одной кафедре, потом его вызвали консультантом на Старую площадь, потом в Комитет, а потом вернули в стены «альма матер» на другой факультет и другую кафедру. Шифровался старичок-профессор. Да и профессор-доктор ли?
Только Юрий с Александром ни разу до операции и после операции не дошли до больничной библиотеки, чтобы взять себе интересующие книги или толстые журналы с шумными «оттепельными» произведениями. Больше вполголоса трепались в весёлой тёплой компании с такими же студентами и симпатичными студентками в холле отделения на роскошных кожаных креслах. А у старичка на его личной тумбочке пациента возвышалась внушительная стопка книг и журналов, которые старичок читал с утра до ночи, не удосуживаясь до задушевных бесед с молодыми коллегами, избравшими стезю в области точных наук в ведущих московских вузах.
Однако через день-другой, узнав, что Александр волею судьбы и случая родился в Можайске и оттуда его род по линии отца, хотя в паспорте у него стоит место рождения в дачном поселке Быково, по тогдашней прописке его матери, профессор неожиданно спросил:
– Александр, вы читали самое скандальное произведение вашего земляка, – и показал глазами на «Повесть непогашенной луны» Пильняка.
– Нет, Борис Леонидович.
– Хотите прочитать?
– Конечно, когда такой случай выпадет. Пробовал его читать – не мое.
– А потом я а вам дам второе забытое, но не менее скандальное произведение земляка, если найду это нужным, приглядевшись к вам…
– Как вас понимать?
– Так и понимайте, «Нижегородский откос» вашего писучего земляка ещё более скандален применительно к пониманию перманентной революции и социальных трансформаций…
– Даже так?
– Даже…
Перед тем как дать Александру для почтения «Повесть», Борис Леонидович спросил его, что он, вообще, раньше читал из произведений своего земляка.
– Только «Голый год».
– Это его самая первая знаменитая вещь, наделавшая шума в писательском мире сразу после октябрьской революции.
– К сожалению этот «Голый год» отбил у меня охоту читать другие вещи. – Александр хотел рассказать, что кроме «Голого года» в их Можайском домике бабушки, в юношеской библиотеке дядюшки и отца были какие-то другие книги Пильняка, вряд ли «Повесть», скорее сборники рассказов. Только резкий на суждения дядька не советовал «заморачиваться на чтении контрреволюционной литературы. – Я же сказал не моё… и даже не на вкус отца и дяди, которые во времена своего студенчества покупали книги земляка Пильняка для своей домашней библиотеки ещё до войны…
– Любопытно… Тогда я вас приглашаю на вечернюю прогулку вокруг нашего корпуса… Расскажите, о своих ощущениях от прочтения «Голого года»… Между прочим, сколько вам тогда лет было…
– Уже, четырнадцать… Честно, говоря, я сверил тогда свои ощущения с авторитетным для меня мнением дядьки… Именно он купил книгу «Голый год», в свои семнадцать лет на первую свою курсантскую стипендию, когда только что поступил в военную строительную академию Куйбышева…
– И что сказал ваш уважаемый дядюшка про знаменитый труд земляка?
– Что эту вещь написал тайный мизантроп, а сам роман – редкая контрреволюционная халтура…
Они долго шли спокойным прогулочным шагом по тротуару, наконец, Борис Леонидович вдруг рассмеялся и весёлым голосом, со смешком в горле, сказал:
– А вы знаете, у вашего дядюшки губа не дура, между прочим. Примерно так же отзывался о своём сверстнике-прозаике Пильняке, поэт Есенин… Если этот роман написан в 1920-м, издан в 1921-м, то в трехлетний промежуток до своей гибели в декабре 1925-го, Есенин в кругу своих единомышленников так отозвался о Пильняке и его нашумевшем романе. Мол, тот в свои 27 лет, халтурщик, каких свет не видывал, к тому же злобный мизантроп, спекулянт, делающий на своей тёмной прозе большие деньги… Как-то в пьяной компании, с неоспоримыми лидерами – Пильняка в прозе и Есенина в поэзии – Пильняк на глазах Есенина встал в позу вождя-очкарика, императора литературы, откинув голову и задрал ногу на стул для манифеста. И заявил: «Искусство у меня вот где, в кулаке зажато. Всё дам, что нужно и что угодно. Лишь гоните монеты. Хотите, полфунта Кремля отпущу». А Есенин, не протрезвев, потом громко возмущался по поводу литературных императорских претензий собрата по перу: вдумайтесь только «полфунта Кремля» и добавлял нелицеприятно: «Ах, говно собачье, «полфунта Кремля», и, сильно гневаясь, ударял о стол дном пивной бутылки… Каково?.. Надо понимать так, что отдавая должное стихам Есенина, Пильняк ни в грош не ставил деревенскую прозу поэта, «Яр», «У Белой воды», «Бобыль и Дружок». Впрочем, Есенин и Леонова с его «Брусками» обзывал компилятором… Но это неважно, а что вам, Александр, больше всего запомнилось в «Голом годе» и что отшатнуло от дальнейшего чтения Пильняка?..
– И запомнилась, и смутила жуткая картина «метельной» взбаламученной октябрьской революцией и войной Русской земли… Не то что напугало и ошеломило, а как-то напрягла и выбила из колеи дремучая безнадёга в деталях истории вырождения и распада дворянского рода…
– …Ордыниных, – подсказал Борис Леонидович и продолжил. – Да, метель подчеркивает потаенный смысл революции, не только у Блока, но и у Пильняка, только последний показывает не «метение» зимней природной метели, а «революционного смятения», метущего и мятущегося ужаса…
– Как-то отвратило, что он революцию с ведьмой-метелью сравнил… А дядюшка-фронтовик, обучивший меня боксу и самбо, мне популярно объяснил без околичностей, что без этой революции-ведьмы, кухаркины дети неграмотных родителей из семьи стрелочника, они с отцом, не поступили бы никогда, после бесплатного обучения в средней школе, в инженерные вузы.
Борис Леонидович усмехнулся и, покачивая головой, что-то вспоминая, сказал после затянувшейся во время чинной прогулки паузы:
– Я помню этот емкий опасный образ ведьмы-революции у Пильняка в романе, где речь идёт о событиях голодного 1919-го года, знакового «голого года», сокрушившего все привычные для русской души устои и уклады спокойной, безопасной жизни… Вот цитата из романа: «Слышишь, как революция воет? Как ведьма в метель!»
– Спасибо, что напомнили про «вой революции», что воет, «как ведьма в метель». Странно было услышать от вас про филиппики Есенина, а вот панегирик вашего тёзки своему соседу по Переделкино Пильняку мне близок. В 1931-м Пастернак посвятил Пильняку стихи с дарственной надписью: «Другу, дружбой с которым горжусь». Вы мне дали цитату про ведьму-метель, позвольте и мне процитировать Пастернака…
– Пастернак, что, ваш любимый поэт?
– После Есенина, Лермонтова и Тютчева… и других, в десятку любимых точно входит ваш тёзка. Итак, Пастернак Пильняку: «Иль я не знаю, что в потёмках тычась, вовек не вышла б к свету темнота, и я – урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста? И разве я не мерюсь с пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой корысти косней? Напрасно в дни великого совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта: она опасна, если не пуста».
– Вы считаете это стихотворное посвящение абсолютным шедевром, Александр?
– Конечно, нет… «Не мерюсь» – ляп для профи, это из лексикона начинающего стихотворца, но про «вакансию поэта» сильно сказано. И рифма классная для профи «тычась – тысяч», но она здесь в единственном числе, остальные рифмы точны, но банальны… Ведь тот же ваш тёзка высказывал устно претензии к Матусовскому претензии, что тот «украл» у него рифму «Искоса – высказать». Помните в «Подмосковных вечерах»: «Что ж ты милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать то, что на сердце у меня». К тому же в народной песне дичь стоит в виде слова для рифмы «наклоняя – дня». Надобно бы сказать – наклонив…
– Вы, Александр, явно заслужили после разъяснения мне того, на что я никогда не обратил бы внимание, прочтения «Повести о непогашенной луне». Как прочитаете, мы обсудим с вами её во время нашей очередной вечерней прогулки после ужина, если погода и врачи позволят…
Разумеется, эту «Повесть» Александр одолел за полночи на своей больничной койке в палате при приглушенном свете настольной лампы, прикрытой полотенцем. И в тот же вечер удостоился компании тёзки знаменитого поэта для обсуждения прочитанного. К ним хотел присоединиться Юрий, но профессор вежливо отшил того, мол, у нас один запланированный разговор – не для непосвященных. Беседу начал издалека:
– В этой знаковой, опасной для власти повести, догадываетесь, наверняка Александр, современники Пильняка увидели недвусмысленную аллюзию гибели на операционном столе председателя РВС, военкома Фрунзе… Смерти, якобы инспирированной вождём, генсеком Сталиным…
– Ну, это понятно… Только задаёшь себе вопрос – какая разница, было ли это сделано по приказу сверху или без всякого приказа, случайно ли, в силу плохо ли, неверно ли понятой исторической целесообразности… И оттого эта повесть выглядит как пасквиль и оправдание зла при яркой луне…
– Вот вы о чём… В лапидарном предисловии Пильняк хитроумно использует литературный приём «скрытой тайнописной подсказки читателю», когда просит того не искать в повести подлинной исторической правды в действе и судьбах героев. Пишет с присущим ему замутнением исторической оптики: «Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть Фрунзе осенью 1925 года. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, виде его мельком раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю. Всё это я нахожу сообщить читателю, чтобы читатель не искал подлинных фактов и живых лиц». Но потом при других обстоятельствах его опалы вынужден будет признаться, что соответствующую информацию о покорности командарма Гаврилова, вынужденного из-за партийной дисциплины покорно лечь под нож лучших хирургов страны для операционного излечения или удаления язвы, получил от критика Воронского и Гамбурга, сподвижника Фрунзе….
– Гамбург – это старинный товарищ Фрунзе Попов, с которым командарм встретился в вагоне поезда?..
– Вряд ли.
– Но роль Попова и его дочки Наташи по-своему мистическая в свете того, что Гаврилов (Фрунзе) почему-то захотел повидаться с другом Поповым и Наташей… Дальше Гаврилов сажает Попова в свою машину и выжимает полный газ, с риском для жизни обоих при луне. А потом Гаврилов ложится на операционный стол к лучшим хирургам Кремлевки, профессорам Лозовскому и Кокосову… Но почему-то введенный хлороформ не действует, хирурги долго не могут начать полостную операцию Гаврилов, наконец, засыпает, хирурги начинают оперировать командарма, после нужного разреза хирурги видят, что язвы не было или язва зажила… И вдруг у пациента пропадает пульс, нарушается и прекращается дыхание, Гаврилов обречен…
– В вашем голосе чувствуются скептические нотки…
– Как без них, Борис Леонидович. Не верю писателю, по почину Станиславского, лажу вижу, исходя из своего скромного операционного опыта потребления хлороформа. В повести меня ввела в ступор убийственная фраза: «Организм командарма, не принимавший хлороформа, был отравлен хлороформом». О действии хлороформа на пациента узнают задолго до операции даже в сельских больницах… А тут Кремлевка… Значит, лажа сотворена писателем, либо лажу на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли злопыхатели Воронский, Гамбург и сотоварищи-троцкисты…
– А где вы увидели мистику в повести?
– Развитие мистического сюжета на этом месте очевидной лажи не завершается… После государственных похорон Гаврилова (Фунзе), лёгшего под нож согласно приказу «негорбящегося человека» из «дома новый первый», Попов получает письмо с того света от командарма, написанного тем ещё накануне операции с предчувствием смерти. В этом странном письме командарм пишет Попову, о своей уверенности, что он скоро умрёт и предлагает старому товарищу, одному без женщины воспитывающему малолетнюю дочь Наташу, создать семью со своей вдовой… Я специально упростил сюжет с влиянием на жизнь и смерть человека непогашенной луны, светящей отражённым солнечным светом… Насколько мне известно, луна не действует на мужчин, а вот женщины с их месячным циклом крови подвержены лунному влиянию… Я не всё продумал, но у меня ночью возникли мысли, почему маленькая Наташа дует на луну за окном комнаты отца Попова, пытаясь быстрей «погасить» луну, несущую тайное зло всем, в том числе, отцу, ей – лунные чары опасны в цепи неистребимого зла…
– И когда же случится избавление от лунных чар очарованного человека?..
– У меня было мало времени для размышления, но меня смутили и лунные чары, многое озадачило и огорчило в стилистике и концепции повести земляка… Вроде явный выстрел в «негорбящегося человека» из «дома новый первый», но какой-то корявый, неловкий, когда пуле, пистолету не веришь, уж больно всё это бутафорское, шутовское…
– Зато, Александр, знайте, что сбежавший за бугор личный секретарь Сталина Бажанов в запрещенном у нас фолианте написал: «Пильняк в своей книге «Повесть о погашенной луне» с едким подзаголовком «Смерть Командарма» прямо указал пальцем на Сталина», мол, вождь убил Фрунзе. Считается, что идея написания этой повести была подсказана Пильняку критиком-троцкистом Воронским, как последователя Троцкого, Воронского с женой репрессируют, мужа расстреляют, жену после лагеря отпустят и реабилитируют. Критик Воронский даже откажется от посвящения ему повести после того, как майский номер «Нового мира» будет конфискован, а повесть майским постановлением Политбюро 1925 года была признана «злостным и клеветническим выпадом против ЦК и партии». Самое смешное, что журнал был в продаже два дня, какие-то номера были раскуплены, а потом вновь набрали пятый номер «Нового мира», где редакция принесла читателям извинения, признав появление «непогашенной луны» ошибкой. На месте погашенной луны появилось какое-то солнечное произведение, убей бог, не вспомню, какое… Воистину девочка Наташа дунула и погасила негасимую очаровывающую луну, святящую отражённым светом солнца… Вроде нет чар лунных… Вопрос, насколько новое солнце вместо луны оказалось не фальшивым, а истинным… Надо найти тот номер «Нового мира» с заменой луны на солнце и проверить свои подозрения о подмене смыслов в нашей университетской библиотеке или профессорском зале Ленинки…
– Видите, я случайно подвиг вас на новеллку о луне и солнце… Но у меня будет повод развить этот сюжет о влиянии лунных чар и солнца на судьбы людей…
– Вам это надо будет сделать после почтения ещё одной вещицы вашего парадоксального земляка… – Он сморщился и дёрнул щекой, но это вам может не понравиться, мягко говоря… Не всем ведь захочется побыстрей, без соответствующего жизненного опыта вляпаться в грязь странных литературных импровизаций с элементами фрейдизма и безумных Эдиповых комплексов… Посмотрим, стоит ли вам читать, поглядим, как карта завтра-послезавтра ляжет… Однако, вы азартный молодой человек… Ночью проснулся я, а вы читаете, настольную лампочку куртуазно простынёй завесили…
– Полотенцем, Борис Леонидович… Извините, что ваш сон прервал… А ещё меня одна фраза из «Повести» потрясла, о городской душе, замороженной луной после смерти героя: «Гудки гудели долго, медленно – один, два, три, много – сливаясь в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воет городская душа, замороженная ныне луною».