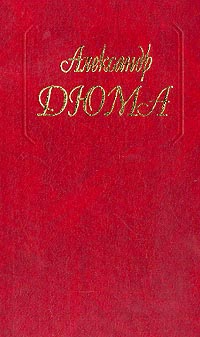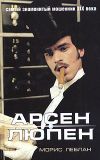Читать книгу "Шевалье де Мезон-Руж"
V. ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ ГРАЖДАНИН МОРИС ЛЕНДЕ
Пока Морис Ленде, наскоро одевшись, направлялся в секцию улицы Лепелетье, в которой, как мы уже знаем, он состоит секретарем, поведаем читателям о прошлом этого человека, способного на душевные порывы, свойственные только сильным и благородным натурам.
Накануне молодой человек, отвечая незнакомке, сказал частую правду: зовут его Морис Ленде и живет он на улице Руль. Можно было еще добавить, что он выходец из той же полуаристократии, к которой относят людей мантии. Его предки еще двести лет назад были в той постоянной парламентской оппозиции, что прославила имена Моле и Мопу. Его отец, добряк Ленде, всю жизнь жаловался на деспотизм, но, когда 14 июля 1789 года Бастилия оказалась в руках народа, он умер от испуга и ужаса от того, что деспотизм сменила воинственная свобода. И сын его, владелец солидного состояния и республиканец в душе, остался один на белом свете.
Последовавшая вскоре Революция застала Мориса в силе и мужской зрелости, какие подобают атлету, готовому вступить в борьбу. Республиканское же его воспитание крепло благодаря постоянному посещению клубов и чтению всех памфлетов того времени. Одному Богу известно, сколько должен был их прочитать Морис. Разумное и глубокое презрение ко всякого рода иерархии, рожденная философией физическая и духовная уравновешенность, полное отрицание всякой знатности, кроме той, что дается личными достоинствами, беспристрастная оценка прошлого, пылкое восприятие новых идей, симпатия к народу, соединенная с глубоким внутренним аристократизмом, – таковы были нравственные устои этого человека. Мы не выбирали его специально: его подарила нам в качестве героя повествования тогдашняя газета, откуда почерпнули мы наш сюжет. В физическом отношении Морис Ленде был пяти футов и восьми дюймов роста, лет ему было двадцать пять-двадцать шесть, и обладал он мускулами Геракла. Он отличался той красотой, в которой проявляется своеобразие французской породы: чистый лоб, голубые глаза, вьющиеся каштановые волосы, розовые щеки, зубы цвета слоновой кости. А теперь, описав портрет, расскажем немного о гражданской позиции Мориса.
Морис был если и не очень богат, то, по крайней мере, материально независим, носил известное и уважаемое имя. Он отличался либеральным воспитанием и еще более либеральными принципами. Морис стоял, если можно так выразиться, во главе партии, объединявшей всех молодых патриотов-буржуа. Может быть, у санкюлотов его считали немного умеренным, а в секции – немного надушенным. Но санкюлоты простили его умеренность, увидев, как он разламывает самые суковатые дубины, словно это хрупкий камыш, а в секции элегантность ему простили после того, как он отбросил человека, чей косой взгляд ему не понравился, на двадцать шагов, ударив его кулаком между глаз.
Это сочетание физических, нравственных и гражданских качеств привело к тому, что Морис участвовал в штурме Бастилии, в походе на Версаль. 10 августа он сражался как лев, но в этот памятный день – надо отдать ему должное – он убил столько же патриотов, сколько и швейцарцев: он не хотел мириться ни с убийцей в карманьоле, ни с врагом Республики в красной одежде.
Это он, чтобы убедить защитников дворца сдаться и напрасно не проливать кровь, бросился на жерло пушки, из которой собирался выстрелить парижский артиллерист. Это он первым проник в Лувр через окно, несмотря на огонь, который вели из засады пятьдесят швейцарцев и столько же дворян. И еще до того как он заметил сигнал капитуляции, его страшная сабля успела разрубить более десятка защитников дворца. Затем, увидев, как его друзья убивают пленных, которые бросили свое оружие и умоляли о пощаде, протягивая руки, он принялся яростно рубить своих друзей, что сделало его репутацию достойной славных времен Рима и Греции.
Когда была объявлена война, Морис поступил на военную службу и в звании лейтенанта уехал вместе с первыми полутора тысячами волонтёров, посланных в бой городом, а за ними каждый день должны были отправляться следующие полторы тысячи.
В первом же бою, при Жемапе, он был ранен: пуля, пробив стальные мышцы его плеча, засела в кости. Представитель народа, знавший Мориса, отослал его в Париж на поправку. В течение месяца, терзаемый лихорадкой, он корчился от боли, но в январе уже был на ногах и возглавлял – если не формально, то фактически – клуб Фермопил, то есть командовал сотней молодых людей, выходцев из парижской буржуазии, вооруженных и готовых противостоять любой попытке, предпринятой в пользу тирана Капета. Морис, гневно сдвинув брови, бледный, с расширившимися глазами, с сердцем, сжимавшимся от странного чувства ненависти в душе и жалости в сердце, присутствовал с саблей в руке при казни короля и был, может быть, единственным, кто в толпе молчал, когда голова этого потомка Людовика Святого удала, а душа вознеслась на небо. И только после казни он поднял вверх свою страшную саблю. Все его друзья кричали: «Да здравствует свобода!», не замечая, что на этот раз, как исключение, его голос не присоединился к их крикам.
Вот каков был этот человек, который направлялся утром 11 марта на улицу Лепелетье и которого мы постараемся доказать более зримо, останавливаясь на всех подробностях его бурной жизни, характерной для той эпохи.
К десяти часам Морис пришел в секцию, секретарем которой он был. Волнение там было сильным: обсуждался вопрос о том, чтобы направить в Конвент обращение с требованием пресечь жирондистские заговоры, и с нетерпением ждали Мориса.
Много говорили о шевалье де Мезон-Руже, о смелости, с которой этот упорный заговорщик во второй раз вернулся в Париж, где за его голову – и он знал об этом – была Назначена большая сумма. С этим возвращением связывали попытку освобождения королевы, совершенную накануне в Тампле, и каждый выражал свое негодование и свою ненависть к предателям и аристократам. Но, вопреки всеобщему ожиданию, Морис был мягок и молчалив; он искусно сформулировал воззвание, сделал за три часа всю свою работу, спросил, закончено ли заседание, и, получив утвердительный ответ, взял шляпу, вышел из клуба и направился на улицу Сент-Оноре. Когда он пришел туда, Париж показался ему совсем другим. Он вновь увидел угол Петушиной улицы, где ночью перед ним предстала прекрасная незнакомка, отбивающаяся от волонтёров. Потом он дошел до моста Мари той же Дорогой, что и накануне, останавливаясь там, где их Задерживали патрули, вспоминая разговор с незнакомкой, как будто улицы могли сохранить эхо слов, которыми они обменивались. Сейчас, в час дня, при свете солнца, воспоминания прошедшей ночи оживали на каждом шагу. Миновав мосты, Морис вскоре пришел на улицу Виктор, как ее тогда называли.
– Бедная женщина! – прошептал Морис, – она не подумала вчера, что ночь длится только двенадцать часов и ее тайна перестанет быть тайной с наступлением дня. При свете солнца я найду ту дверь, в которую она ускользнула, и кто знает, не увижу ли ее в каком-нибудь окне. Он вышел на Старую улицу Сен-Жак и остановился в той же позе, в какой незнакомка оставила его вчера. На мгновение он закрыл глаза, возможно надеясь, – бедный безумец! – что вчерашний поцелуй во второй раз обожжет его губы. Но ничто не обожгло его, кроме воспоминаний.
Морис открыл глаза и увидел две улочки – одну справа, другую слева. Они были грязны, плохо вымощены, загромождены заборами, пересечены мостиками, перекинутыми через ручей. Бросались в глаза деревянные арки, закоулки, плохо прикрытые полусгнившие двери. Это была нищета во всем своем безобразии. То тут, то там виднелся садик с изгородью или палисадник с подпорками, кое-где оградами служили стены. Под навесами сушились кожи, распространяя тот омерзительный тошнотворный запах, которым отличаются кожевенные мастерские. Морис по-всякому вел свои поиски в течение двух часов, но ничего не нашел, ничего не разгадал. Раз десять он возвращался, чтобы осмотреться, но все его попытки найти незнакомку были бесполезны, и поиски закончились безрезультатно. Казалось, что следы молодой женщины смыты туманом и дождем.
«Что ж, – сказал себе Морис, – вероятно, мне все это пригрезилось. Эта клоака ни на мгновение не могла быть убежищем для моей прекрасной феи».
В нашем суровом республиканце была поэзия куда более истинная, чем в анакреонтических четверостишиях его друга, ибо Морис пришел к этой мысли, чтобы не потускнел ореол, сияющий над головой его незнакомки. Домой он вернулся в отчаянии.
– Прощай, таинственная красавица! – сказал он. – Ты обошлась со мной как с ребенком или дураком. Действительно, разве пришла бы она туда со мной, если бы там жила? Нет! Она лишь пролетела там, как лебедь над смрадным болотом. И, словно у птицы в воздухе, след ее невидим.
VI. ТАМПЛЬ
В тот же день, в тот самый час, когда Морис в печали и разочаровании возвращался к себе через мост Турнель, группа муниципальных гвардейцев в сопровождении Сан-тера, командующего национальной парижской гвардией, производила обыск в башне Тампля, переоборудованной с 13 августа 1792 года в тюрьму.
Особенно тщательно этот обыск производился в покоях на четвертом этаже, состоявших из передней и трех комнат.
В одной из комнат находились две женщины, молодая девушка и девятилетний ребенок; все они были в трауре.
Старшей из женщин было лет тридцать семь-тридцать восемь. Она сидела за столом и читала.
Вторая сидела за вышивкой. Ей можно было дать двадцать восемь-двадцать девять лет.
Девушке было лет четырнадцать, она сидела рядом с ребенком: он был болен и лежал, закрыв глаза и притворившись спящим: уснуть, конечно, было невозможно при том шуме, который производили солдаты.
Одни из них перетряхивали кровати, другие рылись в белье. Те, что закончили поиски, нагло и пристально разглядывали несчастных узниц, упорно не поднимавших глаз: одна – от своей книги, другая – от вышивки, а третья – от своего брата.
Старшая из женщин, высокая, бледная и красивая, казалось, полностью ушла в книгу, хотя, вероятнее всего, читали только ее глаза, мысли же были далеко…
Один из муниципальных гвардейцев подошел к ней, грубо вырвал книгу и швырнул на середину комнаты.
Узница протянула руку к столу, взяла другой том и продолжала чтение. Монтаньяр с яростью протянул руку, намереваясь поступить с этой книгой так же, как с первой. При этом узница, сидевшая у окна с вышивкой, вздрогнула, а девушка бросилась к читавшей и, обняв ее голову, со слезами прошептала:
– О! Бедная, бедная мамочка! Потом поцеловала ее.
Та, в свою очередь, коснулась губами уха девушки, будто тоже хотела ее поцеловать, и сказала:
– Мария, в отдушнике печи спрятана записка, уничтожьте ее!
– Ну, хватит! – произнес гвардеец, грубо оттащив девушку от матери. – Сколько можно обниматься?
– Сударь, – ответила девушка, – разве Конвент издал декрет о том, что дети больше не могут обнимать своих матерей?
– Нет, но он постановил карать предателей, аристократов и бывших; мы здесь для того, чтобы допрашивать. Ну, Антуанетта, отвечай.
Та, к которой так грубо обратились, не удостоила спрашивающего даже взглядом. Напротив, она отвернулась, и легкий румянец выступил на ее щеках, побледневших от горя и слез.
– Не может быть, чтобы ты не знала о заговоре прошлой ночи, – продолжал гвардеец. – Кто должен был тебе помочь?
Узница по-прежнему молчала.
– Отвечайте, Антуанетта, – сказал Сантер, приближаясь к ней и не замечая дрожи ужаса, охватившего женщину при виде этого человека: это он 21 января утром пришел в Тампль за Людовиком XVI, чтобы отвести его на эшафот. – Отвечайте. Этой ночью был заговор против Республики, вас пытались освободить. В башню Тампля вы заключены по воле народа и должны ожидать наказания за ваши преступления. Итак, вам было известно о заговоре? Мария Антуанетта вздрогнула от звука этого голоса; казалось, она пытается бежать от него, подавшись назад, насколько позволял стул. Но на этот вопрос Сантеру она не ответила, так же как и гвардейцу – на два предыдущих.
– Значит, вы не желаете отвечать? – крикнул Сантер, сильно топнув ногой.
Узница взяла со стола третий том.
Сантер отвернулся. Грубая сила этого человека, который командовал восемьюдесятью тысячами людей и которому достаточно было одного жеста, чтобы заглушить голос умирающего Людовика XVI, разбилась о достоинство несчастной узницы: он мог ее обезглавить, но не в силах был сломить.
– А вы, Елизавета? – обратился он к другой женщине (она оставила свое вышивание, чтобы сложить руки и помолиться, не этим людям, конечно, а Богу). – Вы будете отвечать?
– Я не знаю, о чем вы спрашиваете, – проговорила ода, – следовательно, не могу и отвечать.
– Черт возьми! Гражданка Капет, – сказал Сантер, теряя терпение, – я же ясно сказал, что вчера вечером вам пытались помочь бежать. Вы должны знать виновных.
– Мы ведь не имеем никакой связи с внешним миром, сударь, а стало быть, не можем знать ни того, что делается для нас, ни того, что делается против нас.
– Хорошо, – сказал муниципальный гвардеец, – посмотрим, что скажет об этом твой племянник.
И он направился к кровати дофина.
Услышав эту угрозу, Мария Антуанетта немедленно встала.
– Сударь, – попросила она, – мой сын болен и спит. Не будите его.
– Тогда отвечай.
– Я ничего не знаю.
Гвардеец подошел к кровати маленького узника, который, как мы уже сказали, притворялся спящим. – Давай-ка, Капет, просыпайся, – сказал он, грубо встряхнув его. – Ребенок открыл глаза и улыбнулся.
Гвардейцы окружили кровать.
Вне себя от горя и страха, королева подала знак дочери; та воспользовалась моментом и выскользнула в соседнюю комнату. Там она открыла один из отдушников печи, вытащила записку, сожгла ее и, сразу же вернувшись обратно, Ободрила мать взглядом.
– Что вы от меня хотите? – спросил ребенок.
– Хотим знать, слышал ли ты что-нибудь этой ночью.
– Нет, я спал.
– Ты видно, любишь крепко поспать.
– Да, потому что, когда я сплю, я вижу сны.
– И что же тебе снится?
– Что я опять вижу отца, которого вы убили.
– Так ты ничего не слышал? – повторил Сантер.
– Ничего!
– Эти волчата и впрямь сговорились с волчицей, – произнес разъяренный муниципальный гвардеец. – Однако же заговор был.
Королева улыбнулась.
– Она презирает нас, эта Австриячка! – крикнул гвардеец. – Ну если так, то исполним декрет Коммуны по всей строгости. Вставай, Капет.
– Что вы собираетесь делать? – воскликнула королева, не помня себя. – Разве вы не видите, что он болен, его лихорадит! Вы хотите, чтобы он умер?
– Твой сын, – ответил муниципальный гвардеец, – предмет постоянной тревоги для совета Тампля. Именно он является целью для всех заговорщиков. Ведь они думают, что смогут увезти вас всех сразу. Ну что ж, посмотрим. Тизон! Позовите Тизона.
Тизон был поденщиком, выполнявшим в тюрьме всю тяжелую работу.
Он пришел.
Это был человек лет сорока, смуглый, с суровым и диким лицом, вьющимися черными волосами, падавшими на брови.
– Тизон, – спросил Сантер, – кто вчера приносил арестованным еду?
Тизон назвал фамилию.
– А кто приносил белье?
– Моя дочь.
– Разве твоя дочь прачка?
– Да.
– И ты позволил ей работать здесь, у арестованных?
– А почему бы и нет? Она ведь за это получает, как получала бы любая другая. Ведь эти деньги не принадлежат больше тиранам, это деньги нации. А поскольку нация платит за них…
– Тебе ведь говорили, что ты должен внимательно осматривать белье.
– Да. А я разве не выполняю свой долг? В доказательство могу сказать, что вчера среди белья был носовой платок с завязанными на нем двумя узелками, я отнес его в совет. Моей жене приказали развязать узелки, разгладить платок и отдать госпоже Капет, не говоря ей ничего.
При упоминании об этих двух узлах, завязанных на носовом платке, королева вздрогнула, ее зрачки расширились, и она обменялась взглядом с мадам Елизаветой.
– Тизон, – сказал Сантер, – твоя дочь гражданка, в чьем патриотизме никто не сомневается; но с сегодняшнего дня она не будет ходить в Тампль.
– Боже мой! – воскликнул испуганный Тизон. – Что вы такое говорите? Как? Я смогу видеть свою дочь только тогда, когда буду выходить?
– Ты не будешь больше выходить, – ответил Сантер. Тизон обвел всех угрюмым блуждающим взглядом.
– Я больше не выйду! – воскликнул он вдруг. – Как же так? Хорошо, тогда я хочу выйти совсем, вот! Я подаю в отставку. Я не предатель и не аристократ, чтобы меня держали в тюрьме. Я вам заявляю, что хочу выйти.
– Гражданин, – сказал Сантер, – подчиняйся приказам Коммуны и замолчи, иначе тебе не поздоровится. Это я тебе говорю. Оставайся и наблюдай за всем, что здесь происходит. За тобой тоже присматривают, я тебя об этом предупреждаю.
В это время королева, решив, что о ней забыли, мало-помалу успокоилась и уложила сына обратно в кровать.
– Пусть твоя жена придет сюда, – приказал Сантер Тизону.
Тот беспрекословно подчинился. Угрозы Сантера превратили его в покорного ягненка. Пришла тетка Тизон.
– Подойди сюда, гражданка, – велел Сантер. – Сейчас мы выйдем в прихожую, а ты обыщешь арестованных.
– Знаешь, жена, – сказал Тизон, – они не хотят больше пускать нашу дочь в Тампль.
– Как! Они больше не хотят пускать нашу дочь в Тампль? Что же, мы больше ее не увидим?
Тизон покачал головой.
– Что это вы такое говорите?
– Мы подадим рапорт в совет Тампля, и совет решит. А пока…
– А пока, – подхватила его жена, – я хочу видеть дочь.
– Тихо! – скомандовал Сантер. – Тебя позвали для того, чтобы ты обыскала арестованных, так займись этим, а потом посмотрим…
– Но!.. Однако!..
– Мне кажется, что у нас здесь все идет не так, как надо, – произнес Сантер, нахмурив брови.
– Делай то, что тебе приказал гражданин генерал! Выполняй, женщина. А потом, тебе ведь сказали: «Посмотрим», – и Тизон взглянул на Сантера с подобострастной улыбкой.
– Хорошо, – согласилась женщина, – идите, я готова их обыскать.
Мужчины вышли.
– Дорогая госпожа Тизон, – сказала королева, – поверьте, что…
– Я не верю ничему, гражданка Капет, – ответила страшная женщина, скрежеща зубами, – ничему, кроме того, что только ты причина всех несчастий народа. И уж я найду у тебя что-нибудь подозрительное, увидишь…
Четверо мужчин скрылись за дверью, чтобы в любую минуту прийти на помощь, если королева будет сопротивляться.
Обыск начался с королевы.
У нее обнаружили платок с тремя узелками, приготовленный, к несчастью, в ответ на тот, о котором говорил Тизон, карандаш, ладанку и воск для запечатывания писем.
– Ага! Я так и знала, – сказала тетка Тизон. – Я уже говорила гвардейцам, что она пишет, эта Австриячка! Как-то раз я нашла каплю воска на розетке подсвечника.
– О сударыня, прошу вас, – взмолилась королева, – покажите им только ладанку.
– Как бы не так, пожалеть тебя! А кто меня пожалеет? У меня отняли дочь.
У мадам Елизаветы и у принцессы ничего не нашли.
Тетка Тизон позвала муниципальных гвардейцев, и они вернулись во главе с Сантером. Она вручила им все, что нашла у королевы; предметы эти переходили из рук в руки, их рассматривали, высказывая различные предположения. Особое внимание гонителей королевской семьи привлек носовой платок с тремя узелками.
– А теперь, – сказал Сантер, – мы зачитаем тебе постановление Конвента.
– Какое постановление? – спросила королева.
– Согласно ему, тебя разлучают с сыном.
– Неужели действительно существует такое постановление?
– Да. Конвент слишком тревожится за ребенка, которого ему доверила нация, чтобы оставлять его в компании такой порочной матери, как ты.
Глаза королевы метали молнии.
– По крайней мере, хотя бы сформулируйте обвинение; звери вы, а не люди!
– Черт возьми, – ответил муниципальный гвардеец, – это не трудно, вот…
И он произнес гнусное обвинение, подобное выдвинутому Светонием против Агриппины.
– О! – воскликнула королева; она стояла бледная и величественная в своем негодовании. – Я взываю к сердцу всех матерей!
– Полно, полно, – сказал муниципальный гвардеец, – все это решено. Но мы здесь уже около двух часов. Не можем же мы терять весь день. Вставай, Капет, и следуй за нами.
– Никогда! Никогда! – закричала королева, бросаясь между гвардейцами и юным Людовиком, намереваясь защитить подступы к кровати сына, подобно тигрице, защищающей свое логово. – Никогда не позволю отобрать моего сына!
– О господа! – сложила в мольбе руки мадам Елизавета. – Господа, молю именем Неба! Сжальтесь над обеими матерями!
– Говорите, – сказал Сантер, – назовите имена, расскажите о планах ваших соучастников, объясните, что означают узелки на носовом платке, принесенном вместе с бельем девицей Тизон, и те, что завязаны на платке, найденном в вашем кармане. Тогда вам оставят сына. Казалось, взгляд мадам Елизаветы умолял королеву принести эту ужасную жертву.
Но та, гордо вытерев слезу, которая, подобно бриллианту, блестела в уголке ее глаза, произнесла: – Прощайте, сын мой. Никогда не забывайте вашего отца, что теперь на небесах, и вашу мать, что скоро с ним соединится. По утрам и вечерам повторяйте молитву, которой я вас научила. Прощайте, сын мой.
Она в последний раз поцеловала его. Затем поднялась, холодная и непреклонная.
– Я ничего не знаю, господа, – заключила она, – можете делать все что угодно.
Но королеве потребовалось больше сил, чем было та в сердце женщины, тем более – в сердце матери. Она в изнеможении упала на стул, когда уносили ребенка. По его щекам катились слезы, он тянул к ней руки, но не издал ни звука.
За муниципальными гвардейцами, унесшими королевское дитя, захлопнулась дверь, и женщины остались одни. Прошла минута безнадежной тишины, изредка прерываемая рыданиями.
Королева первая нарушила молчание.
– Дочь моя, – спросила она, – где записка?
– Я сожгла ее, как вы мне велели, матушка.
– Не читая?
– Не читая.
– Итак, прощай последний проблеск, последняя надежда! – прошептала мадам Елизавета.
– Вы правы, тысячу раз правы, сестра, мы так страдаем! Потом она повернулась к дочери:
– Мария, но, по крайней мере, почерк вы видели?
– Да, матушка, мельком.
Королева поднялась, бросила взгляд на дверь, чтобы убедиться, что за ними никто не наблюдает, и, вынув из прически шпильку, подошла к стене, вытащила из трещины маленький сложенный кусочек бумаги и показала принцессе.
– Дочь моя, вспомните хорошенько, прежде чем отвечать, почерк той записки был тот же, что здесь?
– Да, да, матушка, – воскликнула Мария, – да, я узнаю его! .
– Слава тебе, Господи! – воскликнула королева с жаром, падая на колени. – Если он смог написать утром, значит, он спасен. Господи, благодарю тебя! Такой благородный друг достоин одного из твоих чудес.
– О ком вы говорите, матушка? – спросила принцесса. – Кто он, этот друг? Скажите мне, как его зовут, я буду молиться за него.
– Да, дочь моя, вы правы; никогда не забывайте этого имени, потому что это имя храбрейшего и честнейшего дворянина. Он жертвует собой не из честолюбия, ибо появляется только в дни несчастья. Он никогда не видел королеву Франции, вернее, королева Франции его никогда не видела, а он готов пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить ее. И может быть, будет награжден за это, как награждают сегодня за все добродетели, – ужасной смертью… Но, если он умрет… о, там, наверху, я его отблагодарю. Его зовут…
Королева с беспокойством огляделась вокруг и прошептала:
– Его зовут шевалье де Мезон-Руж. Молитесь за него.