Читать книгу "Молодая гвардия"
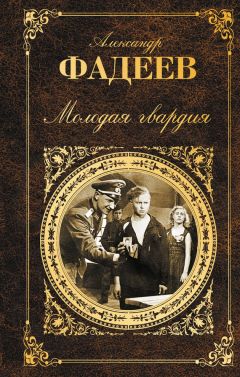
Автор книги: Александр Фадеев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Тут только она почувствовала, как страшно может обернуться жизнь. Она должна бросить мать, отца врагу на поругание и одна ринуться в этот неизвестный и страшный мир лишений, скитаний, борьбы… Она почувствовала такую слабость в коленях, что едва не опустилась на землю. Ах, если бы она могла залезть сейчас в эту маленькую обжитую хатку, закрыть ставни, упасть в свою девичью постель и так вот лежать тихо-тихо и ничего не решать. Кому какое дело до черненькой девочки Ули! Вот так вот забраться в постель, поджать ноги и жить среди близких, любящих людей – будь что будет… Да и что оно будет, и когда оно будет, и долго ли оно будет? А может быть, это не так уж страшно?
Но в то же мгновение она содрогнулась от унижения гордости, унижения от самой возможности допустить такой выход. Да уже и не было времени выбирать: к ней уже бежала мать навстречу. Какая сила подняла ее с постели? За матерью шли отец, сестра, муж сестры, бежали ребятишки. Печать необыкновенного волнения лежала на всех лицах, а маленький племянник плакал.
– Куда ж ты запропала, доню моя? Тебя же с самой зари найти не могут. Беги скорей до Анатолия, коли он не уехал, беги, доню! – говорила мать, и слезы, которых она даже не пыталась убрать, катились по ее загорелым бледным морщинистым щекам.
Мать все еще была чернява, хотя и стара и начала гнуться к земле. Она была чернява, и черные глаза у нее были красивые, как у большой дикой птицы, хотя сама она была маленькая. И характером она была сильная и умная, – дочери и старый Матвей Максимович слушались ее. Но вот пришел час, когда дочь сама должна была решить за себя, и силы матери надломились.
– Кто искал? Анатолий? – быстро спросила Уля.
– Та с райкому шукали, – стоя позади матери с тяжело опущенными большими руками, говорил отец.
Как он был уже стар! Спереди он почти совсем облысел, только на затылке да на висках еще остались следы былых кудрей, они все еще завивались кольчиками, но в гренадерских рыжеватых усах его было уже столько седины, и щетина на лице была седоватая, и нос совсем сизый, и кирпичного цвета лицо его, лицо солдата, было все в морщинах.
– Беги, беги, доню! – повторяла мать. – Обожди, я Анатолия скличу! – И она, маленькая, старая, побежала между грядок к соседям Поповым, сын которых Анатолий вместе с Улей окончил в этом году первомайскую школу.
– Да ложитесь же вы, мама, я сама!
Уля бросилась за матерью, но та уже бежала вишенником вниз, и они побежали вместе, старая и молодая.
Усадьбы Громовых и Поповых граничили садами, полого спускавшимися в пересохшую балочку, по самому дну которой пролегала граница – плетень. Но хотя они всю жизнь были соседями, Уля никогда не видалась с Анатолием помимо школы да комсомольских собраний, где он часто выступал с докладами. В детстве у него были свои мальчишеские интересы, а в старших классах над ним подтрунивали, будто он боится девочек. И правда, когда он встречался с Улей, да и не только с Улей, где-нибудь на улице или на квартире, он так терялся, что даже не успевал поздороваться, а если здоровался, краснел так, что любую девочку вгонял в краску. Об этом девочки иногда говорили между собой и подсмеивались над Анатолием. Но все-таки Уля уважала его, он был такой начитанный, умный, замкнутый, любил те же стихи, что и Уля, собирал жуков и бабочек, минералы и гербарии.
– Таисья Прокофьевна! Таисья Прокофьевна! – кричала мать, перегнувшись через низенький плетень в садик соседей. – Толечка! Уля пришла…
Где-то на той стороне вверху, не видная за деревьями, отозвалась тоненьким голоском сестренка Анатолия. И вот он уже сам бежал среди деревьев, усеянных маленькими поспевающими вишенками, – в украинской, вышитой по подолу и концам рукавов, рубашке с расстегнутым воротом и в узбекской шапочке на затылке, которую он носил, чтобы не рассыпались его зачесанные назад длинные, овсяного цвета волосы. Его всегда серьезное худое загорелое лицо с белесоватыми бровями было сильно разгорячено, он так вспотел, что мокрые пятна кругами выступили у него под мышками. И, видно, он совсем забыл о том, что Ули можно стесняться.
– Ульяна… ты знаешь, я тебя с самого утра ищу, ведь я уже всех ребят и девчат обегал, я из-за тебя Витьку Петрова задержал с отъездом, они у нас здесь, отец его ужас как ругается, собирайся немедленно! – быстро говорил он.
– Мы же ничего не знали. Чье это распоряжение?
– Распоряжение райкома – всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я всех предупредил, а вашей всей компании нет, я ужас как перенервничал. А тут с хутора Погорелого едут Витька Петров с отцом. Отец у него еще в гражданскую войну партизанил тут против немцев, задерживаться ему, конечно, нельзя ни минуты, и, представляешь себе, Витька специально заезжает за мной! Вот товарищ, так товарищ! Отец у него лесничий, лошади у них в лесхозе хар-рошие! Я, конечно, стал их задерживать. Отец ругается, я говорю: «Вы же сам старый партизан, понимаете, что товарища бросать нельзя, к тому же, – говорю, – вы, должно быть, человек бесстрашный…» Вот мы тебя и ждем, – быстро говорил Анатолий, желая, видимо, немедленно поделиться с Улей всем, что он пережил, и глядя на нее то светло-серыми, то голубыми, вдруг просиявшими глазами, которые мгновенно сделали таким обаятельным его белесоватое лицо.
И как это оно казалось ей раньше ничем не примечательным? В лице Анатолия было выражение душевной силы, да, именно силы – где-то в складке полных губ, в широком вырезе ноздрей.
– Толя, – сказала Уля, – Толя… ты… – голос ее дрогнул, она протянула ему через плетень узкую загорелую руку. И тогда он смутился.
– Быстро, быстро, – сказал он, боясь встретиться с ее черными, прожигавшими его насквозь глазами.
– Я уже все собрала, подъезжайте к воротам… подъезжайте… подъезжайте, – повторяла Улина мама, и слезы все катились и катились по ее лицу.
До этой минуты мать еще не совсем верила, что дочь ее пустится одна в этот огромный, распавшийся на части мир, но она знала, что дочери оставаться опасно, и вот нашлись добрые люди, и взрослый человек с ними, и теперь все уже было кончено.
– Но, Толя, ты предупредил Валю Филатову? – сказала Уля с решимостью в голосе. – Ты же понимаешь, это моя лучшая подруга, я не могу уехать без нее.
На лице Анатолия изобразилось такое искреннее огорчение, что он не мог, да и не пытался скрыть его.
– Ведь лошади-то не мои и нас уже четыре человека… Я просто не знаю, – растерялся он.
– Но ты понимаешь, что я не могу бросить ее и уехать?
– Лошади, конечно, очень сильные, но все-таки пять человек…
– Вот что, Толя, спасибо тебе за все, за все… Вы езжайте, а я с Валей… мы пешком пойдем, – решительно сказала Уля. – Прощай!
– Господи, как же пешком, доню моя! Я ж тебе все платья, белье в чемодан сложила, а постель?.. – И мать, по-детски утирая кулаками лицо, громко заплакала.
Благородство Ули по отношению к подруге не только не казалось Анатолию удивительным, – оно казалось ему вполне естественным, было бы удивительно, если бы Уля поступила иначе. Поэтому он не раздражался и не выражал нетерпения, – он просто искал выход из положения.
– Да ты хоть спроси у нее! – воскликнул он. – Может, она уже уехала, а может, и не собирается никуда, она же не комсомолка все-таки!
– Я за ней сбегаю, – воспрянула Матрена Савельевна; она уже совсем потеряла меру силам своим.
– Да ложитесь же вы, мама, я все сама сделаю! – сказала Уля в сердцах.
– Толька! Скоро вы там? – сильным, звучным голосом позвал сверху, от хаты Поповых, Виктор Петров.
– Лошади, конечно, у них сильные. В крайнем случае мы можем по очереди бежать за телегой, – вслух размышлял Анатолий.
Но Уле не понадобилось идти за Валей. Только Уля с матерью поднялись к крылечку дома, там, между этим крылечком и домашними пристройками, кухонкой и сарайчиком для коровы, стояла среди домашних Ули осунувшаяся Валя Филатова. Бледность в лице ее проступила даже сквозь сильный загар.
– Валюша, собирайся, есть лошади, мы его уговорим, чтобы он взял нас обеих! – быстро сказала Уля.
– Обожди, мне нужно сказать тебе два слова… – Валя взяла ее за руку. Лицо у Вали было серьезное и бледное.
Они отошли к калитке.
– Уля! – сказала Валя, прямо взглянув ей в глаза своими широко расставленными светлыми глазами, выражавшими подлинную муку. – Уля! Я не поеду никуда, я… Уля! – сказала она с силой. – Ты необыкновенный человек на свете, да, да, в тебе есть что-то сильное, большое, ты все можешь, правду говорит моя мама – Бог дал тебе крылья… Улечка, ты мое счастье на свете, – говорила Валя с жаром любви, – самое счастливое, что у меня было на свете, это ты, но я… я не поеду с тобой. Я самый обыкновенный человек на свете, я это знаю, и я всегда мечтала о самом обыкновенном… Вот, думала, выучусь, буду работать, встречу хорошего, доброго человека, выйду замуж, будут у меня дети, мальчик, девочка, будет у нас жизнь светлая, простая, и больше ни о чем я не думала. Улечка, я не умею бороться, я боюсь пуститься на сторону одна… Да, да, я вижу, теперь все порушилось, эти мои мечты, но у меня мама старенькая, я никому ничего худого не сделала, я человек незаметный, и я останусь и… и прости меня…
И Валя заплакала в платочек, который она все время комкала в руках. И Уля, вдруг обняв и прижав ее к себе, тоже заплакала над ее такой знакомой, милой, пахучей русой головкой. С самого детства дружили они, вместе учились, переходили из класса в класс, делили друг с другом первые девичьи радости, горести и тайны. Уля была замкнута и только в минуты особенного душевного состояния раскрывала себя, а Валя всегда говорила ей все, все, не поспевая своими чувствами за ходом Улиных признаний, когда приходила им пора, но разве в юности заботятся о том, чтобы понимать друг друга, – радость состоит в чувстве доверия, в возможности поделиться. И оказалось, что они совсем, совсем разные… Но столько чистых, прозрачных дней стояло за их нежной, святой девичьей дружбой, что горе разлуки раздирало их сердца. Валя чувствовала, что она отказывается сейчас от чего-то самого большого и светлого в своей жизни, дальше оставалось что-то очень серое и что-то очень неизвестное и ужасное.
А Уля чувствовала, что она теряет единственного человека, которому она могла в минуту счастья или самого великого душевного стеснения раскрыть всю себя, какая она есть, Уля. Она не заботилась о том, чтобы подруга понимала ее, она знала только, что всегда найдет отклик чувства – доброты и покорности, любви и просто чуткости – в ее душе. И Уля плакала потому, что это был конец ее детства, она становилась взрослой, она выходила в мир, и выходила одна.
Только теперь она вспомнила, как Валя вынула из ее волос лилию и бросила на землю. Уля поняла теперь, зачем Валя сделала это. В момент такого потрясения Валя догадалась, как странно выглядела бы ее подруга с этой лилией в волосах там, где рвут шахты, и поэтому она освободила ее от этой лилии. Значит, она вовсе не была такой обыкновенной, как она говорила, она могла понимать многое.
Какое-то предчувствие говорило им, что то, что происходит между ними, это происходит в последний раз. Они не только чувствовали, они знали, что они в каком-то особенном, душевном смысле прощаются навсегда. Поэтому они плакали от всего сердца, не стесняясь своих слез и не пытаясь их сдерживать.
Много слез было пролито в эти годы – не только в донецкую, а во всю порушенную, выжженную, политую кровью, по́том советскую землю. Среди этих слез были слезы бессилия, ужаса, прямой нестерпимой физической боли. Но сколько было слез высоких, святых, благородных – самых святых и благородных, какие только проливало человечество. Едва затарахтела, подъезжая к воротам, длинная, с косыми решетками, селянская, переделанная из гарбы телега, заваленная узлами и чемоданами, запряженная в дышло двумя добрыми гнедыми конями, которыми правил крупный пожилой мужчина с мясистым сильным лицом, в полувоенной гимнастерке и кожаной фуражке, – Уля оторвалась от подруги, низом продолговатой ладони, как подушечкой, смахнула слезы, и лицо ее приняло обычное выражение..
– Прощай, Валя…
– Прощай, Улечка! – Валя заплакала в голос.
Они поцеловались.
Подвода остановилась у ворот. Из-за нее, красные и потные от бега и тоже заплаканные, показались мать Анатолия, Таисия Прокофьевна, здоровая, с светлыми глазами и волосами, рослая, белотелая казачка, и младшая сестра Анатолия, Наташа. Отец его с первых дней объявления войны был на фронте. Анатолий сидел уже на возу, рядом с ним сидел, в распахнутой на груди майке, темноволосый, миловидный, с выражением грусти в смелых мальчишеских глазах, Виктор Петров, державший в руках обернутую во что-то мягкое и перевязанную шнуром гитару. Уля повернулась и, точно деревянная, пошла навстречу семье. Ей уже несли чемодан, узлы, платок. Мать, со своими черными глазами большой дикой птицы, маленькая и старая, метнулась к ней.
– Мама, – сказала Уля.
Мать всплеснула сухонькими ручками и упала замертво.
Глава 4
Со времени великого переселения народов не видела донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года. По шоссейным, грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы – то нестройными колоннами, то вразброд, толкая перед собой тачки с вещами и с детьми на узлах. Они шли, топча созревающие и уже созревшие хлеба, и никому уже не было жаль этого хлеба – ни тем, кто топтал, ни тем, кто сеял, – они стали ничьими, эти хлеба: они оставались немцам. Колхозные и совхозные картофельные поля и огороды были открыты для всех. Беженцы копали картофель и пекли его в золе костров, разведенных из соломы или станичных плетней, – у всех, кто шел или ехал, можно было видеть в руках огурцы, помидоры, сочащийся ломоть кавуна или дыни. И такая пыль стояла над степью, что можно было, не мигая, смотреть на солнце.
Взятие немцами Миллерова, города и крупной железнодорожной станции на магистрали Воронеж – Ростов, и стремительное движение их танковых и моторизованных частей на Морозовскую, станцию на железной дороге, связывавшей Донбасс со Сталинградом, отрезало Ворошиловградскую и Ростовскую области от центра страны, поставило под угрозу Сталинград и изолировало армии Южного фронта.
То, что поверхностному взгляду отдельного человека, как песчинка вовлеченного в поток отступления и отражающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что совершается вокруг него, казалось случайным и бессмысленным выражением паники, было на самом деле невиданным по масштабу движением огромных масс людей и материальных ценностей, приведенных в действие сложным, организованным, движущимся по воле сотен и тысяч больших и малых людей, государственным механизмом войны.
Армии Южного фронта, выставив заслоны у Ворошиловграда и по реке Миус, выбрасывая по пути сильные отряды флангового охранения, отходили в направлении на Новочеркасск и Ростов, с тем чтобы успеть пройти за Дон, избежав глубокого флангового охвата их с севера. И в том же направлении двигались эвакуировавшиеся из Ворошиловграда и области крупные предприятия и учреждения.
Другие, меньшие потоки отступавших воинских частей отходили в направлении на Каменск, город километрах в сорока от Краснодона, расположенный южнее Миллерова, в том пункте, где железная дорога Воронеж – Ростов пересекает реку Северный Донец, и в направлении через Лихую на Белокалитвенскую, станцию на железной дороге Донбасс – Сталинград, в пункте, где эта дорога пересекает Северный Донец. Эти части должны были прикрыть правый, северный, фланг отступающих армий Южного фронта.
Как это бывает в вынужденном быстром отступлении, кроме этих главных, больших, хотя и трудных, но осмысленных движений масс войск и гражданского населения, по всем дорогам и прямо по степи в направлении на восток и юго-восток шли беженцы, мелкие учреждения и коллективы, разрозненные команды и обозы войск, разбитых в боях, потерявших связь, сбившихся с пути, группы военных, отставших по болезни или ранению, по недостатку транспорта. Эти, то большие, то меньшие группы, не имевшие никакого представления о том, что же в действительности происходит на фронте, шли, куда им казалось вернее и выгоднее, забивали все поры и вены главного движения и прежде всего забивали переправы через Донец и Дон, где у паромов и понтонных мостов, подвергаясь вражеской бомбардировке с воздуха, в течение суток крутились целые таборы людей, машин, подвод.
Как ни бессмысленно было движение на Каменск в условиях, когда немецкие части уже вышли далеко по ту сторону Донца, значительная часть беженцев из Краснодона устремилась именно в этом направлении, потому что в этом направлении еще шли воинские части. И именно в этот бессмысленный поток попала запряженная двумя добрыми гнедыми конями селянская телега, на которой ехали Уля Громова, Анатолий Попов, Виктор Петров и его отец. Едва скрылись из глаз последние хуторские строения, когда подвода среди других подвод и машин уже перевалила на пологий съезд с холма, из глубины неба внезапно вырвался чудовищный рев моторов, и снова низко над головами, застив солнце, промчались немецкие пикировщики, ударили по шоссе из пулеметов.
Отец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной фуражке, с мясистым лицом и сильным голосом, вдруг побелел.
– В степь! Ложись! – крикнул он ужасным голосом. Но ребята уже соскочили с телеги и бросились в пшеницу. Отец Виктора, опустив вожжи, тоже соскочил с телеги и тут же на месте исчез, будто испарился, будто это был не мужик-лесничий в тяжелых сапогах, а дух бесплотный. Одна Уля осталась на возу, – она сама не знала, почему она не побежала. Но в то же мгновение испуганные кони рванули так, что едва не выкинули ее из телеги.
Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотянуться: кони, едва не налетев грудью на бричку впереди, взмыли на дыбы и рванули в сторону, чуть не оборвав постромки. Устойчивая, длинная, вместительная телега, переделанная из гарбы, было опрокинулась, но снова стала на колеса. Уля, уцепившись одной рукой за край телеги, а другой за какой-то тяжелый чувал, напрягала все силы, чтобы не выпасть: ее тут же задавили бы бесновавшиеся вокруг лошади других подвод.
Громадные гнедые кони, обезумев, рвались по вытоптанному хлебу среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и брызгая пеной. Вдруг с брички впереди соскочил высокий, широкоплечий, светловолосый юноша с непокрытой головой и кинулся, казалось, под самых коней.
Уля не сразу сообразила, что произошло, но через мгновение она увидела меж конских голов с взметенными гривами и оскаленными пастями его очень юное, свежее, сверкающее глазами, с выражением необычайного напряжения и силы, с плитами румянца на щеках, скуластое лицо.
Схватив сильной рукой одного храпящего коня за вожжу у самых удил, юноша стоял между конем и дышлом, больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дышлом. Юноша стоял, рослый, аккуратный, в хорошо выглаженной серой паре с темно-красным галстуком и выглядывавшим из карманчика пиджака белым костяным наконечником складной ручки. Другой рукой он поверх дышла пытался поймать за вожжу другого коня. Только по вздувшемуся под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обозначившимся жилам у загорелой кисти руки, которой он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило.
– Тпру… тпру… – говорил он не очень громко, но повелительно.
И в тот момент, как ему удалось схватить за вожжу другого коня, оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они еще встряхивали гривами, косясь на него звериными очами, но он не отпускал их, пока они вовсе не притихли.
Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он сделал, к немалому удивлению Ули, – он большими ладонями аккуратно пригладил свои почти не растрепавшиеся, расчесанные на косой пробор светло-русые волосы. Потом он поднял на Улю совершенно мокрое от пота скуластое лицо мальчика с большими глазами в длинных золотистых ресницах и широко, простодушно и весело улыбнулся.
– Добрые к-кони, могли разнести, – сказал он, чуть заикаясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на Улю, которая, все еще держась за край телеги и за чувал, чуть раздувая ноздри, с уважением смотрела на него черными глазами.
Люди возвращались на шоссе, ища свои подводы и машины. В иных местах, должно быть, возле убитых и раненых, грудились женщины: оттуда доносились стоны и причитания.
– Я так боялась, что они собьют тебя дышлом! – сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения.
– Я сам того боялся. Да кони не злые, холощеные, – наивно сказал он и большой загорелой рукой с длинными пальцами небрежно потрепал по потной глянцевитой шее коня, ближе к которому стоял.
Вдали, где-то уже на Донце, послышались глухие и одновременно резкие удары бомбежки.
– Очень людей жалко, – сказала Уля, оглядываясь вокруг.
Подводы и люди уже шли мимо с обеих сторон, куда хватал глаз, будто большая шумливая река катилась.
– Да, жалко. А особенно матерей наших. Что они переживают! И что им еще предстоит пережить! – сказал юноша, и лицо его сразу стало серьезным, и на лбу его, не по возрасту, собрались резкие продольные морщины.
– Да, да… – беззвучно сказала Уля, сразу представив мать свою, как она лежала, маленькая, распластавшись на выжженной земле.
Отец Виктора Петрова так же внезапно, как и исчез, возник возле коней и с преувеличенным вниманием стал ощупывать постромки, шлеи, вожжи. За ним, посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской шапочке и все же не теряя обычного серьезного выражения, показался Анатолий Попов, за ним Виктор, тоже немного сконфуженный.
– Гитара-то моя цела? – быстро спросил Виктор, озабоченно оглянув воз. И, увидев обернутую в стеганое одеяло, заложенную между узлов гитару, взглянул на Улю своими смелыми грустными глазами и рассмеялся.
Юноша, все еще стоявший между конями, поднырнул под дышло и под шею коню и, свободно и легко неся на широких плечах крупную непокрытую голову со светлыми волосами, подошел к возу.
– Анатолий! – радостно воскликнул он.
– Олег!
Они крепко взяли друг друга за руки повыше локтей, и в то же время Олег покосился на Улю и вдруг засмеялся – откровенно, охотно, весело.
– Кошевой, – назвал он себя и протянул ей руку.
Одно плечо, левое, было у него выше другого. Он был очень юн, совсем еще мальчик, но от его загорелого лица, высокой легкой фигуры, даже от одежды, хорошо проглаженной, с этим темно-красным галстуком и белым наконечником складной ручки, от всей его манеры двигаться, говорить с легким заиканием исходило такое ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу почувствовала доверие к нему.
А он с невольной наблюдательностью юноши мгновенно схватил глазами ее облеченный в белую кофту и темную юбку стройный стан с гибкой и сильной талией деревенской девушки, привычной к полевой страде, черные глаза, направленные на него, волнистые косы, ноздри причудливого выреза, длинные, стройные загорелые ноги, едва ниже колен прикрытые темной юбкой, – вспыхнул, резко повернулся к Виктору и, смущенный, подал ему руку.
Олег Кошевой учился в самой крупной краснодонской школе – имени Горького, – расположенной в городском парке. Улю и Виктора он видел впервые, а с Анатолием он был связан той беспечной дружбой, которая нередко возникает между активными комсомольцами, дружбой от одного комсомольского совещания до другого.
– Да, вот где привелось встретиться, – сказал Анатолий. – А помнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе всем камузом воды напиться, и ты нас всех познакомил… со своей бабушкой! – засмеялся он. – Она что, с тобой едет?
– Нет, б-бабка осталась. И мама осталась, – сказал Олег, и на лбу его снова собрались продольные морщины. – Нас пятеро: Коля, мамин брат, – никак язык не повернется назвать его дядей! – улыбнулся он. – Жинка его, да их мальчишка, да д-дед, что нас везет, – и он кивком головы указал на бричку впереди, откуда его уже несколько раз окликали.
Бричка, запряженная низкорослым, прытким на ноги буланым коньком, теперь все время катилась впереди, а гнедые кони так напирали сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром шеи и уши сидящих в бричке.
Дядя Олега Кошевого, Николай Коростылев, или дядя Коля, инженер-геолог треста «Краснодонуголь», в синей пиджачной паре, красивый, чернобровый, кареглазый и флегматичный молодой человек, старше племянника всего лет на семь, друживший с ним, как с равным, поддразнивал его Улей.
– Этого, брат, упускать нельзя, – бубнил дядя Коля скучным голосом, не глядя на племянника, – шутка сказать, девку какую мало от смерти не спас! Здесь, брат, дело не обойдется без сватов. Верно, Марина?
– А ну вас к богу! Я так злякалась!
– А правда, хороша? – спрашивал Олег у своей молоденькой тетушки. – Просто чудо, как хороша!
– А Леночка?.. Ах, ты, Олежка-дролежка! – так и пронзив его черненькими глазками, сказала тетушка.
Тетушка Марина была из прехорошеньких тетушек-хохлушек, которые, кажется, сошли с лубочной картинки, – в вышитой украинской кофте, в монистах, черненькая, белозубая, с пышными волосами, пушистым облаком стоящими вокруг головы, – даже внезапные сборы в дорогу не помешали ей убраться к лицу.
Она придерживала рукой трехлетнего толстого мальчика, необыкновенно жизнерадостно отзывавшегося на все, что он видел вокруг, и не подозревавшего, в какой ужасный мир он попал.
– Нет, я так скажу: Леночка-то, правда, пара нашему Олегу, а эта, хоть и хорошенькая, а она нашего Олега никак не полюбит, бо Олег ще мальчик, а вона вже дивчина дай боже! – быстро говорила тетушка Марина, беспокойно поводя черными глазками вокруг и то и дело поглядывая на небо. – Это коли жинка уже старая, так ей нравятся мальчики, а коли вона ще молоденькая, то ей николи не полюбится моложе ее, то я по себе скажу, – говорила она такой скороговоркой, которая показывала, что тетушка действительно «злякалась».
Лена Позднышева была девушка-одноклассница, оставшаяся в Краснодоне, с которой Олег дружил, в которую был влюблен и которой были посвящены многие страницы его дневника. Может быть, он, Олег, и вправду поступил нехорошо по отношению к ней, так восторженно отозвавшись об Уле? Но что же в этом может быть нехорошего? Леночка – это уже навсегда в душе его, это уже никуда не может уйти, а Уля… И он снова видел перед собой Улю, и этих коней, и снова чувствовал, как конь слева дышал на него. И неужели после всего этого Марина может быть права, то есть эта девушка может не полюбить его оттого, что он еще мальчик! «Ах ты, Олежка-дролежка!..» Он был влюбчив и сам знал это за собой.
Обе подводы, бричка и селянская телега с косыми решетками, долго еще маневрировали по степи, стараясь обогнать колонну, но были еще сотни и тысячи людей, стремившихся также пробиться вперед, и везде, куда ни хватал глаз, был все тот же поток людей, машин и подвод.
И постепенно образы и Ули, и Леночки покинули Олега, и все заслонил этот беспрерывный поток людей, в котором, как утлые лодки в море, покачивались бричка, запряженная буланым коньком, и телега с гнедыми конями.
Степь без конца и края тянулась на все концы света, тучные дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко-далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные, витые облака кучились в голубом небе, и не было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами.
И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками…
…Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, – он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, – ведь им столько выпало работы в жизни, – но они всегда казались мне такими нежными и я так любил целовать их прямо в темные жилочки.
Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки, и помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «бе-а – ба, ба-ба». Я вижу, как сильной рукой своею ты подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, прямо на серп, вижу неуловимое сверкание серпа и потом это мгновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей.
Я помню твои руки, не сгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, – казалось, совсем одни на свете, – и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела – пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались! Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдаванским вином. А с какой покорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки, – отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил, как родного, уже за одно то, что ты любила его.
Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!
Ты проводила на войну сыновней, – если не ты, так другая, такая же, как ты, – иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, – все это сделали руки матери моей – моей и его, и его.









































