Читать книгу "Чёт и вычет"
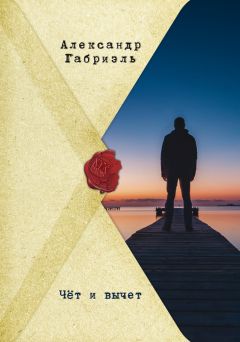
Автор книги: Александр Габриэль
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр Габриэль
Чёт и вычет
© А. Габриэль, текст, 2021
© Формаслов, 2021
* * *
Стихотворения 2017–2021 гг.
Предисловие
Думаю, что все люди любят играть. Но знаю, что далеко не все умеют. Александр Габриэль умеет.
Он играет со словами, смыслами, культурными кодами, нашими эмоциями и воспоминаниями.
Он и сам предупреждает читателя:
Что наша жизнь? Игра воображения,
нехитрых санок резвое скольжение,
движение из полутьмы во тьму.
Игра и натужность (так называемый «скотский серьез») – две вещи несовместные. Играющий человек свободен и виртуозен. Посмотрите, как играют в футбол испанцы. Вот так же виртуозен в своих стихах Габриэль. В мире его стихов наступает «СИЗО дождей» и звучит «нелюблюз», но никогда не будет занудства или желания поучать читателя. Габриэль просто показывает нам то, что нас окружает, но называет это по-своему. За более чем 300 лет российской изящной словесности кто только не описывал времена года! Представляете, как трудно найти что-то свое на этом пространстве? Александр Габриэль находит.
…И осень свисает потертым пальто
с крючка в коридоре.
Осень – словно агар-агар для поэтов. Особенно дождливая. Тут трудно не впасть в банальность.
Александр Габриэль не впадает. В его осени
…куда-то в пропасть падает душа,
как мертвый дождь на полумертвый город.
Александр Габриэль – поэт умный. Но не заумный. Грустный, но не ноющий, не выпрашивающий у читателей: «Пожалейте меня, такого трепетного, такого не от мира сего!». Потому что он точно «от мира сего», и его мир полностью совпадает с тем, в котором росли мы.
Жизнь опять хоронила мечту —
каждодневно, привычно, устало.
И генсек с манной кашей во рту
нес пургу, как генсекам пристало.
В этом мире
…порою в продмаге «давали курей» —
голубых, словно небо в апреле.
А еще
Шкворчала незатейливая пища,
на класс глядела Маркса бородища,
а дом родной был тесен, словно клеть.
Он был открыт и смеху, и простуде,
и старились вблизи родные люди,
которым лучше б вовсе не стареть.
Лирический герой Александра Габриэля знаком нам «до прожилок, до детских припухших желез…»:
В зеркало смотрим: а было ли это с нами?
Фотоальбом опять подтверждает: было.
И вместе с тем, стихи Габриэля поймут люди с определенным культурным багажом. «Книжные» мальчики и девочки, помнящие не только культурный пароль, но и отзыв на него:
…нас лечили, как только могли,
доктор Чехов и доктор Живаго.
Кстати, о врачах-носителях и здоровой самооценке автора:
Все сказано теми, кому не гожусь я в подметки.
Хотите лечиться – идите к другому врачу.
Стихи Александра Габриэля – стихи взрослого человека. И для взрослых людей. Без подростковых рефлексий и истерик. Они для тех, кто уже находится в стадии принятия жизни и смерти.
Они уйдут, а мы останемся, как валидол под языком.
Или вот – прекрасное!
Спокойной ночи, малыши. Поспели вишни.
А эти двадцать грамм души – лишь вес излишний.
Покуда шел парад-алле, услада зрячим,
свеча сгорела на столе к чертям собачьим.
Нет нытья, есть ирония, самоирония и умение наблюдать. И тогда…
Какое счастье, господа – брести от дактиля до ямба
и не совать свой нос туда, где вновь коррида да карамба,
где давит ночь тугим плечом, где каждый встречный смотрит косо
и где дамокловым мечом висит над жизнью знак вопроса!
Умение и желание играть, а не размазывать сопли, втихаря поглядывая на публику («заметили ли, как красиво я страдаю?»), у Габриэля всегда берет свое и
…уходит тоска – на лыжах, как пастор Шлаг.
В общем, читайте стихи Александра Габриэля и получайте эстетическое наслаждение, угадывайте цитаты и приветы классикам и современникам, узнавайте в его стихах себя и свою жизнь. Я, например, так и делаю. И мне очень интересно в мире его стихов, где
…чирикает что-то в небо менестреляный воробей.
Сергей Плотов (Москва)
Цельсий и Фаренгейт
Сентябрь
Вновь птицы выводят рулады с утра
на ставнях рассвета.
Прохожие шепчутся, дескать, жара.
Им нравится это.
И где же дожди? Где прохлада, скажи?
Где желтые тропы?
Но лето не хочет сдавать рубежи,
не хочет в окопы,
не хочет туда, где распутицы мрак,
где льется за ворот
вода, с верхотуры летящая, как
снаряды на город.
Пусть все это будет, но после, потом,
не сразу, не вскоре…
И осень свисает потертым пальто
с крючка в коридоре.
Остающимся
Как странно, осень, ты другой казалась в детстве —
спокойной, ласковой… Давай туда махнем!
Вся жизнь – театр. Но – театр военных действий.
В нем победителей не сыщешь днем с огнем.
Протри очки. Картинка видится нечеткой.
Там, за окном, гуляет ветер-прохиндей…
Мы в клетке заперты. Мы словно за решеткой.
Свободу нашу очертил СИЗО дождей.
Все мысли – только о земном, не о высоком:
о холодах да о простудной хрипотце…
А красный лист, упав, лежит кровоподтеком
на исстрадавшемся асфальтовом лице.
Ты рядом, осень. Ты жива, и я не умер,
вновь разгадать пытаюсь трудный твой кроссворд…
А на дворе соседи ожидают «Убер».
Мы – остаемся.
Им – пора в аэропорт.
Межсезонное
Состав застрял, где нет ни тьмы, ни света.
Сонливый воздух, ранних звезд драже…
Весна в дороге заблудилась где-то,
хотя зима закончилась уже.
Свистун-сквозняк, незанятые ниши,
вопросы – позади и впереди…
Приказ: «Замри!» был отдан кем-то свыше
так сухо, что ослушайся поди.
И нет дверей. Ни выхода, ни входа,
лишь чьи-то тени строятся в каре…
Есть времена меж временами года,
где жизнь застыла мухой в янтаре.
Там и стоишь – безликий, посторонний —
а в мире то ли минус, то ли плюс…
И вечер на альтовом саксофоне
играет надоевший нелюблюз.
Ноябрьский фристайл
Сломался голос твой, тинэйджер-соловей;
деревья прячут в тень сухой излом ветвей —
так руки прячут от господ простолюдины.
Ноябрь уж наступил. За этого «ужа»
любой вассал ЛИТО, от вредности дрожа,
осиновый мне кол вобьет в район грудины.
В нем бездна правоты, поскольку он привык
хранить от «косяков» великий наш язык,
но мне давно плевать (мне коньячку долей-ка…)
Но мне давно плевать. Я осенью никто,
и слишком далеко ближайшее ЛИТО.
Живи и здравствуй, уж, безвреднейшая змейка.
Вновь ветром за углом – голодным, как койот —
я ранен, а потом пускай меня добьет
холодный серый шелк пустой небесной тверди.
Еще не стала льдом наружная вода,
но кончились в игре все козыри, когда
предчувствие зимы заполнило предсердья.
От дня отгородясь неодолимым рвом,
на мир снисходит ночь в молчанье гробовом;
звезда в моем окне косит безумным оком…
Да, я давно не тот. И все – давно не те,
но осень говорит, что сила – в простоте,
и водит предо мной манящей бритвой Оккам.
Ноябри
Проигранными вдребезги пари,
не верными ни Богу, ни отчизне
бродячими котами ноябри
приходят в неприкаянные жизни.
И все трудней хранить в себе тепло,
звучат шаги потерянно и гулко…
Глядит на всех затравленно и зло
трубопровод сырого переулка,
где ты бредешь, где хмарь и пустота,
где серые заплаканные стены,
и на лице опавшего листа
арабской вязью выделились вены.
Здесь корабли дрейфуют на воде
вслепую, потеряв свои пенаты.
Здесь, «ничего» помножив на «нигде»,
ты вычислишь свои координаты.
Когда, холодной мрачностью дыша,
порывом ветра ломкий воздух вспорот,
куда-то в пропасть падает душа,
как мертвый дождь на полумертвый город.
Предчувствие зимы
Остались только в книгах приключения.
Есть лишь покой, исполненный значения.
Твоя Итака ждет тебя, Улисс.
В термометре – усталый столбик Цельсия
бредет, как похоронная процессия
безмолвная, по переулку вниз.
Как прежде, сердце с разумом не знаются,
и снова провода разъединяются,
исполнив прихоть проржавевших клемм.
А сверху, мерзлым слоем землю выстелив,
летят, как льдинки, прописные истины.
Но где они прописаны? И кем?
В родстве нездешнем черное и белое,
и частное объединилось в целое,
гармонию, как счастье, обретя.
И, с небесами не дружа суровыми,
снег, падая, становится сугробами —
аморфными, как пена для бритья.
Что наша жизнь? Игра воображения,
нехитрых санок резвое скольжение,
движение из полутьмы во тьму.
И в этой бесконечной тихой замяти
виновно, как всегда, пространство памяти
в рожденье слов, не нужных никому.
Декабристы
Мы застряли в зимней паутине —
каждый человек и каждый дом…
Говорят, что лето в Аргентине,
но отсюда верится с трудом.
День недолговечный коротая,
грустно мерзнет, в воздухе паря,
птица, подло брошенная стаей
в мертвые объятья декабря.
Ни уйти отсюда, ни остаться.
Мир лишен и следствий, и причин.
Гулкое двухцветное пространство.
День от ночи трудноотличим.
Но глядятся в снегопад искристый,
презирая стылые ветра,
гордые деревья-декабристы
на Сенатской площади двора.
Начало января
Отопитель поставлен на полный нагрев.
Вечер выглядит томною дамою треф,
но надежды, внезапно на год постарев,
затупились, как стрелы в колчане.
Бесприютно осваивай зимний ликбез.
Время есть, но его остается в обрез.
Новый час, ниспадая, как влага с небес,
на молчанье меняет молчанье.
Я молчанью себя до отказа скормлю.
Больше некуда плыть моему кораблю.
Ртутный столб, сиротливо припавший к нулю,
крест поставил на минусе с плюсом.
Но, согрета надеждой и красным вином,
жизнь проста, как пасьянс, и сложна, как бином,
и уютна. А там, за озябшим окном,
воздух ветром искусан, как гнусом.
Бледнолицый январь, ты такой же, как встарь.
На гвозде – не ушедший в отрыв календарь.
Близ аптеки на улице – тот же фонарь.
Стылый сумрак, дрожащие ветки…
Дождь не станет никак даже легким снежком.
Ветра шорох разбойничий тих и знаком…
И душа моя дремлет кошачьим клубком
под ребром, не нуждаясь в подсветке.
Плюс и минус три
Январский вечер экономит свет,
сил на уют окрестный не истратив.
Он скучно идентичен – следом в след —
с унылой вереницей старших братьев,
легко сужает в точку окоем,
и, приходя стремительно и яро,
закрашивает сумрачным углем
привычно серый профиль тротуара.
Ежевечерне, словно на пари,
с покорным постоянством крепостного
сменяются плюс три на минус три,
и сердце Кая замерзает снова.
День пролетает – быстрый, словно блиц,
и прячется в темнеющий подлесок.
Скрывают окна выраженья лиц
под кружевным никабом занавесок
так, будто бы снаружи – силы зла,
которые развеются с рассветом…
И кажется, что жизнь почти прошла.
И что январь осведомлен об этом.
Последний месяц зимы
Всесильный бог погоды много дней как залил зенки,
забыл дела, как в школе первый класс на переменке,
и скрылся от вопросов в свой заоблачный сераль.
Но календарь, угрюмо скособочившись на стенке,
упрямо утверждает, что на улице февраль.
Давно сугробы выцвели, давно сошли на кашу.
Зима – когда-то наше все – теперь уже не наше;
она сдает позиции. Легко, за пядью пядь…
От вечера до вечера соскальзывают в кашель
проклятые гриппозные плюс два, плюс три, плюс пять.
Стучат по крыше градины – крупны, как чечевица.
Зачем куда-то улетать в такую зиму, птица? —
и здесь неплохо кормят, и не холодно ничуть.
В такое время встретиться сложнее, чем проститься,
и миражом мелькает ускользающая суть.
А на скамейке замерли торжественно вороны
и выглядят серьезнее министра обороны,
распоряженья глупые бормочут нараспев.
Зима, в твоем оружии закончились патроны,
и ты сама закончишься, начаться не успев.
Пронто
Мир вокруг опасен и неведом,
им владеют белки и скворцы…
Тротуар укрылся, словно пледом,
слоем аллергической пыльцы.
Соблюдая дух погодной сводки, —
дунул раз-другой и был таков —
ветерок перебирает четки
крохотных пушистых облаков.
Смотрит благосклонным взором фавна
солнце на безлюдный ряд аллей,
где летят на землю плавно-плавно
стреляные гильзы тополей.
Жизнь спешит куда-то в темпе пронто,
исчезая даром, просто так
за далекой кромкой горизонта,
где Земля стоит на трех китах,
где, срываясь вниз, впадают реки
в пустоту небесных теплотрасс…
Мир как не нуждался в человеке,
так и не нуждается сейчас.
Бордюр-поребрик
Лето вдаль уплывает на траченном ржавчиной судне.
Для одних – слишком рано, другим же – хватило с лихвой.
Небо темным набрякло. Четыре часа пополудни.
И дождинки нечастые цокают по мостовой.
Грозовое предчувствие, без никакого резона
появившись на миг, тихой тенью ушло в пустоту.
Впереди межсезонье – граница, транзитная зона,
накопитель в большом и безумном аэропорту.
До чего же безветренно в городе влажном и хмуром,
где престиж и успех почитаемы, словно тотем!
В дни, подобные этим, уместны Дассен с Азнавуром.
Про себя напевая, бредешь, наблюдая за тем,
как девчонка-малявка порхает легко и небрежно —
(так, что хочется верить: мы все никогда не умрем…) —
по бордюру, скорей – по сырому поребрику, между
уходящим рыжеющим августом и сентябрем.
Радио Ностальжи
Парадизо
Над прошлым – бурный рост бурьяна;
и да, прекрасная маркиза,
все хорошо. Зубовный скрежет —
союзник горя от ума.
Но еженощно, постоянно
в кинотеатре «Парадизо»
зачем-то кто-то ленту режет
с моим житейским синема.
Бандиты, демоны, проныры —
ночная гнусная продленка…
На кой им эти киноленты?
Кто заплатил им медный грош?!
Но остаются дыры, дыры,
и грязь, и порванная пленка,
разъединенные фрагменты…
Причин и следствий – не сведешь.
Несутся по одноколейке
воспоминания-салазки.
Смешались радости и горе
в бессмысленную кутерьму…
И я, кряхтя, берусь за склейки;
дымясь, придумываю связки.
Кино, хоть я не Торнаторе,
я допишу и досниму.
На факты наползают числа
и с разумом играют в прятки.
И я блуждаю, словно странник
в туманной горечи стиха,
ища тропинки слов и смыслов
средь их трагической нехватки:
давай, давай, киномеханик,
раздуй, раздуй киномеха.
Латте
Эта жизнь напрокат, этот день напрокат…
Чашка кофе. Пустой кафетерий.
В океанские хляби ныряет закат,
словно кровь из небесных артерий.
И не пахнет предчувствием стылой беды,
и ребенок играет у кромки воды,
строит стены песочного замка,
потемнела от грязи панамка.
В продырявленном небе плывут облака,
словно сделаны белым заплаты.
И впадают минуты, часы и века
в остывающий медленно латте.
День теряет оттенки, играет отбой.
Как сердитая кобра, белесый прибой
зло шипит на мальчишку с лопаткой…
Прочен замок с кирпичною кладкой.
Из куста – стрекотанье беспечных цикад…
Я случаен, как зритель в партере.
И нырнул в океанские хляби закат,
словно кровь из небесных артерий.
Все застыло в тиши уходящего дня,
и мальчишка так странно похож на меня:
оживает в скупом монохроме
фотокарточка в старом альбоме…
Отчего – от усталости иль подшофе,
но над чашкой остывшего латте
я чуток прикорнул в придорожном кафе,
и ошиблись на век циферблаты.
Ничего не меняется в беге планет,
но мальчишки с лопаткой давно уже нет,
только времени шелест негромкий
различим у прибоя на кромке.
Чуть-чуть
В краях, пропахших никотином,
опасных, яко тать в нощи,
сроднясь с терпением рутинным —
уже друг друга не найти нам,
сколь ни ищи, сколь ни ищи.
Там в октябре темно и мокро,
и листьев выцветшая охра
упала на озябший сквер…
Машина времени заглохла.
Заглохла, как СССР.
Слагало счастье пасторали,
взрывало пульс, мешая спать.
Летела жизнь, как авторалли…
Как глупо мы себя теряли
за падью пядь, за пядью пядь.
Плыл без ветрил фрегат «Паллада» —
друзья, учеба, ОРВИ…
Лишь помню шорох листопада
в периоде полураспада
навек потерянной любви.
Куда ты делось, время оно?
Что нам неймется, ворчунам?
Сложился замок из картона,
и давит время многотонно
на плечи нам, на плечи нам.
И пузырится дней болотце,
нас затянувшее по грудь…
Как прежде, естся нам и пьется,
но от Вселенной остается
чуть-чуть.
Было
Не дозволялось заглядывать за ограды,
верить в любую роскошь. В одежки. В цацки.
Вот оттого-то и ездили в стройотряды,
в чем помогал искусно рычащий Градский.
Пшенку давали к обеду. А к ней окрошку —
выверенным залогом успехов в спорте.
Все повсеместно ездили на «картошку» —
буквою «зю» гнилой борозды не портя.
В тесных гробах возвращались домой «афганцы»,
тухла страна, дававшая сбой за сбоем…
А в развлеченьях царили кино и танцы —
те, что порой итожились мордобоем.
Мы находили пути через сто протоков,
в сердце лелея гроздья любви и гнева…
Словно цветы сквозь асфальт, в нас врастал Набоков,
и Солженицын, и Новгородцев Сева.
Над головами, как птица, летало знамя,
над стадионом носилось: «Судью на мыло!».
В зеркало смотрим: а было ли это с нами?
Фотоальбом опять подтверждает: было.
Доктора
Неизменно довольны собой,
доклевав витаминные крохи,
над землею парили гурьбой
птицы доинтернетной эпохи.
Обходясь без мадридов и ницц,
пролетал торопливо, как росчерк,
вдоль периметра наших границ
стратегический бомбардировщик.
Жизнь опять хоронила мечту —
каждодневно, привычно, устало.
И генсек с манной кашей во рту
нес пургу, как генсекам пристало.
В сонном царстве вранья и тоски
с каждым днем тяжелели вериги…
Хорошо, что всему вопреки
были книги. Обычные книги.
Одиночки нащупали дно
в непрерывном хождении строем.
Им из двух оставалось одно:
просто чтенье и чтенье запоем.
Хоть летели на риф корабли,
слепоту полагая за благо,
нас лечили, как только могли,
доктор Чехов и доктор Живаго.
Функция места
Счастье вряд ли могло обойтись без меня,
хоть являло немало сноровки.
Распашонка-квартира, «Три белых коня»,
трехкопеечный вкус газировки.
Если книги с тобою по младости лет,
и друзьями сумел ты разжиться —
наплевать на пластмассу столовских котлет
и убогие польские джинсы.
Нам давалась от силы квадратная пядь…
Дотяни-ка, попробуй, до сотни,
если рядом отрава в формате ноль пять
и глумливый оскал подворотни!
Сердце билось полней, сердце билось быстрей,
в ритме птичьей взволнованной трели…
И порою в продмаге «давали курей» —
голубых, словно небо в апреле.
И пока самодержцу великой Руси
зал в ладоши отчаянно хлопал,
сквозь помехи врывалась в эфир Би-Би-Си
и крутила то «Slade», то «Deep Purple».
Как все было стабильно: рекордный надой,
встречный план, загнивание Веста…
Но ведь счастье, когда ты совсем молодой,
зачастую – не функция места.
Взгляды на декады
60-е. Срез
В тектонике живых шестидесятых
надежды не нуждались в адресатах
под дружный хор соседей и друзей…
Гагарин дверь открыл безмерным далям,
рубились на мечах Ботвинник с Талем,
ревел Политехнический музей.
Мы бегали по стройкам да по клумбам.
Америку оставили Колумбам,
играли в Чингачгука, в Виннету…
И, веря в неосознанное чудо,
мы различали в каждом дне покуда
не девушек, а яблони в цвету.
Народ был прост, без лишних фанаберий;
не воздавалось каждому по вере.
Гудок завода, шепоток струны…
Евреев не любили. Впрочем, это
почти любого времени примета.
Как, впрочем, и почти любой страны.
Шкворчала незатейливая пища,
на класс глядела Маркса бородища,
а дом родной был тесен, словно клеть.
Он был открыт и смеху, и простуде,
и старились вблизи родные люди,
которым лучше б вовсе не стареть.
И, жив едва в вождистской ахинее,
плыл воздух… Он закончится позднее,
быстрее, чем возможности рубля.
Зато, не зная здравиц и приказа,
жила любовь. Трагична, большеглаза…
Доронина. Плющиха. Тополя.
70-е. Фрагмент с попугаем
Было лето жесточе, чем к Цезарю Брут:
минский август скорей походил на Бейрут
и деревьям обугливал ветки.
И жара миражами качала дома,
и сходила с ума, и сводила с ума
от соседки по лестничной клетке.
И с огнем, получившим прописку в глазах,
мы швыряли вещички в раздутый рюкзак:
майки, плавки, потертые книги…
Наконец дождались мы, с жарой совладав,
и вобрал нас в себя неохотно состав,
в Симферополь ползущий из Риги.
Всюду – курица, яйца, батон, самогон,
звуки музыки всласть наполняли вагон:
«Песняры», Магомаев и Верди…
А в соседях – прибалт из местечка Тракай,
чьим попутчиком был небольшой попугай,
прозябающий в клетке на жерди.
А в соседнем купе слышен «ох!» был и «ах!»,
даже воздух вокруг знойной страстью пропах,
словно был там с Рахилью Иаков.
Там друг друга любили взахлеб, допьяна,
а ведь были-то, в принципе, муж и жена —
но из двух независимых браков.
А другой пассажир, лейтенант из ментов,
был по пьяни за мелочь цепляться готов —
вот ко всем и цеплялся, му*ило.
Чай был просто нагретой водой с сахарком;
не предложишь такой ни в райком, ни в обком,
а для нас – как для плебса – сходило.
Поезд двигался к югу, как гибкий варан,
пшенной кашей давился вагон-ресторан,
мух гуденье, немытые миски…
И – обратно, в купе, в неродную среду,
где беззвучным комочком грустил какаду,
наклоняя свой профиль семитский.
1990
Не подпадает под титул «Вехи»
год девяностый в двадцатом веке.
В усталых душах – темно и гадко.
Год безнадеги и год упадка.
Мы в нем не люди, а биомасса.
Эмблемы «Пумы» и «Адидаса» —
везде. И рожею хмурясь сытой,
грядет хозяин с бейсбольной битой.
Надежды – в луже, судьба – в утиле,
в подъезде запах болотной гнили.
У наступившей асталависты
понуро морщится лоб пятнистый.
И фарш, и маслице – по талонам.
Соседка Танька торгует лоном
не по призванью, не для потехи —
копейки платят в библиотеке.
На стылых рынках в кассетном плеске —
«Кар-мэн», Добрынин и Анне Вески.
У жвачки траченной – вкус стрихнина.
Всеобщий гомон. Гуляй, рванина!
Помойка. Шелест грошовых сплетен,
но «Взгляд» покуда не подзапретен.
И все ж признайся лихому году,
что ты не так понимал свободу.
И в этом шоу не жди антракта,
но надо ж все-таки выжить как-то!
И дышит хрипло сквозь смятый рублик
Союз Советских (пока) Республик.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































