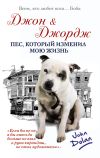Текст книги "Джон Голсуорси. Жизнь, любовь, искусство"

Автор книги: Александр Козенко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 9
В тот день состоялась свадьба сына младшего брата отца Джона Фредерика Томаса Голсуорси – Артура и Ады Купер. Через несколько недель был дан званый обед в их честь. Молодые супруги обращали на себя внимание и не только как виновники торжества. Он, великолепный брюнет, превосходный игрок в бридж, производил на всех громадное впечатление. Она – изумительно красива той загадочной красотой, которую могли запечатлеть лишь Боттичелли или Тициан, в ней было нечто завораживающее, каждое движение исполнено грации. У нее были огромные лучистые карие глаза под слегка изогнутыми темными бровями и великолепный классический профиль, а волевые очертания губ свидетельствовали, что ей известно, что такое страдание. Она была среднего роста, с фигурой, отличавшейся изысканными пропорциями, не скрываемыми подвенечным платьем, в котором она, как было принято, появилась на этом семейном торжестве. Ее мягкие волнистые темно-каштановые волосы, зачесанные назад, оттеняли бледность лица, имевшую едва заметный смуглый оттенок. Все в ней изобличало породу, нечто неотъемлемое, складывающееся веками, присущее отпрыскам древних народов, то самое, что определяет неповторимость облика и «стиля», отличавшихся шармом и интеллигентностью. Но лицо ее было отмечено печатью уныния и даже грусти, как у человека, вступившего в борьбу с роком и сраженного им.
Это показалось Джону очень странным для, должно быть, счастливой молодой супруги. Но Аду не надо было долго упрашивать аккомпанировать Джону на рояле, а она была отличной пианисткой, когда он пел «Собака Дайна» и другие «шедевры», популярные в немузыкальной среде.
На приеме в честь свадьбы Артура и Ады собралась вся семья. Она являла цвет верхушки среднего класса – крупной буржуазии. Представленная во всем своем блеске, щеголяла белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и сшитыми по последней моде платьями. Посередине парадной залы своего особняка Кембридж Гэйт, 8, близ Риджент Парка, под массивной хрустальной люстрой Джон увидел стоявших родителей, которым представляли гостей.
Отец – гораздо выше среднего роста, отлично сложенный, несмотря на возраст, без малейшего признака сутулости, подвижный. Серые, как сталь, глубоко посаженные глаза нисколько не поблекли и смотрели с удивительной проницательностью и прямотой, готовой тут же смениться лукавым блеском. Его удивительно красивую голову обрамляли мягкие серебристые волосы, зачесанные набок и ниспадавшие красивыми завитками на кончики ушей, а большая седая борода и усы скрывали рот и решительный подбородок. У него был широкий и крупный нос мыслителя, щеки здорового смуглого цвета, а высокие густые брови придавали его лицу выражение необычайного спокойствия. Он был очень консервативен в одежде и постоянно носил золотые часы с репетицией на тонкой золотой цепочке из круглых звеньев, извивавшейся змейкой с прикрепленной к ней маленькой черной печаткой с изображением птицы. На его ногах, как всегда, были отлично сшитые, эластичные туфли на пробковой подошве, и никакой другой обуви он не выносил, потому что об нее можно испачкать руки, тонкие руки с длинными отполированными ногтями и проступавшими сквозь смуглую кожу голубыми жилками. Рядом с ним стояла мать – миниатюрная леди с серебристым венчиком волос. На ее пергаментные щеки лег розовый лепесток румянца. Серые глаза под правильными и еще темными бровями, между которыми не было и намека на морщины, были широко расставлены. Она чуть-чуть улыбалась, и время от времени сжимались ее тонкие бледные губы, и беспрерывно двигались белые руки. Она была одета в черное шелковое платье. К седым волосам бриллиантовой брошкой был приколот кусок «мантильи», концы его лежали позади изящных, немного длинных ушей. А на плечах была ниспадавшая до полу серебристая накидка, похожая на кольчугу феи.
«Сэр Эдвин Голсуорси», – громко объявил мажордом, и в зале появился щеголеватый чисто выбритый джентльмен с почти голым черепом, длинным кривым носом, полными губами и холодным взглядом серых глаз, смотревших из-под прямых бровей. Подвижный, как птица, и похожий на развитого не по летам школьника, он подошел к отцу и вложил в его ладонь кончики своих всегда холодных пальцев и быстро отдернул их. Отец мельком взглянул на своего титулованного брата, который, будучи директором нескольких компаний, совершенно законным путем нажил солидный капитал, и пробормотал: «А, Эдвин, как поживаешь?».
– Скверно, – с надутым видом ответил он, – последнюю неделю чувствую себя очень скверно, не сплю по ночам. Доктор никак не разберет, в чем дело.
«Мистер Роберт Голсуорси», – снова выкрикнул мажордом, когда вошел еще один его дядя. Джон заметил, какой у дяди Роберта высокий лоб и свежий цвет лица – свежее, чем у остальных братьев отца, но глаза были такие же светло-серые.
В бархатном кресле сидела тетя Элиза, самая старшая из сестер отца. На лбу у нее были уложены седые букли – букли, которые, не меняясь десятилетиями, убили у членов семьи всякое ощущение времени. Тетя Элиза слегка покачивала головой. По ее старческому лицу с орлиным носом и квадратным подбородком пробежала дрожь; она стиснула свои худые паучьи лапки и переплела пальцы, как бы незаметно набираясь силы воли. Взгляд ее был снисходителен и строг. Она сильно сдала за последнее время. Круглые стального цвета глаза старой леди уже заволакивались пеленой, как глаза птиц. Они смотрели на двух других своих братьев. Около рояля стоял крупный осанистый человек, два жилета облекали его широкую грудь – два жилета с рубиновой булавкой вместо одного атласного с булавкой бриллиантовой, что приличествовало менее торжественным случаям; его квадратное бритое лицо цвета пергамента и белесые глаза сияли величием поверх атласного галстука. Это был Уильям Голсуорси. У окна, где можно было захватить побольше свежего воздуха, стоял отец новобрачного Фредерик Томас Голсуорси. Как и Уильям, Фредерик был более шести футов роста, но очень худой. Он стоял, как всегда сгорбившись, и хмуро поглядывал по сторонам. В его серых глазах застряла какая-то тревожная мысль, от которой он время от времени отвлекался и обводил окружающих быстрым беглым взглядом; запавшие щеки с двумя параллельными складками и выдававшуюся вперед чисто выбритую длинную верхнюю губу обрамляли густые пушистые бакенбарды.
Кроме представителей старшего поколения на приеме присутствовали и их дети – многочисленные кузены и кузины Джона Голсуорси. Были также и его две незамужние сестры Лилиан и Мейбл. Скромно, но изысканно одетые: Лилиан была как бабочка – крошечная и очень нежная, а Мейбл отличалась роскошными золотисто-рыжими вьющимися волосами и решительным личиком. В глазах обеих светился интеллект, и в манерах отражалась истинная интеллигентность. Они сразу почувствовали в своей новой кузине Аде Голсуорси родственную душу, а впоследствии, познакомившись поближе, сумели оценить и ее начитанность, и музыкальный талант. В свою очередь, они произвели на Аду самое хорошее впечатление. Джону стало ясно, что они будут подругами.
Какой праздничный вид имеет парадная зала, думал Джон. Да, его родители умеют устраивать приемы. Множество восковых свечей горело в хрустальных канделябрах, и большие зеркала в золоченых рамах и блестящий паркет отражали эти созвездия. Вдоль стен стояли мраморные столики с вазами из золоченой бронзы и громадные позолоченные стулья, расшитые шерстью.
Поток гостей увеличивался, и мамаши рассаживались вдоль стен, более подвижная публика вливалась в группы танцующих. Все юноши были чисто выбриты и отличались той оживленностью, которая с некоторых пор была в таком ходу среди Кенсингтонской молодежи; друг к другу они относились весьма благодушно; у них были пышные галстуки, белые жилеты и носки со стрелками. Носовой платок каждый прятал под обшлаг. Они двигались с непринужденной веселостью, отказавшись от традиционной торжественной маски танцующего англичанина. Они танцевали с безмятежным, очаровательным, учтивым выражением на лице; подпрыгивали и кружили вихрем своих дам. Вальс следовал за вальсом, пара за парой проносилась мимо Джона, с улыбками, смехом, обрывками разговоров; или же с твердо сжатыми губами и с взглядом, ищущим кого-то в толпе; или тоже молча, с еле заметной улыбкой, с глазами, устремленными друг на друга. И аромат бала, запах цветов, волос и духов, которые так любят женщины, подымался душной волной в теплом воздухе весеннего вечера.
Гости были приглашены к столу, и все двинулись в столовую, где каждому заранее уже было отмечено его место. Громадный палисандровый стол освещался стоящими в ряд высокими серебряными канделябрами, в свете которых, точно звезды, мерцали хрустальные бокалы, отливающие рубином, и блестело изысканное серебро сервировки. Стол украшали также невысокие букеты цветов в специальных вазах и парадный фарфоровый сервиз – настоящий Вустер.
Обед начался в молчании. В молчании был съеден суп – прекрасный, хотя чуточку и густоватый. Подали рыбу – чудесную дуврскую камбалу. Несколько необычно смотрелась кефаль. Ее, доставленную издалека в идеальной сохранности, сначала поджарили, затем вынули из нее все кости и подали во льду, залив пуншем из мадеры, согласно рецепту, известному очень ограниченному кругу людей.
Джон давно усвоил, что их семейные обеды следовали определенным традициям. Так, на них не полагалось подавать закуску. Ему было неизвестно почему, и он мог лишь предполагать, что запрет этот был вызван желанием подойти сразу к сути дела. Тишину изредка прерывали замечания такого рода: «Шампанское сухое!» – «Сколько ты платишь за херес? По-моему, он слишком сухой».
После второго бокала шампанского над столом поднимается жужжание, которое, если отмести от него случайные призвуки и восстановить его основную сущность, оказывается не чем иным, как голосом Фредерика Томаса Голсуорси, рассказывающего какую-то историю. Жужжание долго не умолкает, а иногда даже захватывает ту часть обеда, которая должна быть единогласно признана самой торжественной минутой пиршества и наступает с появлением «седла барашка».
Так было и в этот раз. Сэр Эдвин Голсуорси, улыбаясь и высоко подняв свои прямые брови, стал рассказывать, что этим днем ему посчастливилось провести план использования на Цейлонских золотых приисках одного племени из Верхней Индии – заветный план, который удалось наконец протащить, несмотря на все трудности, так что теперь он чувствовал вполне заслуженное удовлетворение. Добыча на его приисках удвоится, а опыт показывает, как дядя Эдвин постоянно твердил, что каждый человек должен умереть, и умрет ли он дряхлым стариком у себя на родине или молодым от сырости на дне рудника в чужой стране, это, конечно, не имеет большого значения, принимая во внимание тот факт, что перемена в его образе жизни пойдет на пользу Британской империи. В способностях сэра Эдвина никто не сомневался. Поводя своим орлиным носом, он сообщал:
– Из-за недостатка двух-трех сотен таких вот людишек мы уже несколько лет не выплачиваем дивидендов, а вы посмотрите, во что ценятся наши акции. Я не в состоянии заработать на них и десяти шиллингов.
Джону было противно слушать подобные высказывания, по помрачневшим лицам некоторых гостей, включая своих сестер и Аду, он понял, что и им неприятна столь циничная болтовня. Но никто не хотел скандала, и разговор переключился на «седло барашка».
Каждая ветвь семьи восхваляла баранину только из одной определенной местности: отец превозносил Дартмут, Фредерик – Уэльс, Уильям – Саусдаун, Роберт – баранину, привезенную из Германии, а Эдвин утверждал, что люди могут говорить все что угодно, но лучше новозеландской ничего не найдешь. Но все они считали, что в этом сочном плотном блюде есть что-то такое, что делает его весьма подходящей едой для людей «с известным положением». Джон, как и многие другие молодые члены семьи, прекрасно обошлись бы и без баранины. Когда спор о седле барашка подошел к концу, приступили к тьюксберийской ветчине. По маленьким тарелочкам разложили французские маслины и русскую икру. На десерт подали яблочную шарлотку, немецкие сливы и клубнику со сливками. После десерта джентльмены встали, и дамы покинули столовую. Мужчины закурили сигары, и им подали турецкий кофе в эмалевых чашечках, ликеры, коньяки. Беседа мужчин стала более непринужденной и откровенной, и только дядя Фредерик, как обычно, повторял: «Я ничего не знаю. Мне никогда ничего не рассказывают». Наконец, тостом в честь Ее королевского величества королевы Виктории обед был завершен.
В отличие от Джона, который последующие несколько лет провел в длительных путешествиях и попытках овладеть профессией юриста, его сестры Лилиан и Мейбл оставались в Лондоне и все больше сближались со своей новой родственницей Адой. Мейбл и Ада даже одно время брали уроки музыки у одного учителя. Брак Ады и Артура оказался трагически неудачным, и Ада рассказывала сестрам о своих страданиях. Те, в свою очередь, пересказывали брату кое-какие подробности их супружеских отношений. Впечатлительный и эмоциональный, Джон не мог не сочувствовать попавшей в беду молодой очаровательной женщине. Сестры же рассказали ему и о ее детских и юношеских годах, которые не были более счастливыми.
Ада поведала им, что она дочь Эммануэля Купера, бывшего известным врачом в Норвиче, и Анны Юлии Пирсон и что она родилась 21 ноября 1866 г. Они и Джон так никогда и не узнали, что истинная дата ее рождения 21 ноября 1864 года и что она приемная дочь доктора Купера. Завещание, в котором упоминалась Ада, было датировано 24 августа 1866 г., т. е. за три месяца до указанной ею даты рождения, а ее мать никогда не была законной женой доктора Купера. Сдвинув дату рождения на два года вперед, Ада могла выдавать себя за дочь Купера. Ее полное имя Ада Немезида Пирсон Купер, и на этом основании можно считать, что мать, давая ей имя богини возмездия, считала ее рождение для себя наказанием. Кто был отцом Ады, неизвестно, и родилась она не в Норвиче.
Но во время составления завещания Купером «чужой по крови» Аде ей было два года, и она жила с матерью и братом Артуром на улице Виктории, 36, в доме, принадлежащем Куперу, причем мать могла распоряжаться домом лишь до совершеннолетия детей или их вступления в брак. Дом находился на окраине города в рабочем предместье, застроенном однообразными маленькими домиками с террасами. Все казалось жалким, на всем лежал особый отпечаток убожества. Конечно, обитавшее здесь семейство не могло не чувствовать свое униженное положение. И при жизни доктора Купера, и после его смерти по завещанию Анне Пирсон выплачивалась «приличная, но не чрезмерно большая сумма на жизнь и приобретение одежды». Первые воспоминания Ады об «отце» были о совместных поездках в его экипаже к состоятельным пациентам. В 1875 г. он сделал приписку к завещанию, по которой оставлял Аде 10 000 фунтов стерлингов, весьма внушительную в те времена сумму, но ни ее матери, ни брату он крупных денег не оставил.
Эммануэль Купер был эксцентричным человеком с навязчивой идеей по увековечиванию своей памяти. Он дал свою фамилию приемным детям и еще при жизни соорудил на Розери кладбище внушительный семейный склеп. Остаток дней он провел, подолгу просиживая на кладбище, куря трубку и любуясь своей будущей могилой.
После смерти доктора Купера, последовавшей 26 января 1878 года, Анна Пирсон стала называть себя вдовой Купера и переехала с детьми сначала в Ноттингем, а затем в Лондон. Но за тем, чтобы дети получили «должное образование в тех университетах и школах, которые сочтут нужными опекун или опекуны, и что это образование должно включать в себя музыку, пение, рисование, танцы и прочее, необходимое для хорошего воспитания», должны были проследить опекуны. В соответствии с завещанием «миссис Купер» приняла программу путешествий для расширения кругозора детей. Но в ней она явно вышла за рамки нормальной жизни. Так, Ада говорила, что в 1883–1885 гг. они посетили сорок четыре города, а в 1887–1889 гг. – тридцать три, т. е. практически каждый месяц меняли место жительства. Может быть, думала она, мать таким образом хотела затруднить ей возможность замужества, так как они много времени проводили в дороге, да устойчивой привязанности при таком режиме было сложно возникнуть. Хотя, будучи привлекательной и богатой девушкой, она обращала на себя внимание. Как-то принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, попросил представить себя ей. Однако ее мать, хорошо понимающая социальное положение своей семьи, отклонила эту честь.
В то время, когда брат учился в Англии, Ада с матерью много времени проводила за границей. Она продолжала обучение музыке и совершенствование в иностранных языках в Дрездене и Мюнхене, Вене и Женеве, Париже и Ницце. Однако отсутствие взаимопонимания с матерью и беспокойная жизнь с ней сделали Аду эмоционально неустойчивой. Когда на юге Франции она познакомилась с Артуром Голсуорси и он сделал ей предложение, Ада не ответила отказом, чтобы изменить ненормальный стиль жизни с матерью. Он был на шесть лет старше ее, и у него не было ни профессии, ни денег. Его отец был весьма состоятельным человеком, но у него не было желания при своей жизни передать значительную часть капитала Артуру (он умер в 1917 г., через 26 лет после свадьбы сына). Вскоре Ада поняла, что совершила «трагическую ошибку». Она не только не любила своего мужа, но у них не было никаких общих интересов. Артур окончил Итон, но в университет поступать не захотел. Его привлекала армейская служба. Не имея военного образования, он служил в Эссекс-йоменри (частях запаса, привлекаемых к боевым операциям лишь в экстренных случаях). С началом англо-бурской войны он отправился в Южную Африку, затем служил во Франции и вышел в отставку в чине майора. Ада эту его любовь к военной службе не разделяла, и к тому же они не устраивали друг друга в интимных отношениях. И они у них вскоре совсем прекратились.
Джон принял историю Ады близко к сердцу, у него возникло стремление как-то помочь ей, к тому же она понравилась ему. Второй раз они встретились во время традиционного крикетного матча между командами Итона и Харроу в 1893 г. То, что они болели за разные команды – супруг Ады учился в Итоне, а Джон в Харроу, – не помешало развитию их взаимной симпатии. Следующая встреча кузена Джона с кузиной Адой случилась на свадьбе Лилиан Голсуорси и Георга Саутера. В тот летний день 1894 г. после торжественных мероприятий он уже вечером проводил Аду до ее дома в Южном Кенсингтоне. Они с сожалением говорили, что он «потерял» любимую сестру, а она – любимую подругу. У своих сестер Джон часто виделся с Адой. Постепенно он все больше поддавался ее очарованию. Она была не только красивой, но и умной женщиной. Но она была замужем. Конечно, ее брак был ошибкой. Она вышла замуж, – думал Джон, – по одной из тех бесчисленных причин, по которым выходят замуж женщины; любая из этих причин достаточно хороша, пока событие не свершилось. И что было делать ему? Окончив Оксфордский университет, он понял, что его не привлекает ни одна из профессий. Будучи небедным человеком, он, в силу своего характера, неспособен был сделать над собой усилие, если его не побуждали к этому какие-то жизненные интересы или крайняя необходимость. В его жизни не было работы, не было любви. У Джона вошло в привычку мириться с таким положением вещей, выработалось безучастное и апатичное отношение к жизни. Однако сейчас все изменилось, страсть настолько захватила его, что он не замечал ничего вокруг. Стоило Аде один раз по-другому – чуть-чуть по другому – пожать ему руку, и мир начинал казаться ему иным. От природы инертный и замкнутый, умеренный в своих потребностях, себялюбивый, он начинал ощущать, что меняются самые основы его сущности. Это было так явно, так неожиданно, так странно! И он сменил мир привычной обыденности, скучный и тусклый, на другой мир, в котором были пронзительная острота желания, боль, наслаждение, полная поглощенность одной идеей и не существовало всего остального.
А что Ада чувствовала по отношению к своему молодому симпатичному родственнику? Ей полагалось вести себя с ним, как солидной замужней даме. Она так и пыталась поступать. Но она также сознавала, что ее супруг – чужой ей человек и что ее настоящие друзья – это Джон и его сестры. Без какой-либо видимой причины с ними ей было хорошо. Порой, когда она одна сидела в комнате, ей чудился запах его сигары. Она стала много музицировать, но оказалось, что ей не хватает взгляда Джона и его привычки, подойдя к ней сзади и дотронувшись до плеча, просить: «Сыграйте это еще раз». Ей нужен был кто-то, кому нравилось бы то, что она исполняет. Когда некому было оценить, а Артур был к музыке совершенно равнодушен, хорошо она играет или нет, пропадала всякая охота садиться за фортепиано. От матери она унаследовала беспокойный переменчивый характер, обрекавший ее на вечную зависимость от перепадов настроения. Она умела жить настоящей минутой, что выдавало в ней натуру, крайне чувствительную к внешним влияниям и к собственному самочувствию.
Контрастные свойства ее характера проявлялись в одинаковой степени, подобно отклонениям маятника от точки равновесия, они уравновешивали друг друга на весах ее разума. Ада поняла, что это не зависит от смены настроений, и не пыталась управлять своими порывами или хотя бы сдерживать их, а только лишь мысленно их оценивала с печальной терпимостью, пессимистичной проницательностью и склонностью сочувствовать самой себе. Такое сочувствие она распространяла на всех окружающих: ей нравилось симпатизировать людям и вызывать у них ответную симпатию. Это придавало Аде немалую привлекательность, которую не умаляла свойственная ей гордость, не позволявшая что-либо просить у Бога или у людей. Она ни разу в жизни не шевельнула пальцем, чтобы привлечь внимание окружающих или вызвать у них восхищение, но все же без этого она сникала, как цветок без воды.
Пасхальную неделю 1895 г. Ада с матерью проводила в Париже. Этим не преминул воспользоваться Джон и тоже отправился в этот город – столицу светских развлечений и особого шарма. Миссис Купер все время проводила в модных магазинах, где обзаводилась новыми туалетами. Поэтому встречам Джона и Ады никто не мешал.
Но, когда он приехал, Ада встретила его равнодушно. По дороге из отеля она была немногословна, если Джон обращался к ней, отвечала односложно, посматривая на него украдкой с выражением растерянности и страха. Они шли по Кур-ля-Рэн, где находился отель Ады – белое приветливое здание с зелеными маркизами, выглядывающее из густой листвы платанов. Пройдя по набережной, они направились в Булонский лес. Джон шел за Адой по тенистой аллее, которая круто заворачивала к маленькому фонтану. Они сели перед миниатюрной зеленовато-бронзовой Ниобеей с распущенными волосами, окутывающими ее до стройных бедер, которая смотрела на наплаканный ею прудок. Джон ощущал неодолимое стремление быть рядом с Адой, касаться ее, чувствовать, что ее нежный голос и ласковая улыбка обращены к нему. Джон коснулся ее рук, но она сразу же отдернула руки с неподдельным испугом, и на лице ее выступил густой румянец. Джон, не говоря ни слова, посмотрел на нее, и во взгляде его ясно читались мука и вожделение. Джон заговорил, скорее для того, чтобы дать выход бурлившим в нем чувствам, нежели высказать то, что он хотел сказать.
– В чем дело Ада? Почему вы так…
Она ничего не ответила, но быстро поднялась, и всю обратную дорогу к отелю они молчали.
Джон понимал, что Ада замужем и, несмотря на то что она не любит супруга, для нее унизителен адюльтер. Сам же он днем и ночью думал лишь о том, чтобы быть около нее. Общепринятая мораль значила для него теперь не больше, чем туман, бесплотный призрак, временами становившийся поперек дороги, по которой вела его страсть. Он оказался лицом к лицу с двумя неприятными, тягостными, но неизбежными ощущениями, которые мучили его, жалили в самое сердце, занимали все его помыслы, – неутоленным вожделением и боязнью заставить Аду страдать. Страсть вызвала в нем смятение чувств, не позволявшее ему увидеть выход из создавшегося положения. Он осознал, что не может ни оставить Аду, ни заставить ее страдать.
Так продолжалось некоторое время. В некоторые дни Ада едва говорила с ним, отшатывалась, если он случайно дотрагивался до нее, и старалась не оставаться с ним наедине, в другие казалась такой же спокойной и дружелюбной, как прежде, но и тогда у него создавалось впечатление, что она принуждает себя не думать, не чувствовать, а просто жить настоящей минутой. Она старалась не касаться его, если могла этого избежать, ему редко удавалось поймать ее взгляд, если тот становился нежным и сияющим, глаза ее стремительно прятались под вуалью темных ресниц прежде, чем он успевал понять, что этот взгляд выражает. В свою очередь, Джон временами бывал с Адой холоден, почти угрюм, иногда до крайности молчалив. Порой в голосе его прорывалась нежность.
Как-то, подойдя к их отелю во второй половине дня, Джон встретил миссис Купер, направляющуюся в магазины. Она сказала, что Ада пошла гулять в Тюильри, взяв с собой книгу. Идя по аллее, посыпанной белесым песком, Джон увидел Аду, сидящей на садовой скамье; упершись локтями в колени, она обхватила подбородок ладонями, рядом лежала открытая книга. Джон снял шляпу.
– Могу я составить вам компанию? Или мне уйти? – спросил он.
Она испуганно взглянула на него, немного приподнявшись.
– Так было бы лучше, – ответила она, но затем, как будто извиняясь за эти странные слова, протянула руку и воскликнула:
– Ох, нет! Конечно, давайте поговорим, если вам хочется.
– Я больше всего люблю этот час, – проговорила Ада. – День как будто засыпает, отдыхает после того, как прошел экватор, и перед тем, как начать клониться к вечеру.
Она сидела, слегка склонив голову набок и улыбаясь. Джон, как всегда не сводивший с нее глаз, заметил, что улыбка постепенно исчезла с ее лица и на нем вновь проступили усталость и беспокойство. Он взял ее книгу и стал перелистывать страницы, чувствуя, что это привычное занятие помогает удержать подступавший к горлу комок. Внезапно Ада сказала:
– Зачем Вселенной нужны люди? Они лишь нарушают ее гармонию. Как она была бы прекрасна, если бы не мы – ужасные, невыносимые создания.
Джон понял ее настроение и, сев к ней в пол оборота, ответил:
– С их помощью Вселенная познает себя, ведь человек – часть Вселенной, да и кто без него оценил бы ее гармонию?
Он стиснул переплетенные пальцы, стараясь избавиться от нахлынувших на него тоски и озлобления.
Вдруг он почувствовал, что его мягко потянули за рукав. Обернувшись, он увидел такое жалобное, трогательное выражение на ее узком овальном лице с большими карими глазами, что все прежние чувства испарились, и он думал теперь лишь о том, как сделать, чтобы в ее глазах снова, как обычно, заблестел огонек. Он заговорил о книге, обо всем, что только могло прийти ему в голову, и лицо Ады постепенно прояснилось; она смотрела на него приветливо и дружески. Так, разговаривая и читая, они просидели там долгое время. Тени деревьев постепенно удлинялись.
Ада сказала:
– Мне пора возвращаться.
Но Джон уже не мог сдерживать своих чувств.
– Я люблю вас Ада! Я люблю вас. Боже мой, что я говорю!
Он опустил голову, почти коснувшись ее рук; одна из них скользнула вверх и с какой-то застенчивой лаской пригладила ему волосы. Подняв голову снова, он увидел, что глаза ее влажны, в них светится нежность, и тогда он понял, что она рада. Он едва не задохнулся от счастья, сердце его дрогнуло, однако слезы в ее глазах помогли ему взять себя в руки.
– Дорогая моя, простите меня, я не смог удержаться. Забудьте то, что я сказал, не сердитесь. Я не сумел совладать с собой, вы ведь так прекрасны… так прекрасны…
Он говорил короткими, отрывистыми фразами, с трудом вбирая воздух.
Она улыбалась ему нежно и грустно, и в какое-то мгновение он заметил, что в ее глазах, словно откровение, блеснула искорка любви. Губы ее все еще дрожали, и она крепко держала его под руку.
По дороге Джон нежно сказал Аде:
– Что бы ни случилось, милая, это был лучший час в моей жизни.
Через какое-то время Ада заметила со вздохом:
– Взгляните! Вечер нисходит на город, как тихое благословение, такое нежное, кроткое…
– Да, – промолвил Джон.
Глаза их на мгновение встретились, но никто больше не нарушил тишину.
Когда они подошли к отелю, Джон стал прощаться. Стоя на ступеньках, Ада обернулась.
– Доброй ночи, друг мой. Доброй ночи! – она еще раз протянула ему руку. Ее глаза в неверном свете газовых фонарей казались неестественно большими. Джон стоял со шляпой в руках, пока она не скрылась из виду – он не мог говорить. Его любовь к Аде и ее любовь к нему помогли определить Джону его место в жизни. Тесно общаясь с ним, она заметила то, что он лишь смутно чувствовал, – склонность к литературному творчеству. Надо было как-то преодолеть его сомнения и вселить в него уверенность.
На Пасху 1895 г. миссис Купер с дочерью уезжали из Парижа. Это был один из последних апрельских дней. Небо затянули рыхлые серые облака, кое-где подсвеченные бледными лучами солнца. Джон пошел провожать их на Северный вокзал Парижа. И, прощаясь, Ада, чтобы ее слова лучше врезались ему в память, сказала:
– Почему вы не пишете? Вы же для этого созданы.
И Джон начал писать. Уже в Лондоне Ада стала первой слушательницей его литературных опытов. Они стали регулярно встречаться, и это окончательно их сблизило.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?