Текст книги "Олеся (Сборник)"
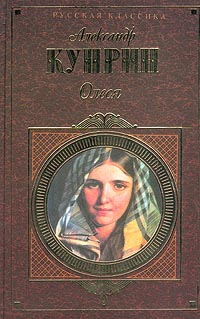
Автор книги: Александр Куприн
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Александр Куприн
Олеся (Сборник)
Юнкера
Часть I
Глава IОтец Михаил
Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.
Срок и час явки в корпус – строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчики, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»
Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неописуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью.
Вот налево от входа в железные ворота – каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле.
Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.
Отец Михаил! Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния… Да. Вот как это было:
Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной вьющейся лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» – и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и – без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:
– Господин капитан, это не я.
Яблукинский закричал:
– Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!
Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему? потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается…
Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.
Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:
«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремение, отверзаюши щедрую руку Твою…» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.
После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.
«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плиту в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я…
Несмотря на то что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват – ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, «эта пробка», со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому – конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»
Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой.
«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».
Во рту у него пересохло и гортань горела.
– Круглов! – позвал он сторожа. – Отвори. Хочу в сортир.
Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.
– Куда, куда, куда? – беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?
Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.
– Что это такое? Что за безобразие? – закричал Михин. – Сейчас же вернитесь в карцер!
– Я не пойду, – сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны.
– В карцер! Немедленно в карцер! – взвизгнул Михин. – Сссию секунду!
– Не пойду и все тут.
– Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?
Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:
– Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною. И все тут!
В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь. Она была полуоткрыта, и десятки стриженых голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу.
Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал:
– Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам, заниматься! – И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова: – А вы сию же минуту марш в карцер!
– А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, – ответил кадет, наклоняя голову, как бычок.
– Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам…
– Попробуйте, – сказал Александров, раздувая ноздри.
Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса:
– Господин поручик, позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше.
– Ах да, пожалуйста! хоть тридцать, хоть двести слов. Черт возьми, что за безобразие! И как раз на моем дежурстве!
Отте начал очень спокойно:
– Милый юноша, сколько вам лет?
– А вам не все ли равно? – дерзко огрызнулся Александров. – Ну, семнадцать…
– Конечно, мне все равно, – продолжал учитель. – Но я вам должен сказать, что в возрасте семнадцати лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак. Векселя, им подписанные, ни во что не считаются. И даже в солдаты он не годится: требуется восемнадцатилетний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников, или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения.
– Ну так что ж? – упрямо перебил его Александров.
– Да только и всего, – равнодушно ответил Отте. – Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус.
– Моя мама. Но…
– И никакого «но», – возразил учитель. – Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет – как говорят мудрые французы.
– Ах, да что с ним церемониться? – нетерпеливо воскликнул Михин. – Дядька! Иди сюда!
Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и, невольно, театрально:
– Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того…
Но тут широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой.
– Тише, мальчишка! – крикнул ласково и повелительно Отте. – Помолчи немножко. Господин поручик, – обратился он к Михину, – это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период.
– Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич, – от души сказал Александров. – Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры – управляющий гостиницы Фальц-Фейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать.
Он низко поклонился Отте и сказал:
– Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ. Ей-богу, я не убегу.
– Ах, боже мой! – вскричал Михин, ударив себя по лбу. – У меня голова трещит от этих безобразий! Ну, пускай не запирают. Мне все равно.
Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте:
– Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?
– Да, могу, могу, – тебя не запрут. Иди с богом, – замахал на него руками Отте. – Иди скорее, бесстыдник. Ну и характер же!
Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха (настоящее его имя было Пиотух). Сдавши кадета Круглову, он сказал:
– Велено не запирать на ключ. – И, помолчав немного, прибавил: – Ну и чертенок же!
Александров принял это за комплимент.
Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай – сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову.
Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции.
А, кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков, по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачастил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело, жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец – строевая рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты», начала упорно отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» – «здравия желаем, кулебяки с рисом». Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно.
В четвертом же корпусе благодаря неумелому нажиму начальства это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю божию. И правда: с народом и с мальчиками перекручивать нельзя…
Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха.
– Барчук, – сказал он (действительно, он так и сказал – барчук), – ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви, на паперти.
На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей; за матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров прилгнул, назвав его управляющим гостиницы Фальц-Фейна. Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была – шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Нат, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья, по какому-то инстинкту брезгливости, сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые, привычные словечки: «так сказать», «дело в том, что», «принципиально» и еще «с точки зрения».
Подойдя к Александрову, он так и начал:
– Дело в том, что…
Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал:
– Благодарю вас, Иван Александрович.
– Дело в том, что… – повторил Мажанов. – С принципиальной точки зрения…
Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому, сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомерок.
– Иван Александрович, – сказала она, – вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей.
– Дело в том, что… – сказал Мажанов и, слава богу, ушел.
– Алеша, мой Алешенька, – говорила мать, – когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор как тебе стало четыре года, я покоя от тебя не знаю. В Зоологический сад лазил без билетов, через пруд. Мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиерею не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел. Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?» – «Я князь». – «Ты, должно быть, из Наровчата?» – «Да, откуда ты, свиненок, узнал?» – «Да просто: у тебя руки грязные». Легко ли мне было это перетерпеть. А кто извозчику под колеса попал? А кто…
Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алеша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.
– Ты все знаешь, мама?
– Все.
– Ну а как же этот дурак?..
– Алеша!
– Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?
– Алеша, мы не одни… Ведь капитан Яблукинский твой начальник!
– Да. А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство – исправник, – то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему сторублевку?
– Алеша, Алеша!
– Да, я Алеша… – И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона божьего и священник корпусной церкви, маленький, седенький, трогательно похожий на святого Николая-угодника.
Александров вздрогнул.
– Дети мои, – сказал мягко отец Михаил, – вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, ерш ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на пять минут, а потом вы выкушаете у меня чая. И я вас провожу…
Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова.
– Твоя мамаша – прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну, что же? Ты был прав, а он не прав. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом, смотри – как огорчена мамаша! Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере диплом. А ей сладко. Сынок вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна, и еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это – слово «мама». И когда солдат, раненный насмерть, умирает, то последнее его слово – «мама». Ты все понял, что я тебе сказал?
– Да, батюшка, я все понял, – сказал с охотной покорностью Александров. – Только я у него извинения не буду просить.
Священник мягко рассмеялся.
– Да и не надо, дурачок. Совсем не надо.
И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова: «Аз иерей недостойный, разрешаю…» и так далее. Вспомнил еще (как бывший певчий) первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Критского:
«Откуда начну плакати жития моих окаянных деяний? Кое положу начало, Спасе, нынешнему рыданию».
И хор и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
– А теперь, – сказал священник, – стань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет – иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, ерш ершович. А я поведу твою маму чай пить.
И неслыханная в корпусной истории вещь: Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.
Глава IIПрощание
Проходя желтыми воротами, Александров подумал: «А не зайти ли к батюшке Михаилу за благословением. Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть, как не этот маленький, похожий на Николая-угодника священник, такой трогательно-усталый на великопостных повечериях, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы: „Батюшка, как же это? Ведь Бог всеведущ и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить. Отчего же Он не мог уберечь их от этого поступка, если Он всесилен? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастиях всего человечества?“
На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика плохо доходит до молодых умов, делал кроткое заключение:
– А вы поусерднее молитесь Богу и не мудрствуйте лукаво.
На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой.
Стоя перед казармой, он несколько минут колебался: идти? не идти? Но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым – преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он во дни тяжелой душевной тревоги приедет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово, в облупленную желтую николаевскую казарму, к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подымется отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый, видимо немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира.
– Чем могу служить? – спросит он вежливо и суховато, щуря, по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке, подслеповатые глаза.
Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом.
– Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен… Трудно все помнить…
Тогда Александров, волнуясь и торопясь, и чувствуя, с невольной досадой, что его слова гораздо грубее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещевании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал:
– Так, так, так. Так, так.
Когда же Александров окончил, батюшка спросил:
– А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься?
– Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь: художник Александров?
– Признаться, не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну, что же? Живопись – дело благое, если Бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука. Чудесно писал иконы Божией Матери. Прекрасное дело.
Потом, точно снова встревожась, он спросил:
– А что же вам, господин, от меня требуется?
– Да ничего, батюшка, – ответил, слегка опечалясь, Александров. – Ничего особенного. Потянуло меня, батюшка, к вам, по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь. Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался.
Священник ласково улыбнулся, съежил лицо, ставшее необыкновенно милым.
– Значит, в каком-то классе зазимовали?
– В шестом. И пять лет пел на клиросе. Благословите, отец Михаил.
– Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа…
Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку, и душа его умякла.
– До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил.
– Ничего, дорогой мой, ничего… И меня простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. Шестьдесят пятый год идет… Много времени утекло…
Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием которого высится огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки; мимо старинных потешных укреплений с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду: зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац – он огорожен от дороги густой изгородью желтой акации, цветы которой очень вкусно было есть весною, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель, и какие-то просвирки, дудки дикого тмина, и, в особенности, похожие на редьку корни свербиги, или свергибуса, или, вернее, сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку.
Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных, бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и клейкие темные почки! На втором плацу играли в лапту, в городки, в зуек, в чехарду и особенно в запрещенную игру – в «кучки», – которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные песни, передававшиеся из поколения в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязаясь в мастерстве брани, с соседями, через забор, учениками фельдшерской школы, которых звали клистирными трубками и рвотным порошком.
За калиткой – третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Анненгофской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненгофскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки Синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки, весною, всегда останавливается разносчик Егорка с тирольскими пирожками (пять копеек пара), похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же, у калитки, на утренней прогулке, семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса, в котором, вдоль, слева и справа, сидели премиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это – местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними – это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилижанс равнялся с калиткой, то в него летели скромные дары: крошечные букетики лютиков, вероники, иван-да-марьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенной петушком:
Лишь только Феб осветит елки,
Как уж проснулись перепелки,
Спешат, прекрасные, спешат.
На нас красотки не глядят.
А мы, отвергнутые, млеем,
Дрожим и даже пламенеем…
Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном и очень четком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же как она остается навсегда в памяти.
Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это – годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна, или очень коротка?
Всевечный вопрос. Настанет минута, когда бессонною ночью Александров начнет считать до пятидесяти четырех и, не досчитав, лениво остановится на сорока. «Зачем думать о пустяках?»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































