Текст книги "Почему плакал Пушкин?"
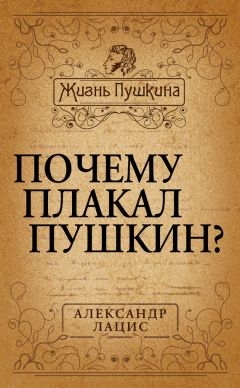
Автор книги: Александр Лацис
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Дело приватное
Мысль Павла Дмитриевича шла примерно таким путем: если царь Николай заставил кого-то написать письмо, но дозволил отослать письмо без подписи, значит, он полагает нужным, чтоб тайна была сохранена.
Николай своим приближенным предоставляет свободу действий лишь при одном условии: чтобы они точно и безошибочно угадывали его желания, его намерения.
Надо писать к царю. Просить совета.
Прежде всего необходимо исполнить желание Николая, состоящее в том, чтоб он, Киселев, решительно ни о чем не догадывался, ровным счетом ничего не понимал и терялся в предположениях.
Далее в своем письме он должен не уступать, а превзойти по части благородства этого жулика, этого сукина сына – Искомого.
В заключение он должен всю сумму передать царю на его усмотрение – «дабы оградить свою честь и не свершить чего-либо противозаконного». И заявить о готовности полностью отказаться от сего странного приношения. Но высказать все это так искусно, чтоб не вынуждать царя принимать его отказ.
Если же Николай о сем случае ничего не знает, то тем приятнее ему будет узнать раньше всех о таком необычном происшествии. Пусть на этом примере царь убедится, что моя с Орловым дружба на втором плане, а доверие государя – превыше всего.
Киселев изрядно потрудился над своим письмом. Человек, который все понимает, сумел вполне правдоподобно выразить мысль о том, что он ничего не понимает.
Вряд ли стоит приводить письмо целиком. Ведь мало перевести его с французского на русский. Надо бы еще для ясности перевести с придворного слога на обычный, общепонятный. Но тогда будут утрачены многие оттенки.
Содержание письма нашим читателям знакомо: в нем рассказывалась уже известная история о появлении посыльного, о сафьяновом портфеле…
Поэтому приведу лишь выдержки – начало и конец письма от 8 июня 1846 года. Чтоб получить представление о придворном слоге, сего будет довольно.
«Государь!
С давних пор благоволение Вашего Величества мне дозволяло прибегать к Вам во всех случаях и при всех обстоятельствах. Дело приватное, весьма неожиданное вынуждает меня умолять Ваше Величество уделить мне немного времени, и прошу извинить, что отрываю его от Ваших важных занятий.‹…›
Я повергаю это дело пред Вашим Величеством с доверием человека, приученного следовать наставлениям Вашего благородного сердца, и я их ожидаю, Государь, с совершенной и полнейшей покорностию.
Вашего Императорского Величества нижайший, всепокорнейший и преданный слуга и подданный».
Ответ пришел быстро. В среду 12 июня. Но не от царя, а из Третьего отделения, от А. Ф. Орлова.
«Я пишу лишь несколько слов, дорогой друг, дабы известить, что Император препоручил мне твое частное дело, о коем ты ему сообщил.
Нет нужды передавать – в каких выражениях он отдал дань благородству твоих чувств.
Скажу только, что со своей стороны я рад сему происшествию, которое на тебя с неба свалилось.
Моя догадка – что сие исходит от твоей жены. Это деликатный способ вернуть то, что тебе следует за бескорыстие, которое ты проявил во всем твоем отношении к ней. Она во многом была повинна пред тобою, она по совести возместила ущерб, и это примирило меня с ней.
Вот, признаюсь тебе, мои предположения. Учитывая обстоятельства минувшие и нынешние, данное дело никак не возможно объяснить иным образом.
Я не хотел бы ничего предпринимать, не повидав тебя и не условившись о том, что делать. Ты упомянул в своем письме о банковом билете, надписанном к графу Кушелеву-Безбородко; можно у него спросить – не помнит ли он, кому его передал? Впрочем, это ни к чему не приведет, так как билет мог пройти через несколько рук.
Другой путь мне кажется более верным. Если бы ты передал мне портфель, можно было бы разыскать человека, который его делал, и, следственно, узнать – кто ему заказал.
Вот что на скорую руку я думаю о том, что можно предпринять. Но я не буду ни с кем говорить, пока не посоветуюсь с тобой.
Обнимаю тебя сердечно.
Орлов».
Сохранилось ответное письмо Киселева от 14 июня на трех страницах. Он решительно отвергает предположения насчет безыменного дарения от жены, которая – он это выяснил – свой банковский вклад не трогала.
Есть еще одно письмо Орлова. Они условились, что в ближайшее воскресенье, 16 июня вечером, Киселев приедет к Орлову на дачу в Петергоф, точнее говоря, в Стрельну.
Переписка – она вся велась по-французски – любопытна еще тем, что в ней проскальзывают нотки, по коим можно судить о правилах придворной игры.
П. Д. Киселев – А. Ф. Орлову
«Начну с того, что моим первым намерением было предварительно поговорить с тобой и просить твоего совета.
Однако, полагая, что Император вправе быть о сем уведомлен первым, я не желал погрешить, поступая в противность смыслу моего письма, которое написал сразу после получения портфеля.
Вот почему, в перекор моему желанию посвятить тебя в секрет, я воздержался и сообщил о нем Его Величеству».
А. Ф. Орлов – П. Д. Киселеву
«Ты поступил наилучшим образом, открыв тайну прежде всего Императору, ибо вот первое, что он мне сказал:
– Вероятно, Киселев с вами уже говорил… На что я отвечал, что нет».
Что было сказано на даче с глазу на глаз? Орлов мог пояснить:
– Я вовсе не утверждаю, что Софья Станиславовна сама послала эту сумму. Но ты же сам говоришь, что на другой день она к тебе заходила, бросила взгляд на портфель, ничего о нем не спросила. Не затем ли она приходила, чтоб убедиться, что ты портфель получил? Поскольку вы с ней в разъезде, то возможно, что у нее есть друг, который по ее просьбе…
Вряд ли Орлов высказывал свою личную догадку. Трудно не заметить явное уклонение Орлова от исследования корней происшествия. Не было ли им получено указание – особенно не усердствовать, не поднимать лишнего шума? Уж больно неприглядная история. И очень может статься, что в ней замешан слуга, приближенный к престолу.
Если Киселеву приходили в голову подобные хитроумные рассуждения, сей опытный царедворец тем паче должен был потрафлять расчетам императора и «думать на неизвестного», на друга жены.
А кроме того…
Образец руки
А кроме того, Киселев и сам размышлял в том же направлении.
По слогу судя – не рука ли писателя? Чем иначе объяснить, что похититель написал – да еще по-французски – такое архисложное письмо?
А что, если Вяземский? Его не поймешь. Иной раз довольно приятный человек. Чаще язвительный, злоязычный. Временами впадает в тяжкую меланхолию.
Известный поклонник польских красавиц. За женой Киселева, с которой он, Киселев, давно находится в разъезде, Вяземский приволакивался, еще когда она была Софьей Потоцкой. Служил в Варшаве, знал все городские новости, вертелся там под рукой Александра I, не то составлял, не то переводил царские речи.
И, как на грех, у Киселева при себе ни одной бумаги, писанной пером Вяземского. Надо будет не сразу, чтоб не насторожился, найти повод, написать письмо, по ответу сравнить почерк.
Киселев выжидал более года, никакой путный предлог не подвернулся, написал довольно неуклюже: нет ли у вас такой-то книжки, каковая спешно, и прочее.
Вяземский, разумеется, удивился, на конверте сделал пометку: более десяти лет «у него не был. До того времени мы с юношества были дружны с Киселевым и на ты». Памятуя, что жизнь есть война всех против всех, Вяземский счел за благо обойтись без письменного ответа.
И тем невольно прибавил к числу улик уклончивое поведение…
Что можно сказать в защиту Вяземского?
У него никогда не было денег?
Довод не решающий, даже вовсе не довод.
Потому и похитил. И там же, в Варшаве, всю сумму сразу положил в банк. Потом опасался, остерегался, не прикасался. Наконец памятливый Вронченко докопал…
Вяземский. Тогда возникает положение двусмысленное.
Нельзя принимать деньги от поклонника жены, хотя бы и бывшей.
После всего сказанного не будем удивляться действиям Киселева. Всю сумму снова положил в банк, а именно в Опекунский совет, с тем, что по завещанию вклад достанется его, Киселева, воспитанникам, то есть внебрачным детям.
А при жизни Киселева вклад имеет право взять обратно тот, кто объявит и докажет, что это он доставил приношение Киселеву, иначе говоря, что он и есть похититель.
Многое можно вменить в вину Вяземскому. Вот весьма подозрительный факт: Вяземский прекрасно владеет французским языком. А его приятельницей действительно была Софья Станиславовна Киселева.
Но не будем втягиваться в беспредметный спор. Интерес к Вяземскому отпадет, как только мы предъявим его несокрушимое алиби по главному злодеянию.
Когда Вяземский служил в Варшаве, там еще не появлялся для встречи с царем Киселев.
Когда Киселев туда приезжал на прием к царю, там уже не было Вяземского.
Затем, после удаления из Варшавы, Вяземский многие годы оставался не у дел.
Наконец, если б была возможность определенно связать «странное приношение» с Вяземским, Николай в 1846 году немедленно удалил бы его из состава совета Министерства финансов да и вообще из министерства. Однако два года спустя памятливый на малейшие прегрешения император вручает Вяземскому орден Станислава I степени.
Стало быть, надо искать далее. Не один Вяземский в состоянии написать безупречное французское письмо.
Казалось бы, следовало взять под подозрение генерал-адъютанта Александра Ивановича Чернышева.
Отменно, как, впрочем, многие из числа бывавших в Париже, он знал французский язык.
Не раз сопровождал императора Александра в поездках на конгрессы и по России. В Таганроге 19 ноября 1825 года акт о кончине императора подписали кроме духовных лиц и лекарей П. М. Волконский, И. И. Дибич, Н. М. Лонгинов, А. И. Чернышев.
Чернышев не отличался разборчивостью в средствах достижения целей. Известно, что в 1808 году он прибыл в штаб-квартиру Наполеона в качестве посланца русского царя. Поручение было дано ему с умыслом именно потому, что двадцатидвухлетний Чернышев не имел в то время решительно никаких высоких званий. Однако коммюнике штаба Наполеона громогласно сообщило о прибытии «полковника, флигель-адъютанта, графа Чернышева».
Император Александр был возмущен утроенным самозванством. Но затем сменил гнев на милость. Чтоб прикрыть самовозвышение, Чернышеву присвоили чин полковника, а затем и звание флигель-адъютанта.
Осуществилось, хотя и не скоро, третье желание. В 1826 году по окончании процесса декабристов Чернышев был возведен в графское достоинство «за неусыпные труды, понесенные им при открытии злоумышленников и произведение о них исследования».
Располагал ли Чернышев в 1846 году необходимой крупной суммой денег? О да, без сомнения.
Наконец, Чернышев имел все основания заявить Киселеву: «Я был вашим врагом, господин граф».
Но вот что не сходится: по части чинов, должностей, титулов, наград Чернышев все время опережал Киселева, и, значит, завидовать «блистательной карьере» не было видимых причин.
Что же касается вражды – она не исчезла. Киселев, при поддержке Воронцова, а также великой княгини Елены Павловны, искал пути к смягчению крепостного права. Чернышев оставался поборником полнейшей косности.
Во втором томе юбилейного сборника «Великая реформа» (М., 1911) читаем: «За Киселевым, за каждым его шагом в деле устройства быта государственных крестьян, деятельно следили все те, кто в существовании крепостного права видел один из устоев государства. Эти люди каждый шаг Киселева встречали яростными нападками».
В 1846 году оба представителя противоборствующих сил занимали министерские посты, но Чернышев опять-таки стоял выше, ибо Военное министерство было важнее, чем Министерство государственных имуществ.
Надменный военный министр тем, кого считал стоящим ниже по служебной иерархии, руки не подавал. Взамен того ограничивался еле заметным кивком головы.
После сказанного обновим в памяти безымянное письмо. Разве не чувствуется, что автор более не стремится кого-то обогнать, над кем-то возвышаться? И разве не сквозит в строках письма привычка отбивать поклоны?
Не слишком ли многое не совпадает с обличьем Александра Ивановича Чернышева?
«Гром вечных стрел»
В ходе нашего поиска хотелось бы постоянно сверяться с мнением Александра Пушкина. Разумеется, не удастся привлечь прямые пушкинские оценки для любой и каждой подвернувшейся нам под руку фигуры. Но иные пробелы может восполнить знание пушкинских правил.
Попутная справка: в «Словаре языка Пушкина» слово «принципы» и множество других для нас привычных иностранных терминов не встречаются совсем.
Сейчас, когда подобные слова уже не ощущаются как нечто чужеродное, мы вправе их применить и сказать, что Пушкин был человеком принципиальным.
Однако сам Пушкин эту мысль выразил бы иначе. Он говорил: «Держись своих правил».
Попробуем приглядеться к некоторым правилам творческого поведения поэта.
В конце 1826 года, как мы уже упоминали, Пушкин помирился с Толстым-Американцем. Помирился, ибо, размышляя о том, кто был его истинный враг, рассудил иначе.
Как поступал Пушкин в подобных положениях? Послушаем мнение князя П. А. Вяземского, изложенное им подробно, записанное дважды:
«…При всем добросердечии своем, он был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и влечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим.
Кто был в долгу у него, или кого почитал он, что в долгу, тот, рано или поздно, расплачивайся с ним, волею или неволею. Для подмоги памяти своей… он вел письменный счет своим должникам, настоящим или предполагаемым; он выжидал только случая, когда удобнее взыскать недоимку…
Но поспешим добросовестно оговориться… Если Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым почерком пера напишет он эпиграмму, внесет кого-нибудь в свой “Евгений Онегин” или в послание, и дело кончено. Его point d’honneur, его затея чести получила свою сатисфакцию, и довольно».
Через год, в 1876 году, Вяземский то же самое изложил еще раз, намного короче и чуть отчетливей:
«Пушкин в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом, при некоторых обстоятельствах, бывал он злопамятен… Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил он имена должников своих и долги, которые считал за ними.
В помощь памяти своей он даже существенно и материально записывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видал у него. Это его тешило.
Рано или поздно… взыскивал он долг, и взыскивал с лихвою. В сочинениях его найдешь много следов и свидетельств подобных взысканий. Царапины, нанесенные ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него».
Нам кажется, что Вяземский, рассказывая о постоянстве пушкинского поведения, не все договаривал. Неотступная борьба не сводилась к обмену легкими царапинами, не сводилась к защите личного достоинства. Это была деятельность не чисто литературная, а литературно-политическая.
Пушкин взял себе за правило отвечать уколом на укол и ударом на удар. Рассчитываться непременно, но необязательно сразу, а выбирая подходящий момент.
Дождавшись удобного случая, публично заклеймить, отхлестать, возместить сторицею.
Чтоб провести эпиграмму в печать, ее следовало слегка замаскировать или вставить в какое-то другое произведение. Достичь цели нередко можно было только окольным путем. Напрямую, в чистом виде, многие эпиграммы заведомо не имели надежды попасть на печатные страницы. Ибо не полагалось пропускать в печать личные нападки, или, как их тогда именовали, «личности».
Ах так, нападки, «личности»?! Не признаем ли мы тем самым, что у поэта был неуживчивый характер? И он из раздражения, из легкомыслия, ради красного словца неосмотрительно задевал важных лиц?
Так, да не так. Взаимная «личная неприязнь» «друзей просвещения» и «невежд» была формой борьбы направлений, формой политической борьбы. Пушкинские эпиграммы были предельно свободным проявлением общественного самосознания, или, по его выражению, «самостоянья человека».
Пушкинские шутки – взрывчатые, они били по сословной спеси, по предрассудкам, по устоям.
Пушкин многое предвидел. Он был убежден, что его лучшим эпиграммам суждено оставаться несмываемым клеймом, которое сохранится в памяти потомства.
Необходимо письменное подтверждение? Что ж, извлечем его из вступления к первой главе «Онегина». Позднее, в 1835-м, вступление было отделено автором от романа в стихах и включено в собрание стихотворений.
Значит, сказанное во вступлении позволительно отнести не только к «Онегину», а и ко всему творчеству поэта.
И впрям, завиден ваш удел:
Поэт казнит, поэт венчает… –
так говорит Книгопродавец Поэту.
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальнем поражает,
Героев утешает он…
«Гром вечных стрел», свои важнейшие эпиграммы, Пушкин подумывал свести воедино. От замысла остались объединяющие строки:
О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывной клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
Кого готовился бичевать Пушкин? Не литераторов, не журналистов:
Мир вам, журнальные клевреты,
Мир вам, смиренные глупцы!
Но если так, то о ком идет речь?
А вы, ребята подлецы, –
Вперед! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда!
Но, если же кого забуду,
Прошу напомнить, господа!
Не вполне ясная строка «а вы, ребята подлецы», очевидно, подменная, рассчитанная на догадливость. Не следует ли разуметь нечто более определенное?
Один из позднейших мемуаристов высказал предположение, что причиной гибели поэта могли быть «эпиграммы на особ».
Не составляет труда угадать пропущенное слово. Вместо «на особ» следует читать «на высокопоставленных особ».
В конце марта 1837 года спешно возвращенный из отпуска нидерландский поверенный в делах Геверс отослал в Гаагу подробное донесение, посвященное кончине Пушкина.
Откуда Геверс извлек материалы? Возможно, ему помог вюртембергский посланник Гогенлоэ – текст их донесений местами совпадает. Гогенлоэ хорошо знал русскую поэзию, часто встречался с В. А. Жуковским. Имя Жуковского возникает еще и потому, что строки, несколько похожие на сообщение Геверса, имеются в письме Жуковского к Бенкендорфу:
«И какое дело правительству до эпиграммы на лица? Даже и для того, кто оскорблен такою эпиграммою, всего благоразумнее не узнавать себя в ней. Острота ума не есть государственное преступление».
Однако Жуковскому поневоле приходилось выражаться более сдержанно, чем писавшим с его слов дипломатам.
Восполним вынужденные умолчания Жуковского при посредстве выдержки из Геверса:
«Колкие и остроумные выпады, почти всегда направленные против высокопоставленных лиц, которые изобличались либо в казнокрадстве, либо в пороках, создали Пушкину многочисленных и могущественных врагов. Такова убийственная эпиграмма на Аракчеева по поводу девиза на гербе этого всесильного министра. Таков ответ Булгарину, где, защищаясь от упрека в аристократизме, Пушкин напал на влиятельнейшие дома России – вот истинные преступления Пушкина, преступления, усугубленные тем, что противники были сильнее и богаче его, были в родстве с знатнейшими фамилиями и окружены многочисленными приспешниками. Вот, повторяю, истинные причины той неприязни, которую питала к Пушкину в течение всей его жизни некоторая часть знати».
За взвешенными выводами дипломата кроются знания, кроются мнения, принадлежавшие друзьям Пушкина.
Стихи, которые Геверс обозначил как «Ответ Булгарину», ныне всем известны под названием «Моя родословная». Напомним наиболее дерзостные места.
Не торговал мой дед блинами
А чей предок торговал? Управляющего морским министерством князя А. С. Меншикова.
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудреных дружин.
Кто тут имеется в виду? Отец российского министра иностранных дел Карла Нессельроде.
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Этот выпад против выскочек чувствительно задевал новопожалованного графа А. И. Чернышева. О нем говорили, что если бы не высокое счужебное положение, навряд ли он был бы принят хоть в одном приличном доме. Всему Петербургу было известно, что он лишь числился законнорожденным, а явился на свет от связи барыни с лакеем, да и не сразу после кончины супруга. Графский титул достался сыну лакея благодаря процессу декабристов, в частности за усердие в роли палача. Чернышев руководил экзекуцией, то есть процедурой лишения чинов, и самой казнью. Именно он, когда гнилые веревки оборвались, закричал, чтоб скорее повторили.
Член Южного общества декабристов Александр Поджио впоследствии вспоминал о Чернышеве:
«Один он его (следственное дело. – А. Л.) и вел, и направлял, и усложнял, и растягивал, насколько его скверной, злобной душе было угодно! Нет хитрости, нет коварства, нет самой утонченной подлости, прикрытой маскою то поддельного участия, то грозного усугубления участи, которых бы ни употреблял без устали этот непрестанный деятель для достижения своей цели. Начавши дело с самого Таганрога и ведя его сам лично, он знал, что только с нашей погибелью он и мог упрочить свою задуманную им будущность».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































