Текст книги "Философия упадка. Здесь научат самому дурному"
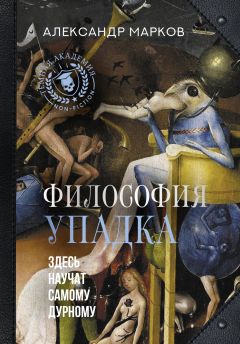
Автор книги: Александр Марков
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Хосе Рой. Обложка Los cantos de Maldoror графа де Лотреамона. 1890
Мальдорор – богоборец и мститель: он мстит за то, что он сам глух к гармонии. Можно говорить и о его изъяне, травме, неспособности увидеть мир как живое целое. Но нужно признать его сверхчувствительность: любая фальшивая нота заставляет его видеть в мире сплошной обман.
В его богоборческих образах Творец оказывается злодеем, который создал вещи слишком индивидуальными, слишком личными и потому обрек их на страдания. Ведь если ты не похож на других – значит, у тебя не просто чего-то нет, но много чего нет, что есть у других. Ты обделен навсегда. Твоя жизнь постоянно обессмысливается и превращается в пытку зависти и обиды.
Для христианского святого индивидуальность каждого человека, напротив, подтверждает сложную симфонию замысла Творца. Но Мальдорор постоянно прослеживает, как из малого зла рождается большое зло. Из невозможности сотворить добро прямо здесь и сейчас, из-за нехватки сил и способностей рождается предательство, лицемерие, смирение перед чужим злом и, в конце концов, деградация общества.
Лирический герой Лотреамона рассуждает о современном городском обществе с постоянной снисходительностью ко злу. И он торопится объявить, что во всем якобы виноват Творец:
Лишь только слуха моего коснется голос – хотя бы даже серебристые колоратуры небесного сопрано, чистейшая гармония, изливающаяся из человеческих уст, – всё равно, бешеные языки пламени сей же миг начинают плясать перед глазами, оглушительная канонада – грохотать в ушах. Откуда эта исступленная ненависть ко всему человеческому? Будь те же созвучья извлечены из струн или клавиш – и я вожделенно ловил бы волшебные ноты, нанизанные, будто перлы, на мелодическую нить, что мерными извивами змеится по упругим воздушным волнам. По жилам разлилась бы сладкая истома, блаженный дурман усыпил бы волю и сковал мысли, подобно тому, как туманное марево застилает яркий свет солнца. Мне рассказывали, что я родился на свет глухим. В плену у глухоты прошли мои первые годы, так что я не слыхал человеческой речи. Правда, говорить меня научили, хотя и с большим трудом; но, чтобы понять собеседника, я должен был прочитать то, что он напишет мне на бумаге, и только тогда мог ответить. Так было, пока не настал злосчастный день. К тому времени я уже достиг отроческого возраста, был чист, хорош собою и восхищал всех умом и добросердечием. Ясное лицо мое отражало свет непорочной души и приводило в смущение тех, у кого запятнана совесть. С благоговением взирали на меня люди, ибо моими глазами на них глядел ангел. Однако же я знал, что не всегда мое чело, что так любили с материнской нежностью лобзать все женщины, будет увито цветами юности – они завянут вместе с быстротечною весною жизни. Порою даже мне приходило на ум, что этот мир и этот купол неба, усеянный дразняще недоступными звездами, быть может, не столь и совершенны, как мне мнилось. И вот настал злосчастный день. Однажды, устав карабкаться по кручам и плутать, утратив правый путь в темных лабиринтах жизни, я поднял истомленные, с кругами синевы, глаза на вечный небосвод – я, юнец, дерзнул проникнуть в тайны вселенной. Но взор мой встретил пустоту. Объятый ужасом и дрожью, я заглядывал всё глубже, глубже и наконец увидел… Увидел весь покрытый золотом трон из человеческого кала, а на нем с ухмылкою самодовольного кретина и облаченный в саван из замаранных больничных простынь восседал тот, кто величает себя Творцом! Сжимая в руке гниющий труп без рук и ног, он подносил его поочередно к глазам, и к носу, и ко рту – да-да, ко рту, к своей разинутой пасти, так что не оставалось сомнений, что сделал он с сим омерзительным трофеем. Ноги его утопали в огромной луже кипящей крови, и порой из нее высовывались, как глисты из вонючей жижи, несколько голов – высовывались боязливо и в тот же миг скрывались вновь, дабы спастись от наказанья. Ослушнику грозил удар карающей пяты по переносице, но люди – не рыбы, как обойтись им без глотка воздуха! А впрочем, если не рыбье, то лягушечье существованье влачили они, плавая в этом чудовищном болоте. Когда же рука Творца пустела, он шарил ногою и, зацепив за шею острыми, как клещи, когтями следующую жертву, выуживал ее из красного месива – чем не отменный соус! Всех, всех ждала одна участь: первым делом Творец откусывал каждому голову, затем отгрызал руки и ноги, а напоследок сжирал туловище – сжирал без остатка, с костями вместе. Покончив с одним, брался за другого, и так всю вечность, час за часом. Лишь изредка он отрывался, чтобы возгласить: «Раз я вас сотворил, то волен делать с вами что хочу. Вы невиновны предо мной, я знаю, но никакой вины не надо; я потому вас истязаю, что ваши муки – мне отрада». И жуткий пир возобновлялся, и череп вновь трещал под челюстями, и комья мозга застревали в бороде. Что, читатель, верно у тебя самого потекли слюнки? Верно, и ты не прочь отведать свеженького аппетитного мозга, только что извлеченного из головы славной «рыбки»? Ужас сковал меня пред этим виденьем, я не мог вымолвить ни слова, не мог пошевельнуться. Трижды готов был рухнуть, как мертвец, но трижды удерживался на ногах. Меня бил озноб, внутри всё кипело и клокотало, будто лава в жерле вулкана. Я задыхался, словно стальной обруч стиснул мне грудь; когда же, вне себя от страха и удушья, я стал хватать ртом воздух, то из моих разверстых уст исторгся крик… пронзительно-надрывный крик, такой, что я его услышал! Тугие жгуты, стягивавшие слух, ослабли, барабанная перепонка затрещала под напором того воздушного потока, что, хлынув из моей груди, разлился далеко окрест. Стена врожденной глухоты рухнула разом. Я слышал! Я обрел недостававшее пятое чувство. Но, увы, оно не принесло мне радости! Ибо если с тех пор я начал различать человеческий голос, то каждый раз при этих звуках меня пронзала боль с такою же страшною силой, как тогда, когда, оцепенев, взирал я на муки невинных жертв. Стоило кому-нибудь заговорить со мною, как всё, что открылось мне в потаенной глубине небес, вновь оживало пред глазами, и речь сородича была лишь отзвуком того неистового крика, что потряс всё мое существо. Я не мог отвечать, передо мной вновь всплывало жуткое кровавое болото, и волосы вставали дыбом от стонов, подобных реву дикого слона, с которого живьем сдирают кожу. А когда с годами я лучше узнал Человека, то к чувству жалости прибавилась бешеная ярость – разве не достойно ее жестокое чудовище, способное лишь изрыгать хулу да изощряться в злодеяньях. И к тому же беззастенчиво лгать, что зло среди людей большая редкость! Но всё это в прошлом, и я уже давно зарекся вступать в беседу с человеком. А каждый, кто приблизится ко мне, пусть онемеет, пусть ссохнутся его голосовые связки, чтобы не смел прельщать меня красивыми речами и изливать предо мною душу в словах, подобных соловьиному пению. Пусть смиренно сложит руки на груди, опустит очи долу и молчит, да, пусть хранит священное молчание. Довольно я настрадался, когда меня днем и ночью, словно свора псов, терзали кошмары и воскресало открывшее мне тайну бытия виденье, – одна лишь мысль о том, что эта пытка повторится, мне претит. О, знайте: сорвется ль с гор лавина, возопит ли в выжженной пустыне львица, оплакивая смерть детенышей, иль затрещит столетний дуб, сокрушенный небесным огнем, иль смертник возопит в темнице, пред тем как положить главу под гильотину, или гигантский спрут, торжествуя победу над жертвой кораблекрушения или над неосторожным пловцом, подымет шторм на море – знайте, все эти звуки во сто раз приятнее для слуха, чем гнусный голос человека[40]40
Там же. С. 96–97.
[Закрыть]!
Итак, лирический герой Лотреамона злобен и видит зло везде, богохульствует и клевещет на человека. Но вся эта озлобленность имеет один исток – постоянное повторение бытовых штампов, которые становятся слишком буквальными. Например, повторив несколько раз «человека жалко», мы услышим «человек жалкий». Несчастный человек окажется злосчастным. Повторив несколько раз «тайна бытия», мы сочтем, что бытие прячет от себя какую-то мрачную тайну. Читая Лотреамона, мы ощущаем, как будто мир постоянно себе мстит. Даже слезы в мире оказываются знаком пыток и незаслуженного страдания.
В мире Лотреамона достаточно допустить самую малую месть, как будто естественную реакцию на происходящее, как окажется, что весь мир испорчен местью, состоит из власти, насилия и злодеяний. Лотреамон, как никто другой из романтиков, показал, как жесты бессознательного, привычные обыденные порывы, могут не просто испортить отношения между людьми, но представить весь мир как одно большое отрицание и один большой кошмар. Мир на глазах превращается в ужас. Из этого кошмара не видно выхода, потому что все привычные нам добрые слова превратились в злых призраков, еще дальше заводящих в чащобу отчаяния.
Глава 8
Бодлер среди бедняков и химер
Шарль Бодлер (1821–1867) знаменит как писатель, которого судили за литературу, за книгу стихов «Цветы зла» (1860), уголовным судом. Его же почитали своим предшественником все символисты, декаденты и поэты протеста[41]41
Зенкин С. Н. Беньямин, Бодлер и мимесис // Шарль Бодлер & Вальтер Беньямин: Политика & Поэтика. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 9–20; Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея культуры (аспекты проблемы). М.: РГГУ, 2001. 144 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 30).
[Закрыть]. Бодлер – духовный прадед любого настоящего рок-поэта и в наши дни.
От романтиков он отличается тем, что спорит уже не только с Богом, судьбой или обстоятельствами своей жизни – он спорит с самой природой, чувствуя ее действие в себе и постоянно его преодолевая.

Шарль Бодлер. Автопортрет. XIX в.
Для романтиков природа была говорящей, поэтому хоть как-то, хоть жестоко и сурово, но заинтересованной в человеке, одобряющей его порывы. Бодлер возвращается к классицизму, его равнодушной природе. Но для классицистов природа была декорациями драмы, фоном, на котором разыгрывается конфликт чувства и долга. А у Бодлера природа начинает действовать сама, приобретает власть над человеком, повелевает и мстит – и надо от этой власти природы любой ценой освободиться. Так природу воспринимает условный художник из «Стихотворений в прозе»:
И теперь глубина неба подавляет меня; прозрачность его лазури приводит меня в исступление. Бесчувственность моря, неизменность зрелища – возмущает меня… О, неужели же нужно вечно страдать или вечно бежать от прекрасного? Природа, безжалостная чародейка, всегда побеждающая соперница, оставь меня! Не испытывай долее моих желаний моей гордостью!.. Изучение прекрасного – это поединок; в страхе кричит художник пред своим поражением[42]42
Бодлер Ш. Стихотворения в прозе / Пер. с фр. под ред. Л. Гуревич и С. Парнок; со вступ. ст. Л. Гуревич. СПб.: Книгоиздательство Посев, 1909. С. 3.
[Закрыть].
Никакого благоговения перед природой как откровением свыше нет у этого художника. Но нет у него и сочувствия природе как собранию слабых и уязвимых существований, как миру смертности. Природа очаровывает, обладает таинственным и мощным языком, который никому не ведом, который невозможно выучить. Но она же пленяет наши чувства и принуждает нас принять ее как самое прекрасное и неотменимое. Насилие сменяется насилием, и разочарование ведет к разочарованию. Классицистическая тема чувства и долга обостряется у Бодлера до предела благодаря усвоенной им в молодости романтической вере в таинственный язык природы, который никогда не будет разгадан до конца.
Искусство, не выдерживая соперничества с природой, превращается в прославление всего искусственного, нарочитого, томного и терпкого. Если природа пленяет и пугает, то нужно поскорее обратиться к искусственному, которое хотя и меньше пленяет, но не пугает. Так возникает новое сладострастие: наслаждение не своими успехами, не своим умением манипулировать людьми, как это было у либертенов, но болезненное наслаждение искусственным миром. Тебе оставлено только искусственное, и ты должен извлечь из него любые всевозможные эмоции без остатка, во всей их противоречивости.
Кисея струями ниспадает вокруг окон и вокруг постели, расплываясь белоснежными волнами. На этой постели покоится Кумир, властительница грез. Но отчего же она здесь? Что привело ее сюда? Какая волшебная власть перенесла ее на этот трон мечтаний и сладострастья? Не всё ли равно? она здесь! я узнаю ее.
Да, это ее глаза, огонь которых пронизывает сумрак, нежные и страшные глаза; я узнаю их по их ужасающему коварству! Они притягивают, они покоряют, они пожирают взор неосторожного смертного, их созерцающего. Я так часто изучал эти черные звезды, которые внушают любопытство и восторги[43]43
Там же. С. 7–8.
[Закрыть].
Эти искусственные наслаждения оставляют только разочарования в душе: художник вновь видит свое убогое и сырое жилище, «обитель вечной скуки», грязь и неуют повседневности. Ничто его не радует: даже любимые вещи изменяют, оказываясь не такими приятными, какими представлялись прежде. Воспоминания, даже о самых радостных днях, внушают только сожаление.
А за сожалением приходит ужас, горечь, робость. В конце концов вся жизнь оказывается не мила. Образ такого разочарования в былых мечтах – тяжкая химера:
Под широким и серым небом, на широкой пыльной равнине, где нет ни дорог, ни травы, ни даже репейника и крапивы, я встретил вереницу людей, которые шли, согнувшись. Каждый из них тащил на спине огромную Химеру, тяжелую, как мешок муки или угля или как вооружение римского пехотинца.
Но не мертвой ношей было это чудовище, нет, – оно сжимало, обвивало человека своими сильными, упругими мускулами, цеплялось за его шею длинными когтями, и фантастическая голова его возвышалась над челом человека наподобие тех страшных шлемов, какие употреблялись древними воинами в расчете навести ужас на неприятеля[44]44
Там же. С. 11.
[Закрыть].
Человек в своей скучной жизни оказывается воином скуки – он несет на себе заботы как вооружение, связанный долгом перед другими людьми. Быть может (и скорее всего), ему ни разу не придется вступить в бой. Он не узнает миг наслаждения в бою. Славы в его жизни не будет вообще, но только мука неосуществленной фантазии.
Конечно, у поэта бывает творческий подъем, но самое большее, на что он может рассчитывать во время этого исступленного состояния, – перестать презирать себя. Бодлеровский поэт уже не притязает на то, чтобы научить чему-то людей, или принести весть о красоте, или улучшить жизнь, даровав ей красоту. Самое большее – он почувствует себя на миг человеком, а не мстителем и не жертвой собственных неудачных слов и рифм.
Недовольный всем и недовольный собою, как бы я хотел найти искупление и почерпнуть немного бодрости в тишине и одиночестве ночи! Души тех, кого я любил, души тех, кого я воспевал, укрепите меня, поддержите меня, удалите от меня ложь и тлетворные испарения мира. А Ты, Господь Бог мой, окажи мне милость, дай мне создать несколько прекрасных стихов, которыми бы я доказал самому себе, что я не последний из людей, что я не ниже тех, кого я презираю[45]45
Там же. С. 22.
[Закрыть]!
В этих словах легко заподозрить самоуничижение и цинизм, но на самом деле это размышление о границах поэзии в современном мире. Поэзия уже не отвечает общественному запросу, она превратилась в развлечение отдельных людей. Ее символ у Бодлера – шут, который взирает на статую Венеры, думая, что он тоже причастен красоте. Но Венера ему не отвечает, и его лоскутный провокационный юмор оказывается бесплодным и плоским без ожидаемой причастности слову красоты.
Поэтому единственное, на что может рассчитывать поэт, – раскрыть свое сердце, всё его содержание, вместе со всеми пороками, которые в нем гнездятся. Тогда хоть как-то проявятся в словах еще оставшиеся внутри него любовь и красота.
Такая искренняя речь у Бодлера – это тоже риск. Ведь, употребляя повседневные слова, слова своих современников, ты как бы опускаешь поэзию на уровень улицы, поэзия становится даже в чем-то подобна продажной женщине. Использовать возвышенные слова, далекие от толпы, – это не выход, потому что в этом скажется только снобизм и высокомерие, но не защита высокого и прекрасного. А употреблять в стихах какие-то специальные слова, например научные, – это значит окончательно превратить поэзию в частное дело, в бесплодную интеллектуальную игру, никому не интересную.
Поэтому поэт Бодлера становится фланёром, то есть, по-французски, любителем прогулок, который наблюдает за жизнью большого города и пытается найти в ней поэзию, чтобы было хотя бы о чем поговорить с современниками:
Одинокий задумчивый фланёр находит своеобразное опьянение в этом неисчерпаемом общении с миром. Тот, кто легко сливается с толпой, испытывает лихорадочные наслаждения, которых никогда не познает эгоист, замкнутый как сундук, или неподвижный как улитка ленивец. Он живет всеми профессиями, переживает, как свои собственные, все радости и горести, какие преподносит ему случай. То, что люди называют любовью, – так ничтожно, так ограниченно, так жалко по сравнению с этой необъятной оргией, с этой святой проституцией души, которая отдается целиком, со всем, что есть в ней поэтического и теплого, всякой открывающейся для нее неожиданности, всему неизвестному и мимолетному[46]46
Там же. С. 27–28.
[Закрыть].
Большой город действительно состоит из неизвестного и мимолетного, но состоит также из угнетающей власти. Бодлер как никто чувствовал, что город XIX века, вроде бы удобный и блистательный, на самом деле действует угнетающе – человек превращается в нем в потребителя, который ходит известными маршрутами, общается не с друзьями, а только с коллегами, пользуется анонимными благами.
Например, он покупает вещь, ничего не зная о ее производителе и владельце и не собираясь больше столкнуться ни с продавцом, ни с другими покупателями, – нет ли здесь чего-то похожего на проституцию? Бодлер, сам того не зная, оказался первым критиком общества потребления.
Этой тоске большого города лирический герой Бодлера противопоставляет экзотическое воображение, которое тоже болезненно: оно требует концентрации на предмете. Это не вольная фантазия, которая гуляет где хочет. Это угнетаемая фантазия городского жителя, наподобие фантазии современного офисного работника во время сдачи отчета.
Тем самым Бодлер предвосхитил и критику общества потребления в своих городских пейзажах, и критику изнуряющих переработок и бессмысленного бюрократического труда в своих экзотических зарисовках, только на первый взгляд кажущихся пленительными:
В волосах твоих целый мир сновидений: я вижу в них снасти и паруса; широкие моря, где дуют муссоны, уносящие меня к сладостным краям; там даль синее и глубже, там воздух напоен благоуханием плодов, листвы и человеческого тела.
В океане твоих волос мне видится гавань, оглашаемая меланхолическим пением; там суетится разноплеменная толпа мускулистых людей; сложными и тонкими очертаниями вырисовываются разнородные корабли на необъятном просторе неба, где надменно царит вечный зной[47]47
Там же. С. 44.
[Закрыть].
Лишь на кратчайший миг эта туристическая картинка может показаться образцом отдыха среди южных наслаждений. После этого мы сразу понимаем, что меланхолическое пение принадлежит рабам в колонии. Жизнь мускулистых людей – это обреченность труду до самой смерти. Вечный зной приятен праздным туристам, но не работникам. Запах человеческого тела – запах пота или добытых трудом и потом благовоний. Картина угнетения оказывается полной и рельефной.
Поэтому в этом отрывке из слов и образов сплетается другой сюжет: я в рабстве у твоей красоты, но не рад этому, потому что сразу вспоминаю о рабстве множества моих и твоих современников. Если я и наслаждаюсь твоим видом южной неотразимой красавицы, то лишь потому, что я ничем не лучше этих рабов и потому не имею права протестовать против рабства. Я возвращаюсь мыслью к тебе, потому что не могу достичь свободы и тем самым обращаюсь и возвращаюсь всё время и к себе.
Эти сокровища, эта мебель, эта роскошь, этот порядок, эти ароматы, эти чудесные цветы – это ты. И эти большие реки и спокойные каналы – это ты, это ты. Огромные суда, которые движутся по ним, преисполненные богатствами, и монотонное пение рабочих, доносящееся с них, – это мои думы, отдыхающие или трепещущие на груди твоей; ты тихо направляешь их к морю, которое есть Бесконечность, отражая глубины неба в прозрачности своей прекрасной души. И когда утомленные морским волнением, отягченные богатствами Востока суда возвращаются в родную гавань, это опять они, мои мысли; обогащенными возвращаются они из Бесконечности, возвращаются вновь к тебе.
Бесконечность – это не поэтическая свобода, но нескончаемое утомление и богатства колоний, приобретенные страданиями и жалким положением множества людей. Чем богаче становятся мысли, тем беднее становятся работающие люди. Поэтому поэт должен постоянно задумываться о своей бедности: не так много у него осталось эффектных образов и замечательных метафор. Поэт должен честно признаться себе, что он устарел как производитель правильных изящных текстов, – только тогда он подаст руку рабочему.
Итоговым образом Бодлера становится образ окна как искусственного равнодушия. Природа равнодушна к человеку как таковому. А искусственная прозрачность окна равнодушна к отдельному обитателю дома.
Тот, кто глядит в открытые окна с улицы, никогда не видит всего, что можно увидеть, всматриваясь в закрытое окно. Нет ничего более глубокого, более таинственного, более завлекательного, более сумрачного, более ослепительного, чем окно, освещенное изнутри свечою. То, что можно видеть при солнечном свете, далеко не так интересно, как то, что творится за оконным стеклом. Ведь там, в этом небольшом, темном или освещенном пространстве, живет, грезит, страдает человеческая жизнь.
Над волнами крыш я вижу в окне пожилую женщину, уже в морщинах, бедную, всегда над чем-то склоненную, которая никогда не выходит из дому. По ее лицу, по одежде, движениям, по каким-то едва уловимым признакам я создал для себя историю ее жизни или, вернее, легенду о ней; и иногда я рассказываю ее самому себе и плачу.
Если бы там жил бедный старик, я воссоздал бы точно так же и его историю.
И я засыпаю в гордом сознании, что жил и страдал жизнью других, непохожих на меня людей.
Быть может, вы скажете мне: «Уверен ли ты, что эта легенда верна действительности?» Но что мне за дело до того, какова может быть действительность, существующая вне меня, если моя легенда помогла мне жить – ощутить, что я существую, ощутить самого себя[48]48
Там же. С. 113.
[Закрыть].
Итак, окно никогда не ведет из реальности в реальность. Оно приводит из фальшивой светской жизни в не менее фальшивую и притворную домашнюю жизнь. Оно распахивает перед нами новые декорации фальши.
Общественная, социальная жизнь фальшива потому, что мы должны всегда что-то скрывать: свой возраст, чтобы нас не сочли слишком старыми, нехватку умений, чтобы нас не лишили нашего дела, или недостаток щедрости, чтобы о нас не пустили слух как о скупцах. Это бытовое, социальное притворство, опутавшее нас множеством рабских цепей.
Но гораздо страшнее притворство перед собой, домашняя ложь самому себе. Согласно Бодлеру, она возникает невольно: не потому, что человек хочет обмануть себя или родственников, и не потому, что человек нарочно разыгрывает из жизни спектакль – но просто потому, что индивид в современном городе слишком мало знает о себе. Нам кажется, что мы просто умеренно и аккуратно организуем свою жизнь в большом городе, в своей квартире. Но на самом деле мы уже много раз солгали себе, обманули себя самым черным и преступным образом.
Ведь когда мы выстраиваем свою биографию, мы равняемся либо на официальные образцы, либо на прочитанное в романах[49]49
Джумайло О. А. Английский исповедально-философский роман, 1980–2000. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального ун-та, 2011. 318 с.
[Закрыть]. Нам кажется, что мы уже прожили большую часть жизни, или, наоборот, что вся жизнь у нас впереди. Но это иллюзия, потому что все эти представления о мере и наполнении жизни взяты из книг, из бюрократических отчетов или из частного и часто недостоверного опыта наших соседей и знакомых. Усвоив умение других лгать, о котором сами эти другие не подозревают, мы лжем уже вдвойне.
Поэтому мы все превращаемся в старых шутов, путая лицо и изнанку, сцену и жизнь, жалея себя скорее, чем мы успеваем общаться с собой[50]50
Штайн О. А. Маска как форма идентичности. СПб.: РХГА, 2012. 158 с.
[Закрыть]. Мы играем так, как будто мы яркие индивидуальности, в то время как любому непредвзятому взгляду видно, насколько устарели наши способы показать себя, способы говорить о себе, способы мыслить о себе. Это обноски старых культур, или, по Бодлеру, лохмотья нищего шута, который пьянеет от одного бокала доброго вина, потому что слишком труслив, чтобы напиться вволю и обрести радость, а не очередной упадок сил.
Бодлера можно было бы назвать мизантропом, ненавистником людей – если бы не его ненависть к себе. Он не жалеет прежде всего себя самого: поэт для него – не пророк или учитель, но самый ранимый, самый чуткий и потому самый испорченный человек на свете. Бодлер со всей убедительностью показал, что в современном обществе, дробном, равнодушном, состоящем из случайных друг другу людей, искусство уже не может, как раньше, облагораживать и соединять их.
Искусство в современности, говорит Бодлер, тоже болеет теми же болезнями, что и общество: оно становится робким, мнительным, изломанным, недоверчивым. Когда меняется искусство жизни (savoir vivre), когда оно сводится к случайным наслаждениям в несправедливом обществе, где равнодушие, произвол и колониальное угнетение никуда не исчезнут в ближайшие десятилетия, то и само искусство уже не может говорить о красоте, чувстве, долге или даже безупречной природе так, как оно говорило раньше.
Больное искусство может говорить о другом: призвать к недоверию нашим чувствам.
Нам кажется, что это прозрачная витрина – но на самом деле это тщеславная выставка добытых слезами, кровью и потом колониальных товаров.
Нам мнится, что это прекрасный дворец – но на самом деле это робкая попытка уйти от жизненных вопросов, употребив для проектирования и строительства первые попавшиеся под руку прелести природы и экзотические украшения.
Нам видится, что это мудрый старик – но на самом деле это растерянный человек, не способный дать себе отчет, научила ли его чему-то жизнь, и потому не ведающий, чему он может научить новое поколение.
Так в мире Бодлера неподлинное смотрит в неподлинное. Подлинным оказывается только тот гнев, с которым этот великий поэт обличает сговор неподлинных вещей и дел против человека.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































