Текст книги "«Что ты вьёшься, вороночек!..». повесть об А. С. Пушкине"
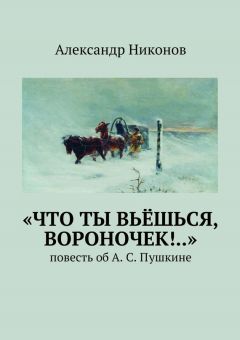
Автор книги: Александр Никонов
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
«Что ты вьёшься, вороночек!..»
повесть об А. С. Пушкине
Александр Никонов
© Александр Никонов, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дороженька первая. Глава 1

«Поднималася с гор погорушка, всё хурта-вьюга…
Сбивала-то она добра молодца со дороженьки…»
Народная песня.
Поздний летний вечер. В донской степи на дороге показался одинокий всадник. Его карий конь еле плёлся, понуро опустив голову. Всадник его не подстёгивал, а лишь лениво подёргивал уздечкой, видно, понимая, что тот и так тащился из последних сил. По лицу всадника было видно, что он сильно устал и истомился от долгой дороги. Наездник был лет тридцати пяти-сорока от роду, широкоплеч, коренаст, роста среднего, тёмно-рус, борода клином, чёрная. Ноги его паучьими лапами обвивали подбрюшье лошади – сразу было видно, что это опытный наездник, родившийся, как говаривают казаки, верхами. На его загорелом лице, на левом виске, маленькой луной выделялось белое пятно от чёрной оспы. Когда он ощеривался, чтобы выплюнуть изо рта дорожную пыль, было видно, что в верхнем ряду не хватает одного зуба.
Вот вдали показались окраинные дома селения с высокими вётлами. Родная сторона. Пахнет полынью, лебедой и острым, щекочущим чабрецом. Над станицей туманом ещё стоит пыль, поднятая пригнанным с выпасов стадом. Из соломенного шалаша у рогатки, сооружённой из осиновых брёвен, заслышав стук копыт, вылез мужчина с голым торсом, потянулся, раскинув руки, зевнул. Долго вглядывался в проезжего, опершись на саблю. Видно, узнал, прислонил оружие к столбу. Всадник у заставы спешился, похлопал коня по крупу. Тот вздрогнул.
– Ну-ну, скоро дома будем. – Повернулся к мужчине. – Здорово, служивый. Не узнаю что-то. Ты, что ли, Еремей?
– Да я, я.
– Что, Ерёма, ветра в поле караулишь? Да и того нет, от духоты не продохнуть.
– Здорово, Емеля. Это кому как, бывает, что и без ветра воров пригоняет. Рази не слыхал – тут к нам набегают из киргизкайсацких степей.
– Ну, как не слыхать, слыхал.
– А ты что, отслужил?
– Да болел вот, в Черкассах лежал.
– Вона что. А воевал где?
– Бендеры брали, во второй армии.
– И как, взяли? – хитро прищурился казак.
– Дали мы туркам жару.
– Надолго домой?
– Как атаман скажет.
– И то правда. Ладно, скачи, а то, небось, Софья-то заждалась.
Казак похотливо заржал.
Вот и родной дом. Уставшее солнце спешило отправиться на покой в своё ночное ложе. Последние его лучи шарили по верхушкам деревьев у речки, а заря золотила стекла в окнах. Емеля спешился, потрогал ворота – заперто. Рукояткой плётки постучал в крайнее окно. Скотина, почуявшая кислый запах лошадиного пота, встревожилась: корова замычала, поросёнок завизжал, а куры, недавно было успокоившиеся, захлопали крыльями и закудахтали, петух лишь проворчал, успокаивая свой гарем. Створки окна распахнулись, на улицу высунулась взлохмаченная голова женщины. Увидев хозяина, она прикрыла ладонью рот, а потом ахнула:
– Ах! Емельян Иванович, батюшка, ты ли это? Господи, сейчас отопру.
Скоро в сенях звенькнул отбрасываемый крючок, шлёпнула деревянная задвижка калитки. Женщина вышла из сеней, прильнула всем телом к казаку.
– Здравствуй, Емелюшка, соскучилась я.
– Здравствуй, Софья. – Он чмокнул жену в лоб. – Ладно, чего жаться-то, не убегу.
Женщина быстро отворила одну створку ворот, завела коня во двор. Емельян снял со спины лошади перемётные сумки, сказал:
– На, неси. Потом овса дашь, да гляди – коня много не пои.
– Да уж знаю, знаю, чать, не мужикова, а казачья жена, – сверкнув весёлыми чёрными глазами, ответила Софья. Емельян снял с коня сбрую, повесил её на крюки под навес, по-хозяйски осмотрел двор и лишь после этого вошёл в дом. У порога снял с себя оружие и повесил его на крюк, перекрестился двоеперстием на образа, висевшие в переднем углу. Дети, одетые в длинные рубахи, – две девочки и мальчик-подросток, – ждали окончания ритуала, которое совершит отец, и лишь после того, как он сделал последний поклон, подбежали к нему с криками:
– Тятя, тятя!
Емельян подхватил на руки девочек, успев при этом погладить по голове мальчика.
– Пришёл, пришёл ваш тятя. Ну что, востроглазые, а слушались ли вы мамку, помогали ей? – весело вопрошал он с нарочито суровым видом.
– Помогали, тятя. Слушались, тятя. А ты гостинцы нам привёз?
– А как же, грех казаку домой без гостинцев возвращаться. А вот смотрите-ка.
Он снял с рук девочек и стал развязывать кожаную перемётную суму, пропахшую лошадиным потом. Протянул девочкам атласные ленты, каждой по две: по красной и по зелёной:
– Нате, егозы, завлекайте женихов. – Потом подозвал сына. – Подойди, Трофимушка.
Тот подошёл. Емельян вынул что-то длинное, завёрнутое в тряпицу, развернул и на двух ладонях протянул мальчику кинжал в кожаных ножнах. Тот осторожно взял подарок, глядя на него восхищёнными, широко раскрытыми глазами, спросил:
– Это мне, тятя?
– Тебе, тебе, сынок. Ты скоро казаком станешь, а что это за казак без оружия, что свинопас с хворостиной. Я самолично отбил его у янычара-басурманина. Носи, сынок, только помни: без нужды не вынимай, без крови врага не вкладывай. Понял ли, сынок?
– Понял, тятя.
Вошла Софья. Увидев в руках сына опасную игрушку, с сомнением спросила:
– Не рано ль ему?
– В самый раз, что ж ему, до портов ждать. Тятя мой, Иван Михайлов, тоже об эту пору, дедовскую саблю мне подарил, какой он в отрочестве поигрывал.
Емельян присел на корточки и вынул из сумы пару расшитых золотыми и серебряными нитками чёрных башмачков.
– А это тебе, Софья. Такие носила сама жёнка сераскира, а то и сама пери. Теперь ты у меня царицей ходить будешь.
Жена ахнула, накоротке прижалась к плечу мужа, примерила обновку:
– В самый раз! – Софья покрутилась на месте. – Спаси тебя Христос, Емелюшка, за такой подарок.
– Носи да не стаптывай, жёнка. Покормила б ты, что ли, меня, а то за дорогу я совсем отощал без домашних харчей.
Солнце окончательно спряталось за горизонт, объяв землю темнотой. Софья зажгла светец из двух лучин, не забыв подвинуть под них тазик с водой, вынула из печи в горшках кашу и пустые щи, нарезала пластами хлеба. Емельян жадно ел, смахивая с бороды в деревянную чашку остатки еды:
– Ладно, ой ладно. Надоели мне солдатские сухомятки. Ну, как вы тут?
– Да как же, сам знаешь, Емелюшка, без хозяина и дом сирота, перебиваемся. Иногда община помогает, когда и сами не зеваем.
Емельян вдруг остановился, посмотрел на догорающие лучины, искры от которых падали в тазик с водой, потом тряхнул головой:
– Ничего, ничего, авось, Бог даст, заживём мы с вами по-царски, во дворцах с золотом, в парчах ходить будем и нужды не знать. Вот помяните моё слово.
– Как же так, Емеля? – спросила Софья.
Емельян словно очнулся, он прищурился, строго посмотрел на жену:
– Ты гляди, Софья, с кумушками не больно-то сорочь, сама скоро узнаешь. Спать пошли.
Емельян долго не спал, всё ворочал в голове глыбы тяжёлых дум и вздыхал. А задуматься было от чего. Вот уже больше десяти лет прошло, как он ломал казацкую службу, а просвета в судьбе так и не намечалось. За эти годы дослужился до хорунжего, младшего офицерского казачьего чина. А дальше что? Емеле не было и семнадцати, когда его отец, Иван сын Михайлов, по прозвищу Пугач, как на Дону называли филина, вышел в отставку. Его место и занял Емеля, благо, что не надо молодого казака снаряжать: и конь, и амуниция, и оружие досталось от батюшки в наследство. Через год остепенился – женился на красивой казачке Софье, дочери Дмитрия Недюжева из Есаульской станицы. Ах, как сладки были ночки с молодой и любимой женой!
Да только недолго пришлось нежиться и ласкаться в пуховой постели – настала и ему пора послужить. Воевал в Пруссии, когда шла семилетняя война. За сноровку, бесшабашность и весёлый нрав молодого казака приметил полковник Денисов, командир пятисотенного отряда донских казаков, и взял к себе в стремянные ординарцы. Емеля обрадовался и думал, что ухватил удачу за бороду, ведь не каждого казака брали в ординарцы командиры. Но и здесь удача, словно скользкая щучка, выскользнула из рук. Однажды во время ночного боя, в заполошной суете и суматохе боя, когда повсюду гремели взрывы и выстрели, а в темноте сверкали молнии от пороховых зарядов, он не удержал молодую, горячую лошадь командира, и та с ржанием и диким приплясом растворилась в ночной кутерьме. На беду лошадь немедленно понадобилась полковнику, тот, не нашедши её, рассвирепел и велел выпороть Емельяна плетьми.
После прусского похода Емельян ловил беглых староверов в Речи Посполитной и возвращал их на родину. А скоро подоспела новая война с османами. Служил на этот раз Емельян под командованием полковника Ефима Кутейникова почти два года. После взятия Бендер войска встали на зимние квартиры в селе Голая Каменка, что близ Елизаветграда. Делать было нечего, и казаки травили байки, вспоминали семьи и родные станицы, пили вино и устраивали набеги на крестьян, чтобы поживиться свежими яйцами, молоком и сметаной.
Все казаки завидовали казацкой сабле Емельяна, которая досталась ему от батюшки. Сабля была с темляком из кручёной серебряной нити на эфесе, кривой, словно речная волна, с наплывом на конце и узором на рукояти и ножнах. Этот наплыв на конце клинка придавал сабле особенное ускорение при замахе, и каждый удар, настигавший противника, разрубал его пополам или увечил. На зимней квартире, в доме зажиточного крестьянина, казаки только и расспрашивали его о сабле, домогаясь сказать, где он её купил, у какого мастера. Емельяну это надоело и однажды он по секрету, приглушив голос, сказал: «А хотите знать, братцы, чья это сабля?» «Ну, говори, Емелька». «Энту саблю мне подарил сам великий царь, Пётр Лексеич. Вот как». «Мели, Емеля, – не верили ему. – Начто тебе, простому казаку, сам царь будет саблю дарить?» «Так он же мой крёстный отец». «Как же так-то?» «А так! Батюшка мой в Питербурхе в конном полку служил. А когда я народился, он и подарил мне энту саблю». Кто-то верил, кто-то нет, кто-то сомневался: «Ты ж совсем мокросос, Емеля. Ври. А Пётр-то, когда это было».
На квартирах Емельян и простудился, подхватил грудную болезнь. Кутейников велел отряду ехать на Дон для исправления лошадьми, чтобы пополнить конную кавалерию. Снабдили отряд харчем на дорогу, тёплой одеждой и отправили домой. В этот отряд попал и Емельян, а в Черкассах слёг в лазарет… С этими думами Емельян и заснул.
В Зимовейской прозвонили станичный сбор. Собрались на площади, у куреня атамана, седого худощавого мужчины лет пятидесяти. Он взял слово:
– Казаки, вы помните, как прошлым годом бунтовали в Яицком городке. Тогда генерал-майор Фрейман усмирил мятежников. Тогда они, слава Богу, со своими детьми и жёнами убежали за Чаган и ушли к Каспию-морю. Там-то их всех и переловили.
– Помним! Знаем! – зашумели казаки. – И мне самому пришлось свою нагайку помочалить об их спины.
– Вот-вот. Мне пришло донесение, что мятежники не унимаются. За Яиком по всем степным умётам и отдалённым хуторам опять собирают тайные собрания, а прощёные мятежники грозятся, мол, то ли ещё будет, так ли мы тряхнём Москвою. Поэтому приказываю устрожить караулы, мало ли что этим ворам втемяшится в голову. Это первое. Второе: надо снарядить отряд на путину, чтобы наморозить на зиму рыбу, чтоб самим не голодать и на продажу чтоб осталось. Третье: надо помочь вдовам заготовить на зиму сена, чтоб не думали наши убиенные товарищи, что их сироты остались в бесприютной юдоли.
После сбора атаман подошёл к Пугачёву:
– Что, приехал, Емеля?
– Приехал вот.
– Зайди в мой курень, поговорим да от жары остынем.
Зашли в прохладу. Вместе с атаманом и Пугачёвым в курене сидели писарь и двое старшин. Хозяйка подала квасу. Все попили. Атаман искоса посмотрел на Емельяна, спросил:
– Чего не доложился?
Пугачёв от прямого ответа уклонился:
– Сильно устал после дороги, целый день отсыпался.
Один из старшин ухмыльнулся:
– Наверно, Софья больше утомила.
Пугачёв зыркнул на него косым взглядом, но ничего не ответил.
– Ну, ладно, это дела семейные, – погасил назревавший скандал атаман. – Так где, ты говоришь, службу ломал?
– В Бендерах, при второй армии.
– Как там турок?
– Ломаем.
– Это хорошо. Иль наскучило в Бендерах-то?
– Там не заскучаешь, – ответил Емельян. – Турок покоя не даёт, того и гляди, из своих шаровар выскочит. А отпустили меня по причине грудной болезни.
– Вот как. – Атаман засомневался: – У тебя бумага есть?
– А как же, вот.
Пугачёв подал бумагу.
– Вот, в Черкассах, в гошпитале лежал.
Атаман передал бумагу писарю. Тот, подслеповато вглядываясь в текст, читал:
– «Донской казак Зимовейской станицы Емельян сын Ивана Пугачёв находился на излечении в Черкасском…» – Писарь прервал чтение. – Так и есть, господин атаман, справка в полной исправности. Тут и печать есть.
– Бумажка, это хорошо, бумажка всё вытерпит. Купил, небось, а, Емеля? – Атаман строго посмотрел на казака. – Что-то ты не похож на недужного.
– Не верите, так чего ж, – бормотал Пугачёв. – Проверяйте, коль надо.
Атаман спустил густые седеющие брови, закрыв ими пол глаз. Один из старшин усмехнулся, покрутил головой, поправил свои усы:
– Я тебя, Емеля, ещё вот таким курвёнком знаю. – Он показал рукой на уровень своего колена. – Небось, отхлынул от службы. Я гляжу, у тебя и карюха другая появилась. А ведь с лошадью тебя не отпустили бы. Где кобылу взял? Кони, да ещё с седлом, по степям не гуляют.
Пугачёв возмутился:
– Что ж я, по-вашему, аль не служивый казак, иль я голь перекатная! Мне и жалованье платили. А коня. Что конь, я его на барышном базаре в Таганьем Рогу купил.
– Уж не у цыгана ли? – заржал старшина. – Оно и понятно: цыган и жеребится, и пасёт, и подковывает, и сбрую ладит.
– А хоть бы и у цыгана. Мне-то что. Что было, то и купил – по цене пришлась.
– Брешет, небось, – поддержал своего товарища второй старшина. – Знаем мы тебя. Купил он!
Атаман уставил свой кривой палец на Емельяна:
– Во, слышь, Пугачёв, не верят тебе станичники. Ну, коль купил, докажи. Покупная есть?
Пугачёв негодующе всплеснул руками:
– Вот, извините, братцы! Не догадался! Да кто ж мне покупную на базаре выправит. Базар, он и есть базар. Там, известно, два дурака: один продаёт, другой покупает.
– Ты тут нас не дурачь, Емеля, – настрожился атаман. – Поезжай и привези документ на лошадь. А если не так, то будем считать тебя вором и разбойником. Даю тебе неделю срока. Понятно ли?
– Понятно, чего не понять, – смиренно сказал Пугачёв и встал. Потом стал кланяться: – Вот спасибо, братцы, – приветили служивого.
– Ну-ну, ты комедь-то не ломай, Емеля, – приструнил старшина. – Если ты прав, то привези покупную, да и дело с концом. Ходи давай.
Пугачёв молча пошёл к порогу, но у самой двери его остановил вопросом старшина:
– А ещё мы слышали, Емелька, что под Таганьим Рогом ты будто подговаривал казаков бежать на Кубань. Правда это?
Емельян повернулся, насупился:
– Наветы всё это. Ветер-то свистит, да кто его поймёт, о чём он. Наветы это всё, истинно вам говорю. Ну, прощайте, братцы.
Когда Пугачёв вышел, старшина вздохнул:
– Сразу видно – Разина порода. Эх, зря мы его отпустили, уйдёт ведь в степи. Ведь не зря же слух ходил, что шатался он по скитам да станицам, смущал народ нечестивыми речами. Уйдёт ведь.
– Это да, в Емельке семя Разино произрастает. Ну, ничего, – отозвался атаман. – Пусть волю почует. Вот ужо прискачет Спирька Голоштанный, он-то всё видел и слышал. Уж он-то докажет.
Придя домой, Емельян долго в задумчивости сидел за столом. Глаза его рысями бегали из стороны в сторону, словно выслеживали дичь, а кулаки тёрли столешницу, будто крутили мельничку. Софья заметила его мрачное настроение, испугалась:
– Не случилось ли чего, Емелюшка?
– Ничего-ничего! Привязались вот, дай им покупную грамоту на лошадь, да всё тут. Что ж, надо ехать. – Он встал. – Ты вот что, Софья, приготовь мне что-нибудь в дорогу.
– Когда едешь?
– Сегодня.
– Да что ж ты в ночь поскачешь, подождал бы до утра.
– Днём гнётко и жарко, а в ночь-то в самый раз будет, – возразил Емельян. – Да и коню легче будет.
Софья долго смотрела на мужа и вдруг заплакала.
– Ну, чего ты разревелась?
– Тяжко мне, – призналась Софья. – Сердце моё беду чует. Да и ворон этот.
– Какой ворон? – насторожился Емельян.
– Днём сегодня, пока тебя не было, над нашим осокорем ворон летал. Да так каркал, так каркал, словно беду накликал. Аж душенька моя насторожилась.
Емельян подошёл к жене, прижал её голову к своей груди.
– Ну вот ещё, нашла чем заботиться. Что ворон, он полетает-полетает да улетит. – Неожиданно он запел:
– Что ты вьёшься, вороночек,
Над погорушкой в степи:
Или ждёшь ты чёрных ночек,
Или кликаешь беды.
Пугачёв легонько отстранил от себя жену.
– Ну, всё, всё.
В ночь Пугачёв ускакал из станицы, поехал не через заставу, а вдоль по Дону, через ракитовые колки. Въехал на холм, остановился, долго смотрел на родную Зимовейскую станицу, словно прощался с ней навсегда. Потом усмехнулся и сказал неизвестно кому:
– Так-так, атаман. Значит, говоришь, то ли ещё будет. А и правда, не тряхнуть ли нам Москвою.
Пугачёв тронул поводья, развернулся на месте и осторожно стал спускаться с угорья.
Ранним утром в доме Пугачёва раздался требовательный стук. Проснувшаяся растрёпанная Софья открыла дверь. В избу ворвались казаки. Старшина грозно спросил:
– Софья, где твой муженёк? Разбуди-ка его.
– Так он же уехал.
– Куда?
– За покупной, сказал. Вы же сами его отправили.
Старшина пожевал усы:
– Это так, посылали, да только что-то скоро он собрался. Больше он ничего не говорил?
– Нет, не говорил. Да что случилось-то? – всполошилась Софья.
– Ничего не случилось. Если Емеля появится, кликнешь нам. Да смотри, не предупреждай! – пригрозил кулаком казак. – А то выпорем на сходе или выгонем вас из станицы. Поняла ли?
Когда казаки ушли, Софья сползла по стенке на пол и горько заплакала.
Дороженька вторая. Глава 1
«По неволе иль по воле
Мчится он в ночную мглу?»
Народная песня.
Из Казани вниз по Волге по заволжской дороге летит ямщицкая тройка. Слышны лишь топот копыт по сухой дороге да храп лошадей. Пассажир, дремавший в коляске, выехал ранним утром, когда солнце лишь посинило окраек неба. А встал он и того раньше. Оделся, посмотрел на свой брегет – 6 часов. Часы отзвонили мелодию и стихли. Мужчина сел к письменному столу, очинил перо и стал писать письмо Фукс, гостеприимной хозяйке, которая привечала его в Казани: «8 сентября 1833 года. Милостивая государыня, Александра Андреевна! С сердечной благодарностью посылаю вам мой адрес и надеюсь, что обещание ваше приехать в Петербург не есть одно любезное приветствие. Примите, милостивая государыня, изъявление моей глубокой признательности за ласковый приём путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание его в Казани. С глубочайшим почтением честь имею быть…»

Затем он взял другой лист бумаги.
«8 сент. Казань. Мой ангел здравствуй. Я в Казани с пятого и до сих пор не имел время тебе написать слова. Сейчас еду в Симбирск, где надеюсь найти от тебя письмо. Здесь я возился со стариками, современниками моего героя; объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону. Погода стоит прекрасная, чтоб не сглазить только. Надеюсь до дождей объехать всё, что предполагал видеть, и в конце сентября быть в деревне. Здорова ли ты? здоровы ли вы все? Дорогой я видел годовую девочку, которая бегает на карачках, как котёнок, и у которой уже два зубка. Скажи это Машке…»
В этот момент за спиной скрипнула дверь кабинета. Мужчина оглянулся. В кабинет входил Баратынский. Пушкин живо встал со стула, бросился навстречу гостю:
– Евгений Абрамыч, как вы здесь, откуда? Я уж и не чаял увидеть вас больше в этих краях.
Баратынский развёл руки:
– Да вот, услышал, Александр Сергеич, что вы сегодня уезжаете, примчался из Каймар проститься с вами. Когда ещё доведётся свидеться. И доведётся ли…
– Рад, очень рад! Да вы скидывайте свой плащ, садитесь. Я на минутку оторвусь. Писал вот письмо Натали. Не окончил.
Александр Сергеевич снова сел к столу и быстро набросал окончание: «Здесь Баратынский. Вот он ко мне входит. До Симбирска. Я буду говорить тебе о Казани подробно – теперь некогда. Целую тебя».
Снова вернулся к Баратынскому, сел рядом с ним на диван, взял его руки в свои.
– Евгений Абрамыч, мне уж надо ехать, тройка ждёт. Прошу простить меня. Я надолго запомню эти дни в Казани, наши встречи и прекрасные вечера, проведённые у вашего тестя и у Фуксов. – Неожиданно он замолчал, потом встал и порывшись в дорожном саквояже, достал небольшой портрет. Протянул его Баратынскому:
– Вот, возьмите от меня на память.
Евгений Абрамович осторожно принял портрет, посмотрел на рисунок.
– Это вы, Александр Сергеич?
– Да, примите от меня на память. Пусть он напоминает вам о нашей встрече в Казани. Этот портрет нарисовал Жорж Вивьен. А рамочку, между прочим, я смастерил сам из папье-маше. Давайте прощаться.
Они обнялись и вышли во двор. Александр Сергеевич сел в карету. Собранные ещё с вечера дорожные вещи – книги, карты, рукописи, еду одежду – приказал своему дорожному лакею Иннокентию погрузить в рундук коляски, а возчику сказал:
– Ты вот что, любезный, ты пригаси-ка колокольчик, да и бубенцы тоже. Не выспался я что-то.
Рослый хмурый детина из-под бровей зыркнул на пассажира, стал рвать сухую траву и заталкивать её в бубенцы, чтобы они не гремели. С колокольца на дуге он просто снял било и спрятал его в карман чапана. Недовольно пробурчал что-то в бороду – он и сам в эту ночь не выспался. А позвонки не давали в дороге уснуть, чтобы, не дай Бог, не съехать в кювет или не угодить в канаву. Но пожелание пассажира, как закон.
Сентябрь в этот год выдался сухим и жарким, потому и осень зарделась и расцвела слишком рано для этой поры. Леса и колки, бурты кустарника вдоль буераков уже цвели багряными, жёлтыми, розовыми и бурыми листьями. Крестьяне ещё дожинали на полях остатки хлебов. При виде тройки они разгибались, бросали серпы на землю и долго смотрели ей вслед, словно завидуя ей. Потом тяжко вздыхали и снова принимались за страдную работу. Может, они просто удивлялись странному для этих мест облику пассажира.
Это был сухощавый шатен с курчавыми волосами, с бледным, мулатским лицом, с небольшими бакенбардами, молодыми усиками и толстыми губами. Иногда он вздрагивал, отрывался от дрёмы, вскидывал веки и живыми, с лёгкой голубизной, глазами, и смотрел по сторонам. На его тонких пальцах с длинными, лопатками, ухоженными ногтями, поблёскивали два перстня: на левой руке большого пальца и на указательном пальце правой.
Через несколько смен лошадей, во втором часу дня, тройка въехала в небольшой городок. Пассажир спросил:
– Что это за селение, сударь?
– Это Аишево, барин. Здесь через Каму переправляться будем.
– Надолго это, я тороплюсь.
– Не знаю, барин. Смотритель, должно, знает.
Прочитав подорожную пассажира, в которой было написано, что господин титулярный советник Пушкин по особо высочайшему повелению едет в Оренбургский край и что все губернаторы и местные власти обязаны оказывать ему на месте остановок всяческую помощь, содействие и беззамедлительное следование в дороге, полуграмотный смотритель всполошился. У пассажира к тому же был открытый лист-предписание смотрителям всех почтовых станций беспрепятственно выдавать положенное число лошадей, полученное от самого Московского почт-директора Булгакова. Смотритель подумал, что пассажир не кто иной, как попечитель Казанского учебного округа граф Мусин-Пушкин, который осуществляет инспекционную поездку. Правда, его смутил странный облик пассажира: низенького, живого, вертлявого, который постоянно спрашивал:
– Скоро ли отправимся?
– Просим немного обождать, господин Пушкин. Скоро с того берега дощаник будет. А пока, просим вас, пройдите в избу, вас там чаем угостят.
Наконец Пушкин переехал на другой берег Камы и приказал ямщику мчаться во весь опор. В дороге он вспоминал, как зародилась его мысль написать «Историю Пугачёва», которая гнала его сейчас по тем местам, где почти шестьдесят лет назад полыхала народная война. Пожалуй, впервые она зародилась во время его невольного пребывания в селе Михайловском ещё в конце 1824 года, когда он попросил переслать ему из его библиотеки роман какого-то неизвестного французского автора «Ложный Пётр Третий, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачёва». Но там было столько вымысла, несуразицы и откровенной лжи, что поэт долго потешался над автором, высмеивая его литературные и исторические потуги.
В 1830 году, когда он находился в Болдино, в Москве и её окрестностях, а затем почти через год и в Петербурге, когда вспыхнули «холерные» бунты, его возмутили усмирения взволновавшегося народа, когда сам царь выезжал на место происшествия. Затем Пушкину привелось прочитать Сентенцию Сената от 1775 года «О наказании смертною казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пугачёва и его сообщников», из которой он узнал о благородном дворянине, офицере-поручике Шванвиче, попавшему в плен к восставшим и перешедшему на их сторону. Предатель был прощён самим Емелькой и даже пожалован есаулом, а затем атаманом полка пленных и секретарём и переводчиком военной коллегии Пугачёва. Затем в беседе с генерал-лейтенантом Свечиным тот тоже рассказал о Шванвиче. Будто указы Пугачёва на немецком языке писал предавшийся изменнику трона дворянин-немец Шванвич.
Этот эпизод с «благородным дворянином», который перешёл служить к бунтовщикам, и послужил первым толчком к замыслу романа «Капитанская дочка». Но все русские и иностранные источники о Пугачёвском восстании не давали правильного и зримого представления ни о причинах этого восстания, ни о личностях, которые его вершили. Нужны были свидетельства живых очевидцев, которых ещё не поздно было найти. Но для такой поездки нужно высочайшее повеление. После долгих мытарств и прошений оно было получено.
Сейчас, по дороге в Симбирск, он вспоминал дорогу до Казани. Из Петербурга Александр Сергеевич планировал выехать 16 августа, но в этот день разразилась страшная буря. Царскосельский проспект был весь завален поваленными ураганным ветром деревьями, извозчики отказывались ехать через Троицкий мост, и пришлось путь в пятнадцать вёрст идти пешком. Сопровождал его Сергей Александрович Соболевский, который тоже ехал в Москву. Змеи вылезли из затопленных водой нор и большими клубками грелись на солнце. Иной раз мимо них невозможно было пройти, и приходилось их убивать тростью или палками. Соболевский, зная о суеверном характере своего спутника, посмеивался: «А не вернуться ли нам, Александр Сергеич? Говорят, змеи на дороге – плохая примета». Пушкин и на самом деле подумывал, не отложить ли поездку на некоторое время, но что он скажет императору, который дал ему целых четыре месяца отпуска на собирание материала о пугачёвском бунте. Нет, откладывать никак нельзя.
17 августа утром они выехали на московско-петербургский тракт, три дня провели в дороге и остановились в Торжке, переночевав в гостинице. Утром, распрощавшись с Соболевским, Пушкин отправился в дорогу, не забыв написать с дороги первое письмо жене. С почтового тракта решил свернуть на просёлок в сторону Волокаламска, чтобы заехать в село Ярополец к своей тёще Наталье Ивановне Гончаровой. Долго с ней беседовал, отобрал несколько десятков книг из семейной библиотеки Гончаровых, осмотрел гробницу пращура Натальи Ивановны, Дорошенко Петра Дорофеевича, украинского полководца и дипломата, бывшего полтора века назад гетманом Правобережной Украины. Образина, как называл Пушкин своего дорожного слугу Ипполита, долго ворчал тоном московского канцеляриста, перемежая свою простонародную лексику с французскими словами, которых он поднабрался, живя в господском доме, загружая в коляску тяжеленные книги.
Затем Пушкин решил навестить своего приятеля и «старину» Павла Ивановича Вульфа, поручика лейб-гвардии Семёновского полка, участника Отечественной войны, проживавшего в селе Павловском Тверской губернии.
В Москве Александр Сергеевич был вынужден пробыть четыре дня, потому что по дороге сломалась карета, и её ремонт затянулся. Встречался со своими старыми друзьями и приятелями Киреевским, которому отдал тетрадь с записанными в Михайловском народными песнями, Шевырёвым, Соболевским, Судиенко, был у Погодина, Чаадаева. В ночь с 26 на 27 августа пили за здоровье Натали, у которой на следующий день были именины. Побывал с визитом вежливости у чиновника по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, московского почтового директора Александра Яковлевича Булгакова, чтобы поблагодарить его за приглашение на именины его жены, Булгаковой Натальи Васильевны, извиниться за своё отсутствие на них, не забыв выпросить у него подорожный лист для станционных смотрителей. Булгаков был сильно обижен на поэта, но подорожную всё же дал. Провожал его из первопрестольной хороший друг Нащокин Павел Воинович.
Ещё до въезда в Казань, на одной почтовой станции, где-то между Васильсурском и Хмелёвкой Пушкин встретил старуху, собирающую милостыню. Как всегда при смене лошадей, он расспрашивал местных старожилов о Пугачёвском бунте, происходившем в этих краях, и вдруг сзади раздался надтреснутый голосок:
– Зачем вам, молодой человек, знать-то о столь далёких временах?
Пушкин оглянулся и увидел сгорбленную старушку лет семидесяти, с беззубым ртом, в простонародном одеянии, ответил:
– Я собираю материал по Пугачёвскому бунту, вот и записываю сказания, предания и легенды.
– А кто ж вы будете? – подозрительно спросила старушка.
– Я Александр Сергеевич Пушкин, поэт, – просто представился Пушкин.
– А-а-а, – протянула старушка, – читала, читала. Бойко вы пишете. Что ж мы, батюшка мой, стоим посреди дороги. Пойдёмте, присядем в харчевне, там и поговорим. Заодно и чаем меня угостите.
За чаем старушка призналась, что она обедневшая дворянка и живёт милостыней, что старшая её сестра была замужем за полковником Юрловым, тогдашним комендантом городка Курмыша.
– А полковник-то был смелущим да отчаянным, сударь вы мой. Спаси, господи, его душеньку. – Старушка перекрестилась. – Когда вор пришёл в Курмыш-то, взял в плен солдат да офицеров. Повязал их всех да и спрашивает, не желают ли, мол, они верно служить царю Петру Фёдоровичу. А свояк-то не оробел и кричит на него: «Ты вор, самозванец, разбойник и бунтовщик, а не государь! И, помяни моё слово, висеть тебе на виселице на Лобном месте. Пока не поздно, сдавайся, проси милости и прощения
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































