Текст книги "Akladok"
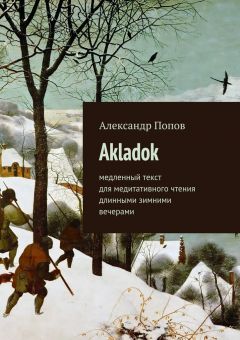
Автор книги: Александр Попов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
***
– Когда я была маленькая, я думала, что взрослые люди – другие. Дело не в том, что они больше в размерах, сильнее и знают об окружающем мире намного больше, чем знала тогда я. Они выросли, стали людьми, полноценными настоящими людьми, понимаете? А я еще нет. И эта разница представлялась мне колоссальной. Но потом, я пошла в школу, научилась читать, писать и узнала многое из того, что знает обычный взрослый. Я выросла, выкурила первую сигарету, выпила первую рюмку вина, узнала что такое секс. Я уехала в Москву, поступила очень престижный институт, вышла замуж, развелась, уехала жить и работать в самую богатую в мире страну. У меня родился сын, я открыла свой офис. Но что изменилось? Стала ли я тем человеком, настоящим законченным взрослым человеком? Не фига! И еще раз не фига! Когда я смотрю внутрь себя я вижу все ту же злобную эгоистичную девчонку, которая готова расплакаться от того, что у ее куклы не отстирывается пятно на платье.
– И это, мать, твое главное разочарование? – удивился Семен.
Ах да, они же теперь говорят о разочарованиях. Люба прикусила губу.
Неудачная тема. Но, кажется, она сама ее предложила. И так ужасно начала. Нужно же было привести конкретный пример из жизни. Что с ней?
– Да. Это… глобальное такое разочарование, – вздохнула Люба. – А вы чего ожидали? Что я начну про разочарования в мужчинах, в сексе, в стране, куда уехала?
– А мы тоже так должны? Ну, так глобально? – попробовал спросить Иван.
– Нет, давайте сначала разберемся, – предложил Сергей. И встал.
– Я… Я тоже думал, что взрослые люди другие. Пока сам таким не стал. Это… происходит незаметно, понимаете? Появляются возможности, сила, способность что-то понять. Но… мне кажется я только начал. Начал становится взрослым человеком, но во что-то уперся. Я только не знаю, во что. Я бросил медицину, уехал сюда жить. Пробую писать. Но ничего не изменилось, я, наверное, уперся в себя. Понимаете? И тут такое…
– Да, воины, буря…, – насупился Иван.
– И все мы уперлись, – резюмировал Семен. – И сидим тут как…
Пока он искал нужное слово, Сергей поморщился и сел.
– Да, уперлись! – неожиданно громко заявила Люба, – И уперлись, по одной очень простой причине. Тот человек, которым нас всех учили и учат быть, его нет.
– И давно! – поддержал Роман, и тревожно посмотрел на нее – И никогда не было!
– Понимаю, понимаю, – неожиданно включился Иван, который уже несколько минут сидел в каком-то оцепенении. – Ты утверждаешь, что наша модель человека несостоятельна!
– Ваша модель? – переспросил Дук. И посмотрел по сторонам.
– Не состоятельна ни разу. Ведь что такое человек, если посмотреть на него объективно? Что такое человек, если отбросить штампы?
– Это храм…
– Это животное!
– Животное?
– Да, – подтвердила Люба. – Наука именно так его и рассматривает. Как животное, наделенное разумом.
– Вот только кто его им наделил..? – сообщил о своих раздумьях Максим.
– Наделил и… неправильно разделил, – обрадовался Роман.
– Ok. Хотите поговорить о проблемах неравенства? – спросила его Люба, и Роман с энтузиазмом замотал головой.
– Нет, нет, я слушаю, – покорно заявил он и сел прямо.
– Хорошо, о делении разума – в следующей серии. Конечно, мнений может быть много. Сколько людей, столько и мнений. Но, чем человек в корне отличается от животного…, на самом деле опредеить очень сложно.
– Может быть мнением? – предположила королева Иллис.
Люба на секунду задумалась.
– Пожалуй нет, – проговорила она. – Мнение тоже обусловлено. Как и рефлексы животных. А человек… он имеет намного более сложную и тонкую систему рефлексов. Возможно, отсюда его феноменальная для биологического вида обучаемость. Обучаемость и воображение, то есть способность человеческого мозга моделировать процессы. Это действительно отличает нас от прочих. Но это – следствие. Следствие более тонкой организации. И все.
– Как все? – обиделась Настя. – А душа? Мы же не автоматы какие-нибудь.
– Автоматы! Сложные биологические автоматы.
– Автоматы, способные к совершенствованию своей структуры? – предположил Иван. – Ну, в смысле, я когда-то изучал теорию систем…
– Не способные!
Люба почувствовала, что ее охватывает какой-то злой азарт. Азарт растормошить этих таких добрых и хороших людей, людей, которые никогда не пробовали выжить в чужой среде и даже не очень хорошо выживают в своей. Которые никогда не ничего не начинали с нуля. Как она.
– Просто некоторым людям везет, – проговорила она. – Везет и у них появляется одно такое большое, большое желание, которое перевешивает остальные. Например, стать кем-то. Обычно, по большому счету, это лишено смысла, просто форма подражания чему-то: успехам, стилю жизни, возможностям. Но если человек в состоянии подчинить этому многое, жизнь кажется ему осмысленной и подчиненной его воле. Но сам человек не меняется.
– Как не меняется? – вытаращила глаза Настя. – Но мы же живые. Живые люди! И все выросли разными. Разве нет?
– Опыт! – отчеканила Люба. – Опыт и только опыт делает каждого человека индивидуальным. Вспомните, как быстро находят общий язык дети. Но идет время, и люди все хуже понимают друг друга. Ведь так?
– Послушай, но в нас же что-то есть, – не сдавался Иван. – Ну, помимо опыта.
– Есть, – согласилась она. – В том и трагедия, Вань. Тот человек, о которым мы еще помним в детстве, который в нас вошел то ли с воспитанием, то ли с молоком матери – не знаю – этот человек на самом деле жив! Точнее полужив. Вспомните старые сказки про оборотней. Как Иванушка стал козленочком, или красный молодец превратился в медведя. Человек, настоящий взрослый человек находится в таком же положении. И когда он хочет что-то сказать, получается, что он только рычит или жалобно блеет, и никто, может быть, за исключением любимого человека, не догадывается, кто ты. Да, мы оторвались, научились говорить, мыслить, но… все это просто язык другого уровня, тоже некое рычание. Просто мы рычим не из-под медвежьей шкуры, а из своей человеческой личности, психической конституции, эго, и рычим словами, поступками. А наша сущность… она, может быть, намного выше всего этого. Но должна в этом жить. И ни я, ни наука, не скажет, кто превратил нас в этих животных.
Страшно? Да, страшно. Поэтому мы и ищем опору в фантазиях. Человек всесилен, вот только дайте ему накопить нужные знания! И тогда… А что? Что тогда? Или придумываем какую-то идеальную жизнь, которая ждет нас после смерти. Или утешаемся, что есть некто всесильный и всезнающий, кто нам поможет, и подчас всю жизнь ждем того, что в нашу жизнь вмешается эта справедливая и добрая сила, даст всем по заслугам, а нас самих несказанно наградит. Потому что это очень трудно – жить, зная, что тебе никогда никто не поможет. Кроме разве самого себя…
Вот так. Грустно? Грустно. Но надо смотреть правде в глаза. А когда так смотришь… Удивительно, но начинаешь даже больше любить людей. Ну, из-за их безнадежной ситуации, что ли. В конце концов, если во всем этом существует некий еще непонятый учеными замысел, он в том, чтобы чему-то нас научить. Таким вот непедагогичным методом, поместив в тюрьму собственной жизни. Стало быть, и вы, и я – мы чему-то учимся…
Ну, да, конечно… Я знаю, Вань, что ты скажешь. Есть другие объяснения. Такие последовательные и логичные картины мира, в которых человек представляется постоянно эволюционирующим существом, идущим по лестнице от животных к ангелам и архангелам. Но я считаю надеяться на вещи, которые мы не можем проверить, это малодушие. Малодушие и глупость. Да, Алекс считает как-то наоборот, но… может быть у него другой опыт. Возможно, он чувствует в происходящем какую-то логику. Даже сейчас. Я не знаю…
Я родилась в небольшом городе, мои родители – обычные простые люди. В семнадцать я приехала учиться в Москву, в двадцать семь – в Нью-Йорк. И там, и там я чему-то научилась. Но… это очень мало изменило меня. Все.
***
– Какая-то мрачная психотерапия, – расстроился Семен после нескольких секунд молчания.
– Я в это не верю! – присоединился Иван. – Потому что есть что-то высокое… Красота, гармония, музыка…
– Это… помогает людям приходить в более высокие состояния? – спросил Лорд Эйзя.
– Я бы сказала, просто отвлекает, – ответила Люба. – В лучшую сторону. Но необратимых изменений не производит.
– Такой человек лишен возможности совершенствоваться?
– Почему, нет. Он может копить знания, воспитать более мудрые и сдержанные реакции, решиться на рискованные и трудные вещи. Уехать в другую страну, поменять мужа или жену, но… он не может уехать от себя, изменить себя, понимаете? Он будет больше знать, говорить на другом языке… Но по большому счету жизнь для него не измениться. Да, есть куча очень интересных и по-своему эффективных вещей: психоанализ, гештальтд терапия, но и это не меняет сути. Он по-прежнему будет жить из своего физического тела и психической конституции. Он не станет иным. Не превратиться обратно в братца Иванушку, и не станет по-настоящему взрослым.
– Послушай, по-твоему, я не могу сделать свою жизнь лучше или хуже? – нерешительно возразила Настя
– Можешь. Богаче, беднее – да. Глупее или умнее – нет! И, ребята, не надо на меня так смотреть, – внезапно рассердилась Люба. – Разве я говорю, что все так совсем ужасно? Собака не может стать кошкой, что тут такого? И ты, Ваня никогда не станешь таким, как Семен, а Семен – ну… таким как…., – на ее лице появилась растерянность, – А где..? Где этот… Сергей? Он как раз хотел разобраться…?
Общество взволновалось. Было впечатление, что все заговорили разом, и Настю внезапно пронзил холодный как смерть ужас: Люба права.
Никаких сомнений, все так и есть. Это правда, и кроме этой ужасной правды ничего нет. И каждый из них ничего не может с этим поделать. Она сама, Люба, Иван, Максим с Марией Петровной, все, все, все – только набор правил, реакций и рефлексов, заложенных в них по капризу равнодушного холодного хаоса. Холодного, как ветер за окном.
Настя поняла, что мелко дрожит. Она не может, она не готова жить в таком мире. Это слишком сильная правда. Тяжелая, как броня, она обволакивала сознание, сковывала мысли в холодный неподвижный сгусток. Это правда, которая убивает, и ее надо быстро, быстро выбросить из головы.
Пока она окончательно не вмерзла в ее бесчувственность.
Даже если это правда.
Появился Сергей.
– Ух, ты, Серега, а мы думали, ты за дровами ушел, – обрадовался Семен. Он тоже все понимал, поэтому и пытался радоваться.
– Я? Нет, я просто в туалет. Там? Там я уже был! – в страхе отшатнулся тот от подобного предположения.
– Все мы там были, – скорректировала Люба.
– Но ушел только Алекс! – вырвалось у Насти.
– Может быть, он все-таки вернется? – неуверенно предположил Иван.
– Помоги ему Господь, – сказала Мария Петровна и перекрестилась.
Наступившую тишину никто не нарушил.
– Нет, это все-таки фигня получается, – прервал Семен затянувшуюся паузу. – Ванька прав. Люб прости, но все это гонево, – он шумно вздохнул и замотал горло шарфом.
– Они что, пойдут туда? – единственный глаз Дука, устремленный на Настю, выражал доброе, доброе любопытство.
– Пойдут. Конечно, пойдут. Вообще-то, какая разница…
– Полагаю, большая.
– А я думаю, что нет. Понимаю, было бы лучше, если бы мы все пошли спать, но, если все, что сейчас сказали, правда… Дук, понимаешь, если это правда, нам очень глупо чего-то бояться, – тихо ответила Настя. И поняла, что сейчас заплачет.
3
По вагону электрички медленно двигался человек в красивом твидовом пальто и нелепо перекошенной шапке-ушанке. Выбившийся наружу шарф, воротник, частично завернутый внутрь. Прижатый обеими руками к груди портфель был расстегнут, и из него беспокойно торчали газеты. Одна из них, с фотографиями членов политбюро ЦК КПСС упала, но странный пассажир не заметил этого. Он, видимо, был не в состоянии замечать что-либо. Сосредоточенный взгляд, смотрящий куда-то сквозь окна вагона, напряженные морщины на лице. Казалось вот-вот, и это произойдет – его мысли, наконец, найдут правильное направление, и он вспомнит что-то крайне важное, или, на худой конец, сформулирует какой-то очень глубокий вывод, найдет гениальное доказательство. Но шло время, проходя несколько шагов и останавливаясь, человек, преодолел уже половину вагона, а развязка так и не наступала. Только изредка его губы произносили что-то, а если взгляд случайно фиксировал сидящих в вагоне людей, странный человек, словно не понимая, как они здесь оказались, проводил рукой по лицу. И шел дальше. Снова смотря вдаль и бормоча обрывки каких-то своих напряженных мыслей.
– Ваша газета. Не теряйте.
– Ах… Да-да, точно, – изумился пассажир. И начал лихорадочные попытки открыть портфель. Который был уже открыт.
– Не теряйте, – повторил Василич.
– Да-да, конечно, – воскликнул тот, быстро запихнул газету в портфель и почти бегом вышел из вагона.
– Крезовый тип, – сказал тогда Алекс. – Какие умники его одного отпустили?
– Умники? – грустно улыбнулся Василич.
– А ты тоже заметил? У него умное лицо. Как у многих сумасшедших, по-моему.
– Как у тебя.
– А я здорово смахиваю на…, – начал было Алекс. И вдруг все понял. И, пораженный, застыл.
За окном бежали деревья. За деревьями бежали небольшие бревенчатые дома, сараи, огороды. Потом снова деревья. И вдруг все это ушло куда-то вниз, под колесами загромыхал металлический мост, и взгляду предстала уходящая на запад долина реки. Блестящая лента воды, простор колышущихся на ветру трав, и много, много неба!
Как просто. Поразительно просто. Почему он такой тупой, что никогда не замечал этого? Все мы: и он, и они – по-своему krazy. Мысль была не нова, кажется, Алекс где-то читал или от кого-то слышал нечто подобное. Слышал, но не понимал, не чувствовал, не въезжал. А ведь это, оказывается так – все люди каким-то сходным образом сошли с ума и живут погруженные в кокон своих мыслей, понятий и алгоритмов, совершенно не замечая, как все обстоит на самом деле. Почти как этот несчастный. Их мир – это то, что когда-то показали, чему научили, или всего лишь назвали другие. Какой ужас, ведь и он воображает, что все так!
«Как у тебя»…
Алекс посмотрел на людей, сидящих в вагоне и увидел. Он почему-то знал, что увидит именно это, тем не менее, увиденное, вызвало шок. Он увидел сомнамбул. Читающих, смотрящих в окно, спящих, играющих в карты. В их лицах ясно просматривалось то же самое, что было в том чудаке, погрузившимся в свой сумасшедший мир. С одной лишь разницей, что мир, в котором все они находились, он, Алекс, очень хорошо знал, а тот парень пребывал где-то в другом. Но все они, говорящие или молчащие, задумавшиеся или жующие, веселые или злые, были не здесь. Они смотрели и не видели, думали и не осознавали, слушали и не понимали. А на фоне всего этого сидел Василич и ободряюще улыбался.
– Вот видишь, можно посмотреть на все по-другому.
– Ни хрена себе, – изумленно проговорил Алекс.
Две дамы, сидящие рядом с ними, встревоженно посмотрели на него, и степень их сомнамбулизма усилилась беспокойством. Это беспокойство выглядело настолько глупо, что Алекс расхохотался.
– А говорят, это, – одна из дам пошевелила вздрагивающими пальцами у своего виска и устремила выразительный взгляд в сторону дверей тамбура, за которыми скрылся свихнувшийся пассажир в твидовом пальто, – Говорят это не передается…
И Алекс заржал во все горло.
Какой-то детина участливо положил руку ему на плечо. Это было трогательно. В лице детины мелькнуло что-то настоящее, каким-то неуловимым образом напомнившее собаку, отчего Алекс захотел обнять мощную шею этого жлоба, расплакаться, объяснить, почему ему так жалко этого человека…. Но Василич взял его за руки и вывел в тамбур.
Где они долго стояли и пили какое-то вино.
– Да, да, можно и так на все посмотреть, – соглашался Алекс, и они постепенно пьянели. А за выбитыми стеклами дверей начинался лес…
Удивительно, но тогда это прошло мимо. Впрочем, с другой стороны, совсем не удивительно. Что-то мешало ему анализировать эти странные вещи. Они смотрели и еще, и еще, – еще по-другому. В соответствии и этими взглядами, которые ему, как бы от скуки и для собственного развлечения, показывал этот невзрачный одинокий человек, мир менялся. Он становился ярким или безрадостно мрачным, леденяще страшным или неожиданно – изумляюще неожиданно – добрым.
А после этого они сидели на крыльце и пили дешевый портвейн. Или в доме. Или просто на ящиках за пивняком у станции. Почти никогда не говоря о чем-то серьезном. Странный взгляд на мир, рождавшийся благодаря Василичу, сменялся обычным опьянением. Опьянение проходило, и все становилось прежним. И Алекс никогда не задавал себе вопрос, зачем он это делает. Просто приезжал выпить, без всякого расчета. Или помогал Василичу по каким-нибудь делам в Москве, доставал книжки, какие-то нехитрые вещи. Сколько всего люди совершают, абсолютно не понимая, что и зачем они делают? Много. Подчас, все.
Но, стоп! Об этом следует подумать позже.
Алекс остановился. Перед ним возвышался довольно большой дом-башня, архитектура которого наводила на мысль, что это то ли исследовательский центр, то ли дорогая больница. Современные формы, большие темные окна, неяркое освещение на первом этаже.
Стоянка автомобилей была пуста и запорошена небольшим, ровным слоем снега. Только недалеко от дверей стоял увешанный фарами, багажниками и лесенками вседорожник с надписью «дежурный».
Алекс подошел к дому, отстегнул лыжи. Автоматические двери бесшумно пропустили его внутрь просторного вестибюля. Тепло, мягкий ковер, ультрасовременные светильники, вмонтированные в потолок. За небольшим белым столом сидел вахтер, и настольная лампа подсвечивала его посиневшее одутловатое лицо. Алекс доброжелательно кивнул ему, и вахтер ответил взглядом, в котором были зависть и грусть.
Он умер от удушья, почему-то подумал Алекс. Но сейчас было важно не это. Здесь есть что-то, что ему нужно найти. И нужно давно.
Лифт. Светодиод, мерцающий на четвертом этаже. Выступающая из стены башня часов, большой блестящий маятник. В подвале должно быть кафе и бар, но ни то, ни другое сейчас не работает – скоро полночь. Двери почти бесшумно раздвинулись, и в зеркале на противоположной стене кабины отразился человек в спортивном костюме, с бородой, на которой еще не растаял иней.
Алекс достал платок, протер им бороду и нажал на кнопку. Выходить на двенадцатом этаже запрещено, но ему придется выйти именно на двенадцатом. Ничего страшного, он вообще не должен знать, что это здание существует, а он здесь, поэтому какая теперь разница, на каком этаже остановится лифт?
Впрочем, он зря такой легкомысленный. Разница есть, и если он выйдет отсюда, если он просто уйдет, они этого не забудут. Они будут точно знать, где он здесь был, что там делал и о чем думал, и потом, когда они найдут его, то уже не выпустят из виду. И то, что они решат с ним делать дальше, не знает никто.
Длинный коридор, желтые стены, дежурное освещение. Днем эти коридоры наполняют мужчины и женщины. Они несут под этими потолками свои планы и проблемы, интриги, идеи, диссертации; свои вопросы и свои ответы, и – несмотря на то, что мало кто из них знает, зачем все это, – тогда, в те дневные часы эти коридоры живут. А теперь – спят, и эхо тех вопросов и ответов является их сном. Который он, Алекс, варварски нарушает.
В конце одного из коридоров мерцала сигнальная лампа, и стояла серая фигура солдата. К которому нельзя подходить. Алекс свернул, толкнул стеклянную дверь, прошел через холл лестничной площадки и вышел на противопожарный балкон.
Скрип нападавшего на балкон снега под ногами, морозный ветер. Алекс подождал, пока глаза привыкнут к отсутствию света, и осмотрелся. Внизу был лес. Он возникал из далекой темноты, в которой нечто еще более темное и таинственное рождало и его, и нависшее над ним холодное небо, и войском тысяч и миллионов заснеженных верхушек, преодолевая невидимые во тьме холмы и пересекая скованные льдом реки, подходил к этому зданию и обтекал его со всех сторон. А там внизу, где прожектор освещал автомобильную стоянку, на ступеньках ведущих к входу, стоял Мызарь со своим помощником и вел по домофону переговоры с охранником. Это означало, что другого выхода из здания нет.
Алекс плотно закрыл за собой дверь балкона и пошел обратно.
– Ты что, хочешь пройти туда?! – спросил серый солдат. Из-под удивления и неверия выступало презрение. И все та же зависть.
– Так нужно, – ответил Алекс.
Трофейный нож вместо магнитной карточки, мягкий щелчок электронного замка, большой зал с мягким ковром, железная лестница в середине зала. Он быстро шел мимо длинных рядов стеклянных стоек, за которыми пульсировали процессы, о которых лучше не думать. Компьютер с непомерно большим экраном, длинный стол с химическими реактивами, камера Гюйнтера, на крышке которой горела красная лампочка. А вот дверь, гладкая серая дверь, за которой проход.
Длинный полутемный проход между шкафов картотеки. Множество ящичков, которые никто не выдвигал, за исключением того, и вон того. Ящички были не заперты, Алекс выдвинул один из них и посветил внутрь фонариком. На дне ящичка лежали какие-то маленькие косточки, кусок ваты и долька чеснока. Странный запах, успел подумать он, и фонарик вдруг, ярко вспыхнув, погас.
Плохо, подумал Алекс и вышел обратно в зал.
У стены справа стоял стол, на котором лежал толстый кусок оргстекла. Среди картинок с кошками и собаками под стеклом лежал список местных телефонов. Алекс набрал номер, стоящий напротив названия «диспетчерская контроля», и в трубке послышался усталый мужской голос.
– Я выдвинул не тот ящик, – сказал Алекс.
– Странно, что так вышло, – удивился немного охрипший человек в трубке. – Зайдите в комнату тысяча двести двадцать два. Там можно выяснить.
Дверь в комнату тысяча двести двадцать два располагалась на том же этаже, но была обшарпанной, словно ее взяли в каком-то другом здании. За дверью горела большая синяя лампа, напоминающая те, что для стерилизации зажигают по ночам в операционных. Под лампой стояло что-то вроде зубоврачебного кресла.
– Садитесь, – устало вздохнула пожилая женщина с темно-серым картофельным лицом. И, когда Алекс сел, пристегнула его руки и ноги к креслу какими-то узкими ремнями и опустила спинку. – Думайте о сене, – буркнула она, и, устало вздохнув, нажала на какую-то кнопку.
Алекс успел заметить, что на женщине был цветастый байковый халат и одетые поверх него бусы. Затем откуда-то сзади выехал мощный свинцовый экран, и он почувствовал, что вместе с креслом проваливается куда-то в обволакивающую тьму.
Через пару секунд падение остановилось. Где-то справа был цветущий грушевый сад, в котором ярко светило солнце и тихо пели птицы, но этот сад отделял от него экран тьмы. Алекс присмотрелся. В саду был детский манеж, над которым склонилась добрая фея. Она раздавала находившимся внутри манежа детям, какие-то сладости, сопровождая это короткими пояснениями.
– Это тебе, – сказала она крупному толстому мальчику, в котором Алекс узнал Мишу, сына учительницы, жившей когда-то в соседнем доме. Миша развернул бумагу и увидел там вафли с белой начинкой. – Ты умрешь от белой еды, – пояснила фея голосом полным поучительности, грусти и сострадания.
Алекс понял, что нужно делать, и оказался в манеже. Фея обращалась к каждому из детей по очереди, к кому-то с огорчением и суровым порицанием, к кому-то с поддержкой, но дети, поначалу ожидавшие своей очереди с любопытством, услышав, каждый свой приговор, в ужасе отшатывались. Это было тяжело, потому что каждый раз, Алекс переживал этот ужас так, словно испытывал его сам.
– А ты умрешь от слез, – сказала фея мальчику, стоявшему рядом, и Алекс вздрогнул, словно эта фраза была обращена к нему.
– Ну, чего ты, – начал он утешать застывшего в ужасе соседа, чувствуя, как сам затягивается внутрь страха, поглотившего этого маленького человека.
Но что-то в происходящем показалось Алексу несправедливым.
– А я? – обратился он к фее, и понял, что оказался единственным из детей, кто задал вопрос сам.
– У тебя так не будет, – ответила она тоном учительницы, сообщавшей об оценке, выставленной не ей самой. Как бы давая понять, что с этой оценкой можно и не согласиться.
– А как? Как будет со мной? – потребовал Алекс, но свинцового экрана уже не было, он лежал в кресле, и кто-то отстегивал его ноги и руки.
– Ваш допуск, – произнес какой-то парень с лицом лаборанта, затем положил на стол, за которым перед этим сидела старуха в халате, длинный серый жетон с блестящей эмблемой, и, зевая, скрылся за ширмой, где, по-видимому, пил чай.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































