Текст книги "Сон о Кабуле"
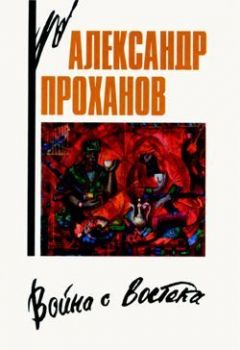
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Поражаюсь, – сказал он, желая побольнее задеть Долголаптева, – сколько можно паразитировать на былой красоте и величии? А кто будет свидетелем наших дней? Кто поймет сегодняшний грозный процесс? Ведь в прошлом были летописцы, свидетели, добывавшие свой материал, свои разведданные ценой кровавых усилий. Ты презираешь разведчиков, но и тогда были разведчики, которые шли с полками или впереди полков, писали свои разведсводки среди свиста стрел и мечей, и эти сводки назывались «Задонщиной», или «Сказанием о Мамаевом побоище», или «Богатырскими летописями». Преподобный Сергий синхронно с поединком Осляби и Пересвета получал информацию, считывая ее с троице-Сергиевских крестов-ретрансляторов. А ты с безопасного расстояния в три столетия хочешь написать о чужом величии, как о своем. Ты разглагольствуешь о тайне России, но ни разу не побывал на атомной станции, на нефтяной буровой или на подводной лодке в Мировом океане. Боишься железного, не освоенного культурой материала, о который ломаются не то что перья, но целые страны, политические системы. Вот поэтому я и ушел из ваших музеев и фольклорных кружков в разведку. И, поверь, не жалею об этом!
– Да у тебя, я вижу, целая философия собственной несостоятельности! – рассмеялся Долголаптев. – У тебя просто не хватило жизненных сил для творчества, и ты решил заменить его сыском. Зачем городить философию?
– Знаешь, – сказал Белосельцев, почти успокаиваясь, видя достижение цели – ненавидящее лицо Долголаптева, – для того, чтобы сохранить душевный комфорт в такое время, как наше, нужно быть большим эгоистом. Художник, как и пророк, погибает, касаясь жестокой действительности. А ты проживешь долго. Действительность от тебя далеко.
– Все это – дурная риторика. Неужели вы таким языком пишете свои агентурные донесения? Моя мысль проста. Ты бы мог стать писателем, ты им не стал. Мог быть отличным другом, и им не стал. Мог, наконец, стать прекрасным отцом и мужем, но и это с тобой не случилось. Кстати, недавно совершенно случайно встретил на улице Аню. Очень красива. Остановились на пять минут. Конечно же о тебе. Знаешь, она со мной согласна.
– Ты видел Аню? – вся его желчь, раздражение обернулись острым, похожим на испуг ожиданием. – Как она?
– Отлично. Она была не одна.
И такая неожиданная, непредполагаемая боль. Чувство своей неприкаянности. Аня стояла на зеленой горе, ветер от озера раздувал на склоне цветы, синий шелковый колокол ее платья. Он к ней подымался, хватаясь за сочные стебли, и, казалось, их возносит среди ветра, трав и цветов.
К ним подошел Гордеев, горячий от застолья и хмеля.
– Что же не идете к столу? Когда вы к нам в госпиталь приедете? Не ходите по мечетям и рынкам. Вы в мою мечеть приходите, в хирургию. На три тысячи километров вокруг нет такого оборудования. Ближайшая к Персидскому заливу. Так и напишите в своих статьях: «Электронная установка русских в районе Кабула». Или: «Русские рвутся к сердцу Азии». Или: «Русские перекрывают основные артерии». И мой портрет крупным планом у аппарата искусственного кровообращения. Эффектно? – он каламбурил, смеялся. Наклонился к сидящим, осмотрел их счастливыми хмельными глазами и сказал: – Моя Лариса, бывает, выглядит дура дурой. Но я ее люблю. Она все свое раздаст до последнего. Как и я. За это ее и люблю… Пойдемте, я вам покажу пистолеты. Карнаухов собрал коллекцию. Здесь в лавках можно купить изумительные старинные пистолеты, с серебром, инкрустациями. И русские самовары с гербами!
И он увлек Белосельцева и грузного, неохотно поднявшегося Долголаптева в соседнюю комнату, где висели малиново-темные ковры и на них почернелые пистолеты, инкрустированные перламутром и костью.
Глава тринадцатая
С большим опозданием на виллу приехал Чичагов. Извинился, сослался на коктейль в посольстве, где принимали новое партийное руководство Кабула. Двигался среди гостей, зоркий, сдержанный, любезный, усвоивший особый поверхностно-деликатный стиль общения, говоря каждому на ходу два-три незначащих слова, прислушиваясь, не мелькнет ли в ответах интересующая его информация.
– Завтра днем мы с вами едем в ХАД, – он подошел к Белосельцеву, бегло пожимая ему руку. – Нимат повезет нас в тюрьму Пули-Чархи. Вы хотели посмотреть на пакистанских агентов. Кажется, у них есть что-то новое по Дженсону Ли. Я заеду за вами в двенадцать, – и он отошел, уже шутил с женой Гордеева Ларисой, и та, запрокинув свое милое курносое лицо, смеялась.
– Можно сесть с вами рядом? – услышал Белосельцев.
Женщина, та, что утром с работником МИДа уехала на «шевроле» и недавно танцевала с Гордеевым, и он, Белосельцев, любовался ее отрешенным кружением, а потом забыл о ней, ввязавшись в никчемный и разрушительный спор с Долголаптевым, – молодая женщина стояла рядом с диваном и кивала на свободное место. Не дожидаясь ответа, села. Край ее платья зеленой складкой лег на колено Белосельцева. Неторопливо и просто она убрала эту ненароком залетевшую складку.
– Я смотрела на вас. У вас очень расстроенный вид. Что вас так огорчило?
Вопрос в своей простоте и искренности был ненавязчив. Белосельцев был ей благодарен. Вдруг подумал, что все это время, все эти дни и недели, он только и делал, что о чем-то других выспрашивал, хотел узнать о чужих состояниях и мыслях, и ему отвечали. Но никто ни разу не спросил его, кто он такой. Как живет. Что в нем болит и тоскует. Что потерял, что обрел. Он и сам у себя не спрашивал, был отделен от себя самого гибкой стальной мембраной своего интереса к другим. А она подошла и спросила.
– Я видела, этот человек, который сегодня прилетел из Москвы… Он вас искал, дожидался… Что-то вам такое сказал недоброе… Неприятности дома?
– Да нет, – смутился Белосельцев, не готовый ей отвечать. – Дома не может быть неприятностей. Дома-то, собственно, нет… Так, друг старинный… Запоздалое объяснение в любви.
– Я вас вижу иногда в отеле. Обычно у вас лицо такое непроницаемое, даже надменное. Ничего на нем не прочтешь. А сейчас была такая минута, что вы стали похожи на обиженного ребенка. Вот я и подошла. Ничего?
– Когда же вы успели заметить мое надменное лицо? – усмехнулся Белосельцев. – Ведь вы идете, глаза в пол, ни на кого не смотрите. Все внимание – своему боссу. А он, как наставник, внушает вам что-то про букву «би», которую не выбивает машинка. А вы на ходу послушно киваете головой.
– Ну вот нарисовали болванчика какого-то! – засмеялась она. – Он не босс, а милейший интеллигент и добряк. Ухаживает за мной, как за дочерью. Печется обо мне. Он очень крупный дипломат, я его почитаю. Это внешность такая обманчивая.
– Верно, обманчивая, – согласился Белосельцев. – А знаете, как я о вас подумал, когда сегодня в отеле увидел? «Цаца, – подумал я. – Цаца в целлофане».
– Очень мило! – развеселилась она. – Меня зовут Марина. Можете меня так называть.
Они познакомились. Белосельцеву стало легко и свободно. Она освободила его. Простодушно, из самых простых побуждений, она отодвинула металлическую мембрану, мешающую ей разговаривать, и спросила, кто он такой, что его огорчает и мучает. И этим положила конец его огорчениям, освободила его.
– Чем же вы занимаетесь? – Белосельцев всматривался в ее молодое, свежее, с гладкой прической лицо, стараясь понять, какого цвета у нее глаза. То ли серо-зеленые, но, быть может, платье отсвечивает. То ли карие с золотом, но, быть может, отблеск камина. – Видно, вы тоже дипломат высокого ранга?
– Я секретарь-переводчица. Стучу на машинке. Окончила университет. Знаю пушту и дари. Думала, приеду в Кабул, буду целыми днями смотреть на ковры, минареты. А вместо этого сижу взаперти, строчу протоколы и справки. Вы правы – «цаца».
– Ну это я тогда, когда вас не знал, – смеялся Белосельцев. – А теперь вы Марина.
Они танцевали под тихую музыку в мягких золотистых потемках. Приближались к камину, и тогда от поленьев веяло жаром и дымом. Удалялись к окну, и на них из открытой рамы дули легкие сквознячки. Сквозь двери соседней комнаты он видел разглагольствующего Долголаптева. Гордеев сняв со стены длинноствольный пистолет, целил в люстру. Кто-то из гостей разливал виски. Чичагов, как мастер коктейлей, разносил тяжелые стаканы со льдом. Но они уже не интересовали Белосельцева. Он осторожно обнимал приподнятые женские плечи. Ее жизнь, для него не открытая и таинственная, недоступная в своем прошлом и будущем, была у него в руках. Он бережно касался ее, не испытывал влечения, а одну благодарность. Думал с болью – и эта благодарность исчезнет, едва умолкнет музыка, и они разойдутся.
– Камин немного дымит, вам не кажется? – спросила она, когда кончился танец.
Они вышли на воздух через стеклянную дверь. Свет фонаря падал на дорожку, на талый снег, на белую стену с колючей тенью роз. Над стеной в черноте морозно и крупно мерцали звезды. Переливались разноцветно, превращались в цветную росу далеких созвездий и резко исчезали там, где в небо врезалась гора. Если пристально вглядываться, вершина горы начинала лучиться, синела высокими ледниками.
Ночь. Кабул. Огненный незнакомый орнамент перламутровых азиатских звезд. Запах высоких снегов и невидимых тихих дымов, текущих над людскими жилищами. Едва знакомая женщина у куста зимних роз. И внезапная сладкая боль, и смятение, ощущение этих секунд у колючих теней на стене, как драгоценных живых частичек, прилетевших из мироздания, каждая из которых таит в себе возможность чуда, глубину и неотвратимость судьбы. И стоит сделать шаг, обнять эту женщину, прижаться губами к ее теплым бровям, и после этого начнется для них обоих огромная, долгая жизнь, с любовью, мукой, рождением детей, увяданием и старостью под этими вечными звездами, в этом таинственном мироздании. Он медлил, и крохотные мерцающие частички, как семена Вселенной, улетели туда, откуда явились, – в перламутровое морозное небо.
– Здесь холодно, – сказала она. – Замерзла… Пойдемте…
Они простились с хозяевами. Подкатили к отелю. Белосельцев поставил машину на темном дворе, под деревьями, где утром было так ярко и солнечно, под чинарой на ковре сидели два старика и его посетила утренняя, похожая на предчувствие радость. Сейчас в сквере было темно, дерева не было видно, с гор дул ледяной ветер.
Смущенный, печальный, не понимая своих печалей и переживаний, Белосельцев проводил Марину на этаж, пожелал ей спокойной ночи.
Не зажигая света, задернул шторы, чтобы не осталось щелей. Повернул выключатель. Оглядел отчужденно просторный пустынный люкс с едва заметными следами обитания. Полуоткрытая дверца шкафа с костюмами. На мраморном столике стакан с кипятильником. Кулек с развесным, купленным в дукане чаем.
Снял пиджак и долго стоял, рассеянно прислушиваясь к редкому шелесту ночных машин. Вымыл стакан. Наполнил водой. Вскипятил. Кинул щепоть заварки. Наблюдал, как окрашивается сверху вниз кипяток, размокают и тяжелеют чаинки, опускаются на дно. Пил чай, отдувая от края чаинки, и снова неподвижно сидел, прислушиваясь к звукам на улице. И к чему-то еще, в себе самом, слабо звучавшему.
Среди истекшего дня, в не замеченный им момент, что качнулось в душе. Легкое смещение всего. Легчайшее выпадение из фокуса с двойным, сместившимся изображением. И вот к концу дня мир начал двоиться, не сильно, едва ощутимо, готовый вернуться в фокус. Он дорожил этой размытой затуманенной двойственностью, в которой присутствовало таинственное, не учтенное изображением пространство, куда можно было нырнуть и исчезнуть. Эта возможность была загадочным резервом, на случай несчастья, жестокой болезни и даже смерти. Можно было ускользнуть и пропасть, если боль и страдание, пуля или орудие палача приблизятся слишком близко. Тогда – разбежаться и с разбега, как в темную реку, нырнуть в этот малый зазор в раздвоенном распавшемся мире.
Он старался вспомнить, в какой момент сегодняшнего прожитого дня с ним это случилось. Андре Виньяр, французский разведчик, упомянувший об агенте Ли. Англичанка Маргарет с заплаканным несчастным лицом. Или афганец-солдат у желтой стены Дворца, окруженный сиянием гор. Или контакт с Долголаптевым, его упоминание об Ане. Или случайная секунда с чужой незнакомой женщиной среди звездной карусели и холодных сладковатых дымов. С чего началось смещение?
Он коснулся иной, оставленной жизни, казалось, навсегда погребенной, которая за давностью лет погрузилась на дно, спрессовалась там, как донные отложения, в которых, как древние раковины, отпечатки исчезнувших трав и существ, таились образы детства и юности, дорогие забытые лица. Будто кто-то с поверхности моря опустил на дно хрупкий сверкающий бур и извлек на поверхность пробы донного грунта. И вдруг у него в руках псковский перламутровый черепок с изображением цветка, Анин цветной поясок, висящий на спинке стула, край стола с горящей свечой, молодые озаренные лица, поющие рты, слова затихающей песни.
Тот давнишний, состоявший из неуловимых секунд и мгновений перекресток, когда он оттолкнулся от этой красоты и ушел в другую сторону, в иное направление, избрав себе иную жизнь и судьбу. А эта, все еще близкая и любимая, стала отдаляться, туманиться, как упавшая в воду золотая монета. Расплывалась и меркла, словно солнечный зайчик, тускнела, темнела, погружаясь на дно, превращаясь в донный осадок.
Чем оно было? Почему отодвинулось? Почему заслонилось другой судьбой и задачей? Как соотносится он, офицер разведки, сидящий в кабульском отеле среди патрулей, диверсантов, агентов чужих разведок, с тем человеком, что когда-то бежал под шумящим стеклянным ливнем, то в черных шелестящих дубах, то в пахучей желтеющей ржи, то в скользкой лесной колее, проросшей голубыми цветами? Кто он, исчезнувший, добывавший сокровенное знание среди песен, икон, любимой природы? Кто он, добывающий развединформацию среди мятежей, военных колонн, стычек и тюремных допросов?
Он откинулся на диване, закрыл глаза. С тончайшим сладким мучением погружал в себя острый сверкающий бур, извлекая все новые и новые пробы.
Он спускается по холодной росе мимо черной Покровской башни. Река Великая, бархатно мягкая, в ночных ароматах. Бросок с тихим плеском. Его длинное гибкое тело, теряя вес, скользит в глубине по течению. Восхищенным духом на дне реки, он ведает жизнь прибрежных трав, уснувших рыб, притаившихся сонных птиц. Стиснув веки, видит фрески на стенах соседнего храма, крупицу золота, уцелевшую на старом кресте. Он чувствует, как в той же воде и реке, удаленная от него, купается молодая женщина, ее ночные блестящие волосы, прилипшие к белой спине. И такое счастье, всеведение, такое слияние с миром. Израсходовав свой глубокий вздох, вырывается на поверхность. Шумный фонтан воды, размытые звезды, предчувствие счастья и чуда.
Вот идет по горячим, растущим на пустыре лопухам, на звук шмелей, на запах влажной земли, на зов невидимого, его ожидавшего дива. Шагнул, и открылся черный раскоп, на дне его, среди белокаменных старых фундаментов, деревянных полуистлевших настилов, – девушка. И такое вдруг знание о ней, об их общей судьбе, о стремлении их жизней в грядущее, сквозь судьбы детей и внуков, в удаленную, не принадлежащую им бесконечность. Такое прозрение, до обморока. Стая стрижей сорвалась с высоких крестов, пронеслась со свистом, словно высекла и умчала мгновение.
Видения, как маленькие светила, вставали, ослепляли Белосельце-ва. В каждом из них, как в сверхплотной частице Вселенной, таилась бесконечная, свернутая плотно спираль, которая, если ее распрямить, выстраивалась в ослепительную возможность жизни, в неограниченную, озаряющую мироздание судьбу. И все они, на мгновение возникнув, гасли, как неоплодотворенные икринки, в которых умирал навсегда зародыш.
Он сидел на диване в необжитом кабульском номере в ожидании комендантского часа. Разделся и выключил свет. Отбросил штору. Улица была черной и тихой. Ни единой машины. И в ночной пустоте, в отдалении, разнося по городу кремневый скрежет и лязг, застучала танкетка. Приближала свой бег. С внезапным грохотом, вынося на башне ослепительный белый прожектор, разрубая лучами тьму, пронесла свое узкое заостренное тело боевая машина пехоты. Настал комендантский час.
Белосельцев засыпал. Привычно, невидимым нажатием темных лакированных кнопок отключал автоматику мозга. Включал автоматику сна. «Калашников» в руках у охранника. Какие-то цветы на горе. Какая-то женщина, уходящая по коридору отеля.
Глава четырнадцатая
К обеду за Белосельцевым должен был приехать оперативный работник ХАДа Навруз, взять его с собой в управление, где они обсудят план джелалабадской поездки. До обеда оставалось время, и Белосельцев заехал в посольство, чтобы сбросить шифровку в Центр, а заодно получить от пресс-атташе свежие номера индийских и пакистанских газет. Он хотел прочитать материалы, где рассказывалось об усилиях пакистанской разведки по развертыванию вдоль афганской границы тренировочных лагерей. Он рассеянно шел по посольскому двору к автомобильной стоянке, подбрасывая на ладони ключи. И вдруг увидел Марину, не сразу вспомнив ее имя, с гладким, блистающим, как ему показалось, лицом, на котором глаза, увидавшие его, засветились изумленно и радостно. Он почувствовал ее приближение, как плотную бестелесную силу, коснувшуюся его щек, плеч, груди.
– А я увидела вашу машину и караулила вас. Мне нужно в город. Думала, кто бы подвез. Ну вот, на ловца и зверь бежит, – сказала она просто и весело.
– Иду и чувствую себя зверем. Думаю, где же ловец на меня! – ответил он ей в тон, шутливо.
– Шеф меня бросил на произвол судьбы. Сказал, что заедет, и нет его.
– Он плохо с вами обращается. Придется мне выкупить вас у вашего шефа.
– Попробуйте, если хватит денег. А пока что мне надо выкупить изюм, орехи, рахат-лукум в одном недалеком дуканчике. Вы меня подвезете?
Он не вспоминал о ней целое утро, но, оказывается, их вчерашняя встреча осталась не в памяти, а в бессознательном, сладком и тревожном предчувствии новой встречи, которая обязательно должна была состояться. И вот состоялась. Вчера, в минуту его слабости, она подошла к нему, увела от людей под перламутровые звезды, к белой стене, на которой застыла колючая тень мерзлой розы. Она оказала ему услугу, помогла пережить несколько горьких больных минут. И теперь, благодарный, он хотел чем-нибудь ей услужить.
Они ехали по звенящему, гремящему Кабулу, который казался туго натянутым звонким бубном, раскрашенным аляповато и ярко, в два цвета. Красный склон горы Асмаи, глиняные стены, медные лица, смоляное дерево лавок, оранжевые апельсины и груды орехов – земное раскаленное вещество. И синее сверкание небес, голубые высокие льды, лазурные купола, прозрачный дым от жаровен, – вся весенняя поднебесная высь.
– Ну как замечательно, что я вас встретила! – радовалась Марина и его приглашала радоваться. Он кивал, обгоняя размалеванный неуклюжий автобус в блестках, картинках, наклейках, с висящим в дверях мальчишкой. И ему вдруг захотелось узнать, как она жила там, в Москве, каков ее дом и семья, есть ли муж, как сложилась ее жизнь и судьба. Что там таится за этим веселым милым лицом, оживленными, отражающими город глазами, то голубыми, то золотистыми. Хотелось повыспросить у нее, но не с той пытливой и осторожной вкрадчивостью, с какой выспрашивал у военных, разведчиков и политиков, по крохам собирая и дозируя информацию, а бескорыстно узнать о ней.
Они проезжали вдоль скорнячных рядов. В дуканах висели кожаные шубы, опушенные белым овечьим мехом. Мохнатые волчьи и лисьи шапки, как свернувшиеся клубком звери. Содранные во всю ширь, с растопыренными когтистыми лапами, словно в прыжке, шкуры горных барсов. Скорняки сидели за стеклянными дверцами, укутавшись по горло в одеяла, среди легкого покачивания мехов, дубильных и кожаных запахов, меховых лоскутов и обрезков. Лица их кирпично краснели из глубины полутемных лавок.
Медленно катили вдоль ковровых рядов, черно-алого великолепия. В глубине малиновых, озаренных дуканов, как в красных резных фонарях, застыли бронзовые лица торговцев. Мелькнуло полированное дерево ткацкого станка с натянутыми струнами, похожего на большие гули.
Мальчик в тюбетейке ловко на них играл, пропуская огненную шерстяную струйку. Торговцы, напрягаясь от тяжести, выносили на улицу тяжелые рулоны сотканных ковров, раскатывали их на проезжей части под колесами машин. Машины медленно, бережно ехали по коврам, разминая в них узлы и неровности, придавая им эластичность и мягкость.
– В Кабуле я уже месяц, – говорила она, – все хочу побродить по лавкам. Мечтаю побьшать в домах, в семьях. Узнать, как они живут, как справляют свои праздники. Как дарят подарки под Новый год, пекут хлеб, ткут ковры. Хочется увидеть их скачки, стрельбы, свадьбы. Послушать их песни, сказы, молитвы. Все, о чем знаю по книгам. А получилось – целыми днями в офисе, барабаню на машинке какие-то циркуляры и дипломатические ноты, а вечерами сижу в отеле, как затворница… Вот здесь, если можно, налево. Здесь будет дуканчик…
Чикен-стрит напоминала витрины этнографических коллекций. Лошадиные, из тисненой кожи сбруи, высокие ковровые седла с медными стременами. Пистолеты, усыпанные перламутром и узорной костью. Длинные, тусклостальные мушкеты с толстыми ложами и округлыми литыми курками. Прямо на рогожах рассыпаны монеты, почернелые, медные и зеленые, среди которых можно найти арабские и индийские деньги трехсотлетней давности и екатерининский толстобокий пятак. Высились горы латунной посуды – кубки, чаши, тазы, огромные, с мятыми боками чаны, и среди них начищенные, пульсирующие светом, как купола, тульские самовары.
Белосельцев счастливо погружал взгляд в разноцветные ворохи отслуживших предметов, отстрелявших, отзвеневших, откипевших над кострами кочевий, несущих память о людях, чьи кости покоятся в красноватой земле под блеском вечерних снегов. А ему, Белосельцеву, досталось только скользить глазами по этой трехструнной, с лопнувшей декой, домбре, седой от прикосновений певца.
Они вышли из машины. Миновали многолюдный, сочно-душистый прогал Зеленого рынка, мокрые лотки со свежей, отекающей слизью рыбой, продернутые дратвой гроздья перепелок с крохотными пушисто-рябыми тушками, груды оструганной ребристой моркови, постоянно поливаемой водой для блеска и свежести, охапки зелени, где каждое луковое перо отливало металлической синью. Торговец запускал вглубь трав голые по локоть руки, бережно встряхивал зеленую копну.
– Вот здесь еще немного пройдем! – Она наслаждалась зрелищем, звуками, запахами, увлекала его за собой.
Он вдруг почувствовал счастливое головокружение, словно пространство, его окружавшее, раздвинулось, стало светлей, шире, и в этом пространстве была она, охваченная едва заметным свечением. Это свечение расширялось, проникало в соседние лавки с зеленью, в глинобитные стены с маленькими оконцами, в окрестные улочки с бегущими торговцами и разносчиками плодов, в склоны и откосы горы, с приклеенными лачугами. Огромный азиатский город в скопищах рынков и торжищ, с мечетями, мазарами, с хаотичной разноликой толпой вдруг утратил свою хаотичность, обрел осмысленную форму и план, расширяясь от центра к далеким окраинам, кишлакам и безлистым красноватым садам. В этом центре огромного города была она, окруженная таинственным свечением. Она стала на мгновение его центром, дала ему новое название и смысл.
Это длилось секунду и исчезло, оставив в нем счастливое недоумение.
– Еще немного пройдем, – говорила она.
Они обходили маленькие тесные лавочки под линялыми разноцветными вывесками, уставленные жестяными коробками, целлофановыми пакетами и кульками, пахнущими сладостью, горечью, тмином, корицей, гвоздикой. Стены, прилавки, одежды дуканщиков – все было пропитано стойкими ароматами пряностей. У красивого ленивого индуса с курчавой бородкой, в сиренево-твердой чалме она купила банку кофе и фунтик развесного хрупко-черного чая, вдыхала из него запах скрученного сухого листа. Дала понюхать Белосельцеву, что-то весело и любезно объясняя торговцу, отчего глаза его заблестели чернильной влагой, а пунцовые губы под пушистыми усами сложились в тихую улыбку. В соседнем дукане, у коричневого длиннолицего узбека, она купила колотые грецкие орехи и жареные хрустящие ядрышки миндаля. Не удержавшись, начала тут же грызть, указывая пальцем дуканщику на корзину. Тот поддел совком синий сухой изюм, ссыпал с шорохом на весы. Плюхнул гирьку. Снял зеленую, окисленную снизу и стертую сверху до блеска чашу. Наполнил кулек. У краснолицего таджика в каракулевой шапочке, разговорив его до широкой белозубой улыбки, она купила рахат-лукум, белые из сахарных нитей лакомства и большой пакет апельсинов, вручив его Белосельцеву. Белосельцева забавляла деловитость и нетерпение, с каким она тормошила кульки, укладывала свое богатство на сиденье.
Рядом на лотке молодой торговец в пышной белой чалме продавал яблоки, огромные, красно-золотые, наполненные внутренним медовым светом. Белосельцев выбрал самое большое, тяжелое, благоухающее, с глянцевитыми выпуклостями, с сочным живым черенком и вялым коричнево-зеленым листком. Протянул Марине.
– На память о сегодняшней прогулке!
Она благодарно приняла подарок, прижала яблоко к щеке, и он любовался ею и красно-золотым яблоком и окружавшим их красно-золотым Кабулом.
«Какие там беспорядки? – подумал он мимолетно, глядя на горячую толпу, прислушиваясь к музыке, крикам мальчишек, автомобильным гудкам. – О чем говорит Навруз? Какой Дженсон Ли? Ни единого признака!»
Из темной подворотни, бугря под лохмотьями голую грудь, бурно дыша, шаркая голыми, в рваных калошах ногами, вывернул хазареец, толкая перед собой двуколку. Из двуколки торчали отточенные деревянные колья, и на них висела разрубленная говяжья туша. Обрубки ног, красно-белые ребра, шматки брюшины и жил. На железном крюке качалась отсеченная голова с кровавым загривком и вывернутым языком. Хазареец прошаркал мимо, блеснув на Белосельцева красными белками, обдав его духом парного мяса.
В отеле они расстались с Мариной и условились встретиться вечером в холле, навестить советника Нила Тимофеевича, который устраивал у себя в номере дружескую вечеринку.
К обеду за Белосельцевым пришла машина, но в ней был не сотрудник ХАДа Навруз, а Сайд Исмаил.
– Товарищ Навруз попросил меня придти тебя, взять в ХАД. Сказал, ты журналист, тебя нужно много возить, показывать. Товарищ Навруз очень занят, плохие люди Кабул пришли, хотят делать плохо. Сказал, вместе в Джелалабад летим, будем смотреть хороший школа, хороший учитель. Как крестьянин грамоту учит.
Белосельцев был благодарен Наврузу за то, что тот тщательно поддерживал его легенду. Был благодарен Сайду Исмаилу за его неизменную наивную опеку. Казалось, для Сайда Исмаила революция разделила народ не на классовых врагов и друзей, а на хороших людей и плохих, и в этом членении было много сентиментального и трогательного, не раздражавшего Белосельцева.
Кабульское отделение ХАДа помещалось в глубине безлистого розовато-голубого сада, и своими колоннами, овальным крыльцом, полукруглыми окнами напоминало русскую дворянскую усадьбу. Это внешнее сходство и внутреннее несоответствие породили в нем тревогу. Эта тревога и недоумение усилились, когда, проходя поддеревьями, он вдруг увидел странную колымагу на толстых деревянных колесах с твердыми спицами, дутыми резиновыми шинами и медными ступицами. Карета, украшенная разорванными красными лентами и полотнищами, напоминала передвижной цирковой балаганчик. Оклеенная и разрисованная изображениями птиц, деревьев, фантастических замков, напоминала волшебный сундучок с прозрачным слюдяным оконцем. Эту колесницу, запряженную маленькой бодрой лошадкой, видел Белосельцев день назад из окна отеля на шумном перекрестке, где худой полицейский в белых перчатках с трудом справлялся с бестолковыми экипажами. Колесницей управлял чернобородый цыган в мятой шляпе, а в стеклянном оконце мелькнуло любопытное лицо смуглой красавицы. Теперь пустые оглобли вяло уперлись в землю, дверь кареты была приоткрыта, и внутри виднелся ералаш перевернутых баулов и платьев, словно карета попала в аварию и в ней не стало пассажиров, возницы и послушной жизнелюбивой лошадки.
Пройдя сквозь череду автоматчиков, они оказались в тепло натопленной светлой комнате с низеньким, красиво инкрустированным столиком, на котором стояла каменная пепельница, склеенная из ромбовидных полудрагоценных камней. В фарфоровых вазочках уже поджидали их сласти, жареные орешки, изюм. Любезный молчаливый служитель угостил их горячим чаем.
Вошел Навруз, протягивая для рукопожатия длинные смуглые ладони. Теперь он был в афганском облачении. Вместо элегантного дорогого костюма и шелкового цветистого галстука на нем вольными воздушными складками развевались накидка и просторные шаровары. Он казался взволнованным, нетерпеливым. Белосельцев почувствовал, что их визит некстати, Навруз обеспокоен чем-то, недавно случившимся, и это нечто связано с распряженным, брошенным посреди двора экипажем, и та странная, охватившая Белосельцева тревога была не случайна, имела ту же природу, что и беспокойство Навруза.
– Ваша журналистская поездка в Джелалабад будет интересной, – говорил Навруз, поднося к губам краешек расписной пиалы. – Мы связались с товарищами, и вас встретят прямо на аэродроме. Сайд Исмаил будет вас сопровождать, а наши товарищи в ХАДе окажут вам полную поддержку.
– Мне бы хотелось посмотреть ситуацию на афгано-пакистанской границе. Побывать на Хайберском перевале и исследовать возможность инфильтрации пакистанской агентуры, – сказал Белосельцев. – Хотелось понять, как выполняется декрет об образовании и познакомиться с работой школ. К тому же, я надеюсь, что ваши люди покажут мне методы противодействия, препятствующие проникновению террористов, и я смогу принять участие в боевой операции.
Белосельцева не обременяло присутствие партийца Сайда Исмаила. Он был частью легенды, которая поддерживалась ровно настолько, насколько это не мешало профессиональному интересу разведчика. Ему было удобно облекать свой истинный интерес аналитика в пытливое любопытство ищущего репортера, появляющегося там, куда заказан путь разведчику, – в среду интеллигенции, духовенства, политиков. И Сайд Исмаил служил правдоподобным и необременительным прикрытием.
– Начальник джелалабадского ХАДа – мой большой друг, Надир. Вместе были Советский Союз, преданный, хороший товарищ. – Навруз подливал зеленый водянистый чай в пиалу Белосельцева. – Его брат Насим самый злой враг, бандит, ходит Пакистан туда – сюда. Нападает, стреляет, много наших людей убил. Надир берет «бэтээры», едет родной кишлак брать Насима. Насим мину на дорогу кладет, взрывает «бэтээр», брат ранен. Надир говорит: «Поймаю, сам буду стрелять, как врага!» Насим говорит: «Если возьму живой Надир, голову буду резать. Если мертвый, кину собакам». Отец, мать плачут, мулла идет к одному, к другому: «Вы братья, вы афганцы, зачем друг друга бить!» Они оба прогоняют мулла. Говорят: «Автомат – наш мулла!»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































