Текст книги "Сон о Кабуле"
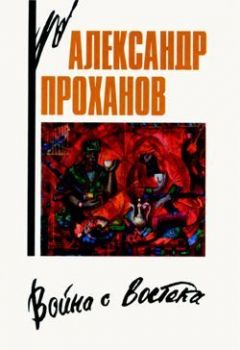
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Белосельцев, поворачивая лицо во все стороны, изумлялся и восхищался происходившим вокруг переменам. Далекая тусклая гора загоралась вдруг нежным зеленым светом, словно на нее из вечерних небес слетал ангел. Держал в руках изумрудный светильник, подымал его над собой, освещая склон. На соседнюю гору слетал розовый ангел, бесшумный, прозрачный, в развевающихся одеждах. В его руке качался розовый светильник, озарял вершину нежным стеклянным светом, от которого черный и грубый камень становился ледяным и прозрачным. Третий ангел, золотой, опускался на острый пик, колебался на нем, превращал его в слиток золота, и это золото текло по склонам, его становилось все больше и больше, и навстречу ему уже летел голубой дивный ангел, усаживался на темный утес. Горы пламенели, переливались, гасли и вновь загорались, словно ангелы перелетали с вершины на вершину, менялись местами, освещали друг друга светильниками, подавали друг другу знаки. Их полет, их игра, их таинственное появление на исходе дня изумляло Белосельцева. Они не замечали людей, были заняты только собой, танцевали в каменеющих меркнущих небесах. Вдруг все разом взлетели и исчезли, скрылись за туманным гребнем. Лишь одна островерхая далекая гора тлела малиновым светом, словно ангел на ней задержался, превратил ее в остывающий уголь.
Белосельцев беззвучно молил, чтобы ангел не улетал, обратил на него внимание, склонил к нему дивный лик. Поведал, что ждет его в чужой азиатской стране. Сохранил и сберег среди странствий. Гора погасла. Ангел ее покинул. «Бэтээр», шелестя колесами, мчался в темных горах.
Глава четвертая
Они остановились на ночлег у одной из придорожных застав. Расставили трактора по обочинам, под охраной пулеметов и пушек. Водители-афганцы вырыли лунки в земле, запалили неяркие камельки. Кипятили воду, ломали хлеб. В свете красноватых огней были видны их крупные носы, черные бороды, длинные осторожные пальцы, передающие хлеб.
Мартынов приказал солдатам вскипятить воду. Сидя на бушлате у резинового колеса «бэтээра», они жевали галеты, запивали кипятком, согревали свои застывшие на ночных сквозняках тела. Их сблизили эти сотни километров, проделанных по афганской земле. Сайд Исмаил был хозяин, но одновременно и гость, чувствовал свою зависимость от пулеметов, от запыленной брони, от глазастых, мерцавших в темноте тракторов. Белосельцев угадывал эту зависимость, и ему было неловко. Хотел исправить эту неловкость сердечным словом.
– У вас есть семья, дорогой Сайд Исмаил? Вас, наверное, ждут и волнуются?
– Мой семья Герат. Жена, две дочки и сын. Очень хороший девочка, мальчик. Давно не видал. Давно не ездил Герат.
– Хочу побывать в Герате. Много читал, видел фотографии крепости, Пятницкой мечети, мазара Алишера Навои!
– Герат хороший, красивый! – заулыбался Сайд Исмаил, благодарный Белосельцеву за возможность произносить имя родного города. – Поедем с вами Герат. Будете мой гость, самый дорогой. Когда я был Союз, был ваш гость. Очень хорошо относились. Советский люди хороший. Плохо говорю по-русски! – он виновато улыбался, показывая на свои оленьи сиреневые губы, и Белосельцев был доволен тем, что сделал афганцу приятное. Хвалил себя за эту невинную хитрость.
Они улеглись в «бэтээре» на днище, подстелив под себя тощие затоптанные матрасы, напялив все теплые, взятые в дорогу одежды. Прижались друг к другу боками и, укрытые броней, затихли. Белосельцев, чувствуя с одной стороны дышащего Нила Тимофеевича, а с другой Сайда Исмаила, заслонявшего его от железных, проникающих сквозь броню сквознячков, вспомнил перед сном одной общей мыслью – синий, вмазанный в глину изразец, мальчика в красной шапочке, увешанный блестками грузовик и ангелов, перепархивающих, словно бабочки, с одной горы на другую. И моментально уснул. Сон его был темный, без картин, как наброшенный войлочный полог, под которым медленно, собираясь из светящихся песчинок и точек, возникало сновидение.
Склон, каменистый, шершавый, с сухой красноватой травой. Склон перерезан дорогой, еще и еще раз спускавшейся к горной реке. Вода блестит, отражает тусклое солнце, поворачивает за соседнюю гору. На склоне пасется животное – одинокий белый ослятя. Опустил к земле голову, поедает сухие травы. Кругом ни души – ни селения, ни следа человека, словно этот ослятя поставлен здесь от начала времен, поджидает его, Белосельцева. И от этого тревога, желание приблизиться, разглядеть поближе животное. Он спускается по откосу к осляти. Тот увеличивается, отчетливо видны его белые бока, длинные чуткие уши, выпуклые крепкие губы, срывающие траву. От осляти исходит свечение, воздух вокруг головы и согнутой шеи наполнен серебристым сиянием. И от этого странно и больно. Он тянет руки к животному, помещает их в свет, видит свои худые, озаренные пальцы. И просыпается с колотящимся сердцем.
Черный короб стальной машины. Ледяные сквознячки. Спящие на днище люди. Исчезающее облачко света – остатки его сновидения.
Белосельцев, встревоженный, недоглядев вещий сон, лежал, чувствуя над собой глухие плиты брони. Его жизнь, отделенная от внешнего мира, была самодостаточна, предоставлена себе самой, несла в себе свое начало и свое завершение. Недавний сон, его таинственный вещий смысл, был рожден в сердцевине сознания, как зародыш в яйце. Стальное яйцо «бэтээра», вялый сонный белок его жизни, тягучий желток сознания, и зародыш будущей смерти, окруженный бледным сиянием, – пасущийся на склоне ослятя.
Ему стало тесно, страшно. Он задыхался, завинченный в стальной гроб «бэтээра». Приподнялся, стараясь не потревожить соседей. Стал шарить над головой, нащупывая люк и железные сочленения замка. Повернул рукоять, откинул тяжелую крышку. И в круглое отверстие люка опрокинулась на него сверху сверкающая ледяная струя, будто кто-то вылил на него черное блестящее ведро, полное звезд. Звезды окатили его, ослепили, он задохнулся от холода, неисчислимого белого, голубого мерцания. Стоял на коленях на днище, глядя в очерченную кругом бездну, и эта бездна дышала, росла, наливала в люк все новые созвездия. Стальное, закупорившее его яйцо лопнуло, и он вырвался в мироздание.
Белосельцев сидел на броне, держась за холодную росистую крышку люка. Запрокинув лицо, смотрел на азиатское небо, и оно, иное, нерусское, с иным орнаментом звезд, яркостью и силой светил, восхищало его. Было небом иной страны. Бесчисленными ударами звезд, прикосновением лучей, росчерком метеоров сотворяло под собой иную жизнь и судьбу. Иные люди жили под этими звездами в своих глинобитных жилищах. Иные молитвы звучали под этим небом в лазурных мечетях. Иные сказания помнили старцы, накрытые белой чалмой. Иные кости истлевали в древних мазарах под россыпями разноцветных созвездий.
Он сидел на броне, и небо Востока накрыло его своей мерцающей тайной, сулило бесконечное бытие и бессмертие.
Восхищенный, верящий, ожидающий для себя здесь, на Востоке, неизбежное, уготованное ему чудо, Белосельцев опустился в люк. Сквозь круглое отверстие из неба, как из зеркала, смотрело на него его собственное, отпечатанное в звездах лицо. Задраял крышку, на ощупь пробрался на место и лег, слыша близкое дыхание товарищей.
Он быстро заснул, отпуская от себя сочное сияние звезд, словно укрылся плотным войлоком. Под темной кошмой, в закупоренном яйце сновидений, из крохотных пылинок и точек стали возникать и светиться склон с красноватой травой, каменистый изгиб дороги, бегущая под солнцем река, и на склоне, окруженный туманным светом, пасется ослятя. Поджидает Белосельцева, поставленный здесь с незапамятных библейских времен.
С утра продолжали движение. Погода испортилась. Дул твердый холодный ветер. Лысые склоны, ободранные острые камни выглядели жестоко и дико. Дорога шла в горы, моторы натужно гудели, и сердце чувствовало высоту, начинало стучать. Казалось, горы не пускали колонну, возводили навстречу уступ за уступом, выставляли перед ней не-пускающие каменные ладони. Белосельцев ощущал сопротивление гор, не желавших его продвижения. Чувствовал отторгающую силу, запрещающую его появление. Нахохлившись, уцепившись за ствол пулемета, поворачивал ветру бок, видя, какая сизая, обветренная щека у Нила Тимофеевича, какой лиловый опухший от холода нос у Сайда Исмаила.
– Саланг задышал, – сказал подполковник Мартынов, озабоченно всматриваясь в синюю, окутанную гарью колонну. – Как еще нас встретит Саланг!
Ветер дул острый, колючий. Срезал с окрестных гор режущие каменные песчинки. Колол лицо, норовил ударить в зрачок. Вершины были мутные, дымились. В сером прахе Белосельцеву чудились остатки костей, крошки исчезнувших крепостей, ржавчина мечей и кольчуг, частицы позолоты. Все, что осталось от армий, караванов, нашествий. От паломников и царей, дервишей и купцов, разбойников и пророков. От всех, кто шел на Восток, оседая на окрестных горах тусклой каменной пылью. И он, вслед за ними, исчезнувшими, разведчик, офицер, путешественник, идет караванным путем.
– Саланг Дедушка Мороз живет! – пытался улыбнуться одеревенелыми губами Сайд Исмаил, словно извиняясь за этот холод и ветер, докучающий званым гостям.
Внезапно пошел снег, сразу за поворотом горы, словно здесь, среди белых склонов, он шел всегда, и они покинули область красной колючей пыли и въехали в мир белого влажного снега. Он падал густыми хлопьями, ложился круглыми купами на черные камни, и в камнях вдруг открывались черные очи, горбатые носы, открытые рты. Снег был на фуражке Мартынова, шапке Сайда Исмаила, кепке Нила Тимофеевича. Он запечатывал глаза Белосельцеву, словно ему надевали слепую повязку. Склеивал белым пластырем губы, чтобы он не мог говорить. Норовил залететь в рот, забить его тугим белым кляпом. Снег тоже был послан с гор чьей-то запрещающей волей. Колонна с трудом прожигала снегопад горячим рыком моторов, плавила его на синих капотах тракторов, на зеленой броне «бэтээров».
– Слепота такая, как бы в пропасть не съехать! – опасливо сказал Нил Тимофеевич, пожалевший, что оказался вдали от дома, от проверенных надежных дорог. Вручил свою жизнь молодому, в танковом шлеме водителю, который, включив огни, рывками двигал машину в непроглядной метели.
Снег перестал, словно подняли ввысь белый пахучий занавес, и они снова оказались среди камней и откосов. Эти откосы теперь были глыбами стекла, сверкали на тусклом солнце. Красные граниты, зеленые валуны, рыжие песчаники были в коросте льда. Бетонка извивалась стеклянной струей, и машины скользили по ней, сползали к обочинам, наезжали одна на другую. Колонна ломалась, сплющивалась. Водители выскакивали из тракторов, кричали, махали руками. Мартынов зло кричал, сжимая тангенту. Рассылал команды, проклятия. «Бэтээры» подруливали к буксующим машинам, брали их на трос. Сами буксовали, елозили. Будто кто-то невидимый хохотал над людьми, лил под колеса скользкое стекло, покрывал дорогу тонким сверкающим льдом. Вышло солнце, растопило лед. Повсюду текли ручьи, слепили глаза. Машины снова почувствовали колесами шершавый бетон. Выстраивались в колонну, продолжали движение.
У туннеля Саланг, двойной дыры, пробитой в граните, была пробка. Скопились войска, крытые брезентом фургоны, цистерны наливников, КамАЗы с зарядными ящиками, разрисованные короба афганских автобусов, платформы с тягачами, на которых, развернув назад пушки, стояли танки. В дырах туннеля выл ветер, летела черная гарь. Регулировщики в красно-белых касках ошалело махали жезлами. Как погонщики, направляли в туннель клубящиеся железные стада. Машины с ревом уходили во тьму, затаскивали за собой дым, проталкивались сквозь гору, набивали ее сталью, снарядами, авиабомбами. Казалось, вот-вот гора взорвется, поднимется на дыбы, разлетится в разные стороны страшным ударом.
В эту узкую горловину из одной половины земли в другую протискивалась война. Огромная, непомерная, в узком туннеле, сжималась в сверхплотный жгут, пронизывала гору как угольное ушко. По другую сторону вновь расширялась, распускалась дымным розовым облаком, из которого вылетали ввысь самолеты, расползались танки, разбегались во все стороны пехотинцы.
Так чувствовал Белосельцев этот горный перевал, каменный туннель, в который предстояло ему нырнуть. Множество людей с напряженными лицами смотрело в клубящийся черный прогал, где исчезали машины, крутились гусеницы, мерцали рубиновые хвостовые огни. Ждали своей судьбы, гадали о своей доле.
И когда наконец их колонна двинулась и вокруг померкло, загудело, понесся рваный свистящий ветер, белый круг света стал удаляться, уменьшаться и гаснуть, Белосельцеву показалось, что в гудящую трубу над его головой ворвались, помчались, раскрывая секущие крылья, незримые духи войны. Обгоняли его, летели вперед, трубили о его, Белосельцева, приближении.
По другую сторону туннеля открылись перламутровые горы, розовые, застывшие у вершин облака, далекий синий ледник, как прозрачное стеклянное диво. Каменное притяжение хребта уменьшалось, дорога длинными изломами снижалась в долину, ущелье, по которому катила колонна, медленно нагревалось.
– Это что? Флаг? – Нил Тимофеевич крутил головой, показывая на придорожную груду камней, из которой торчала корявая палка с зеленой развеянной тканью.
– Такой могила, – пояснял Сайд Исмаил, оттаивая после высотной стужи. – Святой человек, старик. Народ приходи, молись.
Белосельцев провожал глазами отлетающую зеленую тряпицу, под которой почивали кости местного целителя и пророка, пропустившего их в заповедную долину Востока.
Откосы гор открывались перед ним, как страницы огромной книги. Кто-то медлительный, терпеливый, как школьный учитель, перелистывал учебник. Показывал то картину кишлака с лепными сотами домов и дувалов. То клеточки полей, зеленых, черных и красных. То корявый, возросший на уступах сад, безлистый, с оранжевыми плодами в черных суках. Внизу, под откосом, кипела река, бурлила на перекатах. Белосельцев заметил с брони омытый водою камень и присевшую на нем верткую птицу с хохолком и зеленой грудью. Ему вдруг захотелось сойти с машины, опуститься к воде, в перепутанные черные травы, пахнущие, нагретые солнцем. Достать сачок и, быть может, на этой зимней, прогретой солнцем земле поймать маленькую, черно-красную бабочку. Чтобы после, в Москве, раскрыть жестяную коробку, увидеть под лампой резные крылья, крохотные застывшие усики, твердое недвижное тельце. Вспомнить это ущелье, прилепившийся на круче кишлак и Сайда Исмаила с улыбающимися, мягкими, как у оленя, губами.
– Восток любит деньги, а понимает силу, – рассуждал подполковник Мартынов, продолжая вслух какую-то свою армейскую мысль. – Я в Киргизии служил, под Фрунзе. У нас в гарнизоне гражданский киргиз служил, на водовозке работал. За деньги попросишь сделать, пообещает, не сделает. А кулак покажешь, мигом исполнит! – Белосельцев рассеянно внимал его философии. Вниз под уклон двигалась синяя, нарядная колонна тракторов. Мимо, за обочиной, проплывал кишлак – высокие, крепко слепленные дувалы, гончарные купола, крохотные в стенах бойницы. Женщина в парандже двигалась по тропинке, покрытая с головой, в развевающейся пышной накидке. Белосельцев угадывал, что она молода, движения ее были грациозны. Он старался углядеть под тканью ее грудь, колени, сухие быстрые щиколотки. – Сюда ввести не одну, а две-три армии. Тогда будет полный порядок. Ни выстрелов, ни бузы. Восток понимает силу!
Выстрелы прозвучали внезапно из-за желтой стены кишлака. Сквозь рокот моторов, посвистывание ветра продолбили, прогрохотали винтовки. Белосельцев видел два дымка из бойниц. Ему померещился слабый металлический луч, скользнувший по стволу. Один из тракторов завилял, выехал из колонны, покатил не к пропасти, а к взгорью. Завалился в кювет и лежал там, крутя колесами, как перевернутый беспомощный жук.
Колонна, разорванная, потеряв интервалы, продолжала уходить. Перевернутый трактор крутил колесами, и в кабине виднелся недвижный, с отпавшей чалмой водитель.
– Пулеметчик!.. – орал Мартынов. – Где пулемет, твою мать!.. Лупи по стене!..
Разрывая воздух, выбрасывая из раструба пульсирующее пламя, прямо у виска Белосельцева забил пулемет. Заложило уши. По лицу ударили горячие тугие пощечины. Белосельцев прижался к броне, видя, как на желтой стене задымилась черта, проделанная очередью.
– Коробкам стоять!.. – командовал Мартынов по рации. – Работать по кишлаку!.. Группа поддержки, ко мне!..
Снизу, из-за выступа горы, вернулись два «бэтээра». Налетали на скорости, и их пулеметы начинали стрелять на ходу. Пускали в кишлак разорванные длинные трассы. Скрещивали их, разводили. Вбивали в купола и дувалы стальные штыри. Глина дымилась, ловила раскаленные сердечники. Эхо выстрелов трескуче летало в горах.
Пулеметы смолкли. Мартынов с автоматом спрыгнул на землю. К нему от «бэтээров» бежали солдаты.
– Прикрой!.. – приказал он пулеметчику. – Я им, сукам, башку расшибу!..
Он кинулся наверх к кишлаку, увлекая солдат. Белосельцев и Сайд Исмаил побежали следом. И мгновенная мысль на бегу: «Убьют!.. Вот сейчас убьют!.. Солнце, крутая тропа, и пуля в лоб!..» Эта мысль о смерти была страхом, и радостью, и молитвой, и молодым удальством, и верой, что он уцелеет. Без оружия, ударяя в тропу башмаками, он бежал за Мартыновым.
Солдаты добежали до рыжей глиняной изгороди, в которую была вмазана деревянная линяло-голубая дверь. Мартынов, воздев автомат, прижался спиной к стене, азартный и злой. Пулеметы «бэтээров» рвали солнечный воздух, пуская трассы над сирым кишлаком. Мартынов крутанул головой, показывая солдатам на дверь. Двое, грудастых, в панамах, набежали на дверь, ударили разом, вышибли ее с белыми щепками. Кубарем вкатились во двор, отпрыгивая в разные стороны, готовые поливать автоматами. Следом за ними в пролом втянулись другие солдаты, кинулся Мартынов и последними, безоружные, вбежали Белосельцев и Сайд Исмаил.
Двор был тесный, сухой, гладко выметенный. Посредине был сооружен очаг с висящим котлом и холодным костровищем. Возвышалось сухое, с ободранной корой дерево, отбрасывающее корявую тень до самого дома, до деревянной веранды, на которой лежали несвежие тюфяки и темнела открытая дверь, уводившая в дом. Под деревом, на низкой скамеечке, сидел старик, белобородый, с заросшим, как у льва, волосатым лицом, в скомканной рыхлой чалме и накидке, намотанной комьями на сутулые плечи.
Солдаты окружили старика, наклонив к его голове автоматы. Другие кинулись вдоль стены, сквозившей маленькими солнечными бойницами, откуда прозвучали винтовочные выстрелы. Третьи бросились к дому, и не входя, наставили оружие в темный проем дверей. Мартынов, потный, гневный, стискивая кулаком цевье автомата, надвинулся на старца:
– Кто стрелял?… Говори, башку расшибу!..
Старик не понимал, не реагировал на его гнев, на близкие, нависшие над его головой стволы.
– Говори, хрыч!.. Вздерну тебя на дереве, как собаку!..
Старик молчал, шевелил в бороде невидимыми губами, сквозь седину просвечивало его сморщенное, красное, как обожженная глина, лицо.
– Он не понимает!.. Он не стрелял!.. – Сайд Исмаил протягивал руки к Мартынову, словно умолял пощадить старика. Обращал свои ладони к солдатам, будто отодвигал автоматы от чалмы и седой бороды. – Уважаемый, – обратился он к старику на фарси, и Белосельцев, впервые за путешествие слышал, как говорят между собой афганцы, какое сочувствие и почтение звучат в словах Сайда Исмаила. – Из твоего дома стреляли из винтовки, и на дороге убит человек. Скажи, кто здесь был?
– Чего ты его упрашиваешь!.. Вздерну, как старого кобеля!.. – нетерпеливо топтался Мартынов, оглядывая двор и глухие стены, откуда, сквозь щели и дыры, могли прозвучать новые выстрелы.
– Здесь были чужие люди, – сказал старик, показывая пустые беззубые десны и мокрый стариковский язык. – Пришли пять человек. Всех, кто был, прогнали из дома. Сказали, кто не уйдет, убьем. Так нужно Аллаху. Мои ноги болят, не могу ходить. У них были винтовки «бор». Они стреляли и ушли туда, – старик вытянул из-под накидки длинную руку с черной, скрюченной пятерней и слабо ткнул в глиняную стену на другой стороне двора, за которой скрылись стрелки.
Белосельцев вслушивался в его речь, стараясь понять знакомые слова фарси, искаженные местным наречием и стариковскими шепелявящими губами. Сайд Исмаил перевел Мартынову, указав число пришельцев, марку старых английских винтовок «бор», умолчав о воле Аллаха.
– Кто такие?… Откуда бандиты? – допрашивал Мартынов, с недоверием, почти враждебно слушая Сайда Исмаила. – Если бы нашего солдата убили, повесил бы его, как собаку! А кишлак его вшивый сжег!.. Так ему и скажи!..
– Уважаемый, кто были эти чужие люди? – Сайд Исмаил не пропускал к старику жестоких угроз Мартынова, останавливал их на себе. Защищал старика своими учтивыми вопросами, полупоклоном, жестом длинных смуглых пальцев, которые прижал к груди. – Убили нашего человека. Добрый, мирный человек, – в голову, вот сюда! – он прижал к своему виску длинный коричневый палец.
– В кишлак приходят чужие люди с «борами». Их послал Ахмат Шах. Вчера было четверо, сегодня пять. Всех, кто был в доме, прогнали. Меня бить хотели, винтовку показывали. Я ходить не могу. Сказал им: «Пусть будет так, как хочет Аллах!»
Сайд Исмаил перевел Мартынову, опять умолчав об Аллахе. Подполковник терял интерес к старику. Зорко, тревожно оглядывал кромки дувала, деревянный навес крыльца, вход в глубь дома, откуда грозила опасность.
Белосельцев, пережив недавнюю опасность, азартное возбуждение бега, испытывал теперь новое, сложное, из множества переживаний, чувство. Силой оружия, под прикрытием вороненых стволов он ворвался в дом. Проломил хрупкую преграду, заслонявшую чужой очаг и порог. Проник сквозь запретную завесу, заслонявшую сокровенный уклад, недоступный постороннему взгляду. Он, чужак и пришелец, под защитой «бэтээров», посылавших в небо грохочущие очереди, оказался в центре мирка, куда в иное время путь ему был заказан. Война и насилие проложили ему дорогу. Оружие растворило двери. И он увидел то, что иначе было невозможно увидеть.
Это насилие, частью которого он был, смущало его, порождало чувство вины. И оно же, насилие, было для него инструментом познания, быстрым и экономным средством исследования. Насилие, как скальпель, разрезало покров, и в несколько первых мгновений можно было понять и увидеть, как устроены сокрытые органы, размещены сочленения и ткани. Запечатлеть их молниеносным взглядом, пока разрушение еще не накрыло их волнами боли и крови.
В углу двора были сложены разрубленные корявые поленья, уложены бережно и накрыты ветхой циновкой. Тут же стоял кетмень с отшлифованной рукоятью и кованым, отточенным острием. В другом углу, такой же аккуратный, покрытый, круглился стожок темного сена из высохших горных трав и там же прилепился к ограде лепной, с залысинами хлев, из которого едва заметно струилось живое тепло от притаившихся пугливых овец. В нише стены, словно на лежанке русской печки, валялось красное стеганое одеяло, стояла керосиновая закопченная лампа и лежала рукодельная, из деревяшек и тряпочек, детская игрушка. На деревянной веранде среди ветхих покосившихся столбиков было развешено женское белье – еще влажные, сочно-малиновые юбки, прозрачно-розовые рубахи и ленты, и эта присутствующая здесь женственность волновала Белосельцева. Там же, под навесом крыльца, висела плетенная из прутьев клетка и в ней, как цветной огонек, металась птичка.
Дверь в дом была открыта, наполнена смуглым сумраком, и если войти, то увидишь горницы, расписанные восточные сундуки, выложенную цветной шерстью кошму и какой-нибудь старый ржавый клинок на стене.
Насилие, которое провело их беспрепятственно во внутренний домик, могло провести их и дальше, в покои крестьянского дома. Но Мартынов крикнул солдатам:
– Отставить!.. Пошли отсюда!.. – повернулся к Сайду Исмаилу и, не глядя на старика, произнес: – Скажи ему, если б хоть кто-нибудь из солдат пострадал, я бы его тут же пристрелил во дворе! – повернулся и пошел прочь, опустив автомат, усталый и слегка прихрамывающий.
Саил Исмаил наклонился к старику:
– Уважаемый, пусть будет мир в твоем доме, а тебе сопутствует долголетье!
– Как захочет Аллах, так и будет, – сказал старик беззубым ртом, едва кивнув своей львиной заросшей головой.
Белосельцев, ступая за Саидом Исмаилом, покинул жилище. По склону спустился к трассе.
Колонна, разрозненная и смятая обстрелом, собралась и выстроилась вдоль обочины. Опрокинутый трактор был поднят, возвращен в строй. Водители-афганцы очищали его от пыли, промывали его царапины и вмятины. На стекле дымчатым одуванчиком белели трещины, окружавшие пулевое отверстие.
На сухой обочине лежал убитый водитель. Его длинные костлявые ноги, обутые в стоптанные башмаки, вылезали из штанов, и на них темнели редкие волоски. Руки с длинными коричневыми пальцами были вытянуты по швам, словно он лежал по стойке смирно, ожидая приказаний. Чалма отвалилась, напоминала скомканное грязное полотенце, и на смоляной голове виднелась маленькая смуглая лысина. Горбатый нос крупно торчал на лице, и на щетинистых фиолетовых губах образовались ямины. На костяном лбу, между синими, разведенными бровями кровянела дыра, и густая малиновая кровь, брызнув, как варенье, глянцевито блестела.
Белосельцев подходил к убитому, видя грязную ткань чалмы, стоптанные подошвы, тень на щеке от торчащего горбатого носа и застывшую, как красный лак, блестящую кровь. Пространство вокруг убитого вдруг стало стекленеть и сгущаться, как студень. По нему пробегали вязкие волны. Лица людей, синие трактора, бруски «бэтээров», желтый гончарный кишлак, окрестные горы стали волноваться, как водяное отражение, и Белосельцев, теряя сознание, падал в мягкое и бесцветное.
Очнулся от шлепков в лицо. Мартынов наклонился над ним, хлопал его по щекам тяжелой ладонью.
– Ну вот, глаза смотрят! – сказал офицер, распрямляясь.
– Не знаю, что со мной… – виновато сказал Белосельцев, приподнимаясь с земли.
– Дело обычное, – сказал Мартынов. – На кровь посмотрел, она и опрокинула. С непривычки на кровь нельзя смотреть. Ее природа нарочно в темноте, в венах держит. Кто на нее на свету посмотрит, того она бьет, – и, отворачиваясь от Белосельцева, приказывал командирам машин: – Продолжать движение!.. При подходе к кишлакам предупредительную очередь в воздух!.. В случае обстрела по площадям из всех пулеметов!.. По машинам!..
Они двигались дальше по солнечному сухому ущелью. Белосельцев сидел на броне, размышляя над тем, что случилось. Кто тот, невидимый, что нанес ему сокрушительный бесшумный удар, уложил на каменистую землю. Останавливал, не пускал. Запрещал видеть и знать. Предупреждал о какой-то запретной тайне. О громадной, его поджидавшей опасности. Он, Белосельцев, пренебрег этим знаком. Не остановился на невидимом рубеже. Снова сидел на броне, катился в солнечном ветре мимо осыпей, круч и распадков. Вторгался в азиатскую, пропитанную красными отсветами землю, словно горы, откосы, сухой бурьян на обочине были обрызганы гранатовым соком.
Трасса, цепляясь за горы, быстро сбегала вниз. И возникла легкость, как при свободном падении. Будто ослабели невидимые, удерживающие крепи, развязались тугие узлы, и земля своим притяжением увлекала колонну вниз, пронося ее мимо разноцветных склонов, лепных кишлаков, безлистых ржаво-красных садов. Долина, еще незримая, тянула к Белосельцеву свои руки, влекла к себе, и он, одолев преграды, избегнув опасности, освобожденный, стремился в долину, предчувствуя ожидавшее его чудо.
На выходе из ущелья, где распахнулись горы и в солнечном тумане раскинулись клетчатые поля, – черная, отдыхавшая под солнцем пашня, изумрудная озимь, красные колючие комья виноградников, среди которых слюдяными струйками вспыхивали арыки, – встретил их Джабаль Усарандж. Словно они вкатили на яркий восточный рынок с грудами яблок и апельсинов, торговцами посудой и шелком, медным блеском, звоном и визгом дудок. Белосельцев с брони жадно смотрел на смуглых краснокожих мужчин в белоснежных накидках, на бегущих нагруженных осликов, на верблюдов, навьюченных полосатыми тюками. Городок исчез также быстро, как и возник, словно его сдуло ветром и он пестрым комом улетел в синеву. Они катили по ровной дороге среди расступившихся гор.
В отдалении тенистыми отрогами, как огромные, на толстых столбах ворота, обозначилось ущелье Бамиан. И он вспомнил генерала, его последнее желание оказаться в Бамиане, у подножия каменного великана, и увидеть уходящие ввысь огромные плечи и грудь, полузакрытые глаза и улыбку исполинского Будды – желтый, высеченный из песчаника лик в небесной бирюзе.
Городок Черикар прозвенел, промелькал, словно «бэтээр» проехал сквозь гулкий бубен, сквозь колокольчики, пестрые ленты, звонкую натянутую кожу. И опять мягкая, голубая, туманная, потянулась долина, дремлющие сады, ленивые арыки, и на далекой вершине, как ее зубчатое завершение, парил замок – крепостные башни, уступы стен, таинственное прибежище нетронутого временем уклада, куда стремилась молодая ищущая душа Белосельцева.
Миновали Баграм, и над трассой, косо, мощно, на двух белых острых огнях, прошли штурмовики с красными звездами. Рубанули воздух коротким ревом. Удалялись, плавно разворачивались, как в парном катании, оставляя матовые дуги.
К вечеру на развилке дорог колонна разделилась. Трактора сомкнутым строем двинулись к югу, в Джелалабад, где уже начиналась пахота и новая власть раздавала землю крестьянам. Бронегруппа с Мартыновым скорым ходом пошла на Кабул. Советник Нил Тимофеевич, партиец Сайд Исмаил и он, Белосельцев, на головном «бэтээре» неслись в вечернем прохладном ветре, пахнущем сухой листвой, сладким дымом жилищ, горной водой, и ему казалось, что он прижимает к губам холодное красное яблоко, вдыхает его ароматы.
Кабул они увидели вечером, внезапно, словно чья-то огромная могучая ладонь подобрала «бэтээры», как семечки. Перенесла их в город и бережно высыпала посреди тесных улиц, мечетей и лавок, окружив огнями, звоном и музыкой. Там, где катили «бэтээры», было тесно. Мелькали бороды, лица, накидки. Лавки, озаренные, как фонари, светились товарами, рулонами тканей, грудами изюма, множеством рукодельных предметов, которые не успевал разглядеть глаз. Возникали – торговец перед медными чашами весов, брадобрей, кидавший мазки белой пены на горбоносое волосатое лицо, водоноша, сгибавшийся под тяжестью скользкого раздутого бурдюка. Вечерняя толпа валила по улице, под навесами в чайхане сидели люди в тюрбанах, пахло горячим хлебом, смоляным дымом, жареным мясом. Все это было внизу, на вечерней кипящей улице.









































