Читать книгу "Сон о Кабуле"
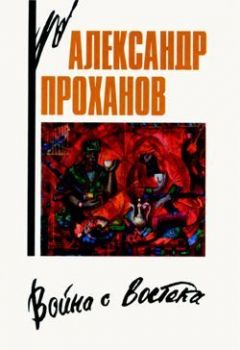
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Но выше, над толпой, над крышами магазинов и лавок начиналась тьма, забрызганная множеством желтых живых огоньков, уходивших вверх. Словно в склонах горы были выдолблены ниши и в них поставлены лампады, светильники, стеариновые огарки. С каждым из этих огоньков была связана незримая жизнь, наполнявшая гору. Гора была полой, населена неведомыми существами, и если присмотреться, то вдруг открывалась улица, уходившая вверх, на ней вдруг мелькала фигура, скользил луч фары. Город отрывался от долины, превращался в долбленую, населенную гору, был огромной таинственной катакомбой.
Выше, над черной, забрызганной огоньками кручей, серебрились усыпанные снегом, в голубых последних лучах, остроконечные пики, драгоценно сиявшие в бездонной лазури. В холодной синеве одиноко и прозрачно сверкала звезда, как драгоценная морозная капля. «Звезда Кабула» – так назвал ее Белосельцев, восторженно и страстно взиравший на звезду.
Город, куда привела его длинная, полная опасностей и приключений дорога, казался ему таинственным и одновременно родным. Словно он уже бывал здесь однажды, в иных воплощениях и жизнях. Странно знакомыми и родными казались ему озаренные лавки, чернобородые лица, слабо освещенные, уводившие в гору улицы. Он уже видел когда-то эти маслянистые огоньки на горах, эти серебристые снежные пики, влажно мерцающую одинокую звезду. Быть может, он жил в этом городе, сидел в дукане перед грудой черного чая, кидая на медное блюдо душистое зелье. Или, сгибая спину, нес отекающий тяжелый бурдюк с водой. Или в одеянии дервиша стоял перед минаретом слюдяной, глянцевитой мечети. Или в колонне восточных воинов, в золоченом доспехе, качался на спине боевого слона.
Город был странно знаком, явился из детских снов, из таинственных глубин родословной. И теперь они встретились – он и Кабул, он и Звезда Кабула. Сидя на броне «бэтээра», вторгаясь в глиняный и деревянный восточный город, он знал, что добирался к нему через множество прожитых жизней. Их встреча сулит ему неведомое, еще безымянное, но скорое и неизбежное чудо.
Часть вторая
Глава пятая
Генерал в отставке Белосельцев смотрел на бабочку, на ее волнистые узоры, из которых он, как из разноцветных волн, вынырнул обратно в зимний московский день, покинув бездонное прошлое, где растворились бесследно его исчезнувшие силы и чувства. Остро, словно проведенную линию, он ощутил свою жизнь с той точки, когда она появилась среди необъятного света, тянулась, как струна, наполненная гулом и звоном, а потом исчезала, уходила обратно во тьму, из которой вышла. Мгновение, в котором он пребывал, находилось у самого конца этой проведенной завершаемой линии. Оставался убывающе малый отрезок, и прежде чем он оборвется, надо было успеть совершить последнее в жизни открытие – понять, что она есть, эта жизнь. Откуда и кем выпущена в ослепительный свет. Куда и к кому возвратится, погружаясь во тьму.
Ему казалось, что его утомленное тело, перегруженное усталостью, с негибкими одряхлевшими мускулами, изношенными от долгой работы органами, таит в себе накопившуюся болезнь. Она, безымянная, притаилась в нем, как нечто глухое, угрюмое, направленное против него. Проникла вглубь, спряталась в сплетении сосудов, в зарослях волокон, среди шорохов и биений. Устроила засаду в сумерках бытия. И в любой момент прянет, опрокинет, станет рвать горло, выплескивать из него вместе с черной дурной кровью самою жизнь. И тогда не останется времени думать, а, лежа на больничной койке, в набегающей слепоте, среди тусклого мерцания капельниц, испускать дух, растворяться в черной кислоте небытия.
В жизни, которую он завершал, обрывалось множество состояний, страстей и задач, заслонявших его от главной, окончательной и покуда не решенной задачи. Среди этих временных, предварительных увлечений и целей, занимавших основное протяжение жизни, полностью отпали, как блеклые перегнившие корневища, его служение в разведке, ибо исчезла страна, посылавшая его в опасные странствия. Его ненасытная жажда познаний, ибо были прочитаны основные, написанные человечеством книги, осмотрены мировые дворцы и храмы, освоены философские и научные теории. Утолено любопытство к людям, ибо среди бесчисленных встреч, необычайных дарований и характеров выявилась повторяемость человеческих типов, предсказуемость их ролей и поступков. Погасли страсти и похоти, увлечения женщинами, ибо с каждой новой любовью остывало и меркло горевшее в нем солнце, и там, на небе, где еще недавно пылало дневное светило, теперь чуть теплилась печальная сумрачная заря с черными вершинами осеннего леса. Оборвалась сама собой его давнишняя утонченная страсть – ловля бабочек, за которыми он гонялся по миру, пересекал с сачком пустыни и сельвы, прорывался сквозь саванны и джунгли, уклоняясь от летящих пуль, улавливая в прозрачную кисею божественные существа, как бессловесные ангелы наполняющие мироздания. Он больше никогда не раскроет сачок, на котором высохли капли цветочного сока и зеленая кровь нимфалид, не помчится вдоль океана, выхватывая из соленого ветра лазурных бабочек, не испытает счастливого перебоя в груди, когда в руках начинало биться бесшумное диво, уловленное в кисею.
Что же ему осталось на этом последнем, исчезающе малом отрезке струны с затихающим, меркнувшим звуком? Осталось ему драгоценное одиночество, без друзей и без женщин, вне едкой ядовитой политики, в которой растворяются, как в кислоте, все тонкие явления души. Он уедет в деревню, на последние снега, на первые голубые ручьи, под туманные весенние звезды, и там, остывая от накаленной прожитой жизни, поймет наконец, кто Он, пославший его в эту жизнь. В чем Его смысл и закон. Как среди грохочущего, промелькнувшего, будто единый день, бытия он исполнил этот закон. А если не исполнил, то теперь последние, отпущенные ему часы и мгновения он посвятит познанию закона, станет следовать ему. И, быть может, в этом трудолюбивом и смиренном следовании ему откроется Тот, кто выпустил его в этот мир. Вылил его из ладони бережно, как рыбку, в поток бытия. Скоро так же бережно зачерпнет в свою могучую длань, выхватит из потока, из-под этих звезд и светил, перенесет в иное таинственное бытие.
Эти мысли казались ему сладостными и желанными. Не пугали, а манили его. Смерть, которая должна была наступить, в свете этих мыслей виделась ответственным и важным событием. Это событие касалось его не только здесь, в этой явленной жизни, но и там, за ее пределами, куда он шагнет сквозь смерть, как сквозь открытую дверь.
Если же закон им не будет понят, если Творец не откроет лица и ему после смерти предстоит рассыпаться на множество отдельных безымянных молекул, на крупицы костей, на истлевающие обрывки волокон, то все равно, став водой, летучим воздухом, пылинками камня, он сольется с Творцом, останется в его воле и власти.
Он смотрел на джелалабадскую бабочку, на ее золотисто-песчаные крыльца, на черные оконечности с бело-жемчужными пятнами. Крылья начинали вибрировать, орнамент двоился, и тончайшее, едва различимое дребезжание превратилось в длинный телефонный звонок.
– Виктор Андреевич? – раздался бодрый голос, исполненный доброжелательности и едва уловимой неуверенности. – Ивлев Григорий Михайлович беспокоит… С величайшим к вам уважением!.. Белосель-цев, узнавая именитого генерала, думского политика и старого знакомца по афганскому походу, успел изумиться. Безжизненная бабочка загадочно извергала из своих хрупких орнаментов энергии жизни, превращала их в нежданные звонки, голоса и встречи. – Все время помню о вас, думаю. Чем тяжелее мне, тем чаще думаю. И вот решился вдруг позвонить.
– Я в тишине, на покое, – ответил Белосельцев. – Это вы на виду у всей страны. Боец, воин. Пользуюсь случаем, чтобы выразить вам, Григорий Михайлович, мою солидарность. Солидарность пенсионера.
– Вы знаете, Виктор Андреевич, как я вас ценил и ценю. Как вам благодарен за прошлое. И эта ваша поддержка мне очень важна, поверьте. Не могли бы мы с вами повидаться, переговорить. Я был бы очень признателен.
– Что ж, есть о чем вспомнить.
– И, главное, есть наметки на будущее… Виктор Андреевич, не сочтите за дерзость… Что, если вы сейчас возьмете, да и приедете ко мне в Думу…
Бабочка, пойманная в джелалабадском саду, как малый радар, облучала его. Держала в своем тончайшем разноцветном луче, и он, как самолет, шел по ее наведению.
– Еду, – сказал Белосельцев, не пытаясь сопротивляться. Он был почти лишен воли. Управлялся по автопилоту. Программа полета была нанесена на хрупкие крылья бабочки. Он летел по лучу над желтыми песками пустыни, над черными каменистыми сопками, над белыми солончаками. Сквозь синюю линзу воздуха хотел разглядеть караван с оружием, тонкую вереницу верблюдов, – от пакистанской границы в Гельменд, из времен афганской войны в сиюминутное время, среди которого в телефонной трубке замирал голос генерала Ивлева.
Белосельцев помнил их афганские встречи, – Ивлев, молодой подполковник, командир гератского полка, в чьей зоне ответственности Чичагов отрабатывал свои спецмероприятия, стравливая племенных князьков, покупая кого деньгами, кого оружием, сопровождая подкуп вертолетными ударами. Они сидели в командирском модуле, пили спирт. Лицо у Ивлева было измученным, потным среди красных пятен низкого гератского солнца. Они обменялись с Белосельцевым часами, как нательными крестами, и за окнами, в бурунах кирпично-красной пыли прошел танк.
После этого Ивлев надолго исчез из вида, делал карьеру в сибирских глухих гарнизонах. Стал известен стране, когда в проклятую новогоднюю ночь президент бросил войска на Чечню. Рыхлые полки и бригады необстрелянных юнцов, ведомые случайными, разучившимися воевать командирами, попали под гранатометы чеченцев, превращались в груды горящей брони. Ивлев, молодой генерал, взял управление боем, спас от разгрома армию, овладел столицей чеченцев. Белосельцев помнил на телеэкранах его растрепанные волосы, расстегнутый ворот, забинтованную кисть руки.
Третье явление Ивлева было в политике, когда он, бросив службу, отказавшись от наград президента, стал депутатом Думы. Любимец армии, защитник попранных военных, открытый и ярый враг президента, он оглашал Думу громогласными речами, становясь с каждым разом все ненавистней и опасней режиму. Слушая его на пресс-конференциях, Белосельцев удивлялся произошедшим в нем переменам, его дерзкому бесстрашию. Сравнивал с собой, со своим молчаливым прозябанием. Корил себя за немощь и слабодушие.
Теперь, согласившись поехать в Думу, он действовал не рассудком, а сохранившейся в нем, не исчезнувшей с годами интуицией, установившей неясную связь между появлением Чичагова, странным знакомством с владельцем казино Имбирцевым и этим звонком генерала Ивлева. Все они ворвались в его жизнь одновременно, как пучок лучей, из единого источника света. И он, состарившийся разведчик, хотел установить точку исхода лучей. Стал собираться в Думу.
Здание на Охотном ряду, тяжеловесное и основательное, как столы и комоды сталинских времен, было запечатлено в его сознание с детства, когда обрызганный, весенний асфальт принимал на себя многоцветные колонны, наполнявшие кумачами, воздушными шарами, медными трубами просторную Манежную площадь. И прежде, чем его детским восхищенным глазам устремиться к Кремлю, к желто-белому, с кружевными воротниками, дворцу, они видели гранитные бруски и тяжелый, вырубленный из камня герб государства у края синего неба. Позже, во все остальные годы, когда в здании размещался Госплан, оно сочеталось с представлением о мощи страны, для которой за этими стенами планировались ракеты, гектары целинных земель, рождение младенцев и средства на спецоперации, к которым был причастен Белосельцев. Отсюда, из-под этого каменного герба, управлялась экономика огромной державы, планировалась будущая жизнь человечества.
Теперь здесь размещалась многошумная и бессильная Государственная Дума, сменившая своими скандалами, суетой и истошными заявлениями упорную, скрытую от глаз работу мозгового центра страны.
Белосельцев шел вдоль фасада в порывах морозного ветра, летящего вверх, к Лубянке. Глядел на бесчисленные, трущиеся друг о друга лимузины, которые тесно в метельном блеске раздваивались на два потока, и один жирно, густо вливался в Тверскую, медленными толчками уходил к Пушкинской, к Белорусскому, к Аэропорту. Другой цепко и непрерывно, словно толпище глянцевитых жуков, карабкался вверх, мимо Большого театра и «Метрополя», спускался к реке, по которой плыли льдины, разбегался по набережным и бульварам.
Перед высоким порталом Думы, у казенных дверей, выстроились два пикета. Держали на ветру загибающиеся листы с транспарантами. Размахивали флажками, одни – красными, советскими, демонстрируя приверженность оппозиции, другие – трехцветными, что выявляло в них сторонников власти. Бумажные транспаранты у обеих партий были похожи, начертаны от руки. И там и здесь их сжимали скрюченные старушечьи пальцы. На одних бумагах было написано: «Слава Железному Феликсу!», «Восстановим памятник Дзержинскому, разрушенный вандалами!». На других – «Нет, красному палачу!», «Большевистский маньяк не вернется на площадь!». Пикетчики в обшарпанных утлых пальто, в продуваемых платках и шапках вяло переругивались, осыпали друг друга негромкой ворчливой бранью. Мимо них из тяжелых дверей время от времени выходили нагретые, в добротных пальто, депутаты. Садились в уютные салоны тяжеловесных «мерседесов» и «вольво», уносились в метель, оставляя на ступенях две противоборствующие замерзающие группки, позволяя их беззубым ртам выкрикивать лозунги, похожие на бумажные цветы в могильных зимних венках.
Белосельцев получил пропуск и оказался под сводами тяжеловесного здания, среди лестничных маршей, просторных вестибюлей, длинных коридоров, в которых когда-то обосновалось первое поколение наркомов, запускавших Красную империю, – грозно, как огромный танк, вползала в двадцатый век, направляя во все стороны света свои калибры. Теперь от неутомимых наркомов остались дубовые двери, медные ручки и высокие потолки, куда упирались четырехгранные колонны и где, казалось, реял синеватый дым папирос «Прима».
Белосельцев не сразу направился к Ивлеву, а прогуливался по коридорам, наблюдая думскую публику, выделяя в ней слои, которые не смешивались, как пресная и соленая вода, существовали отдельно, порождали водовороты, течения, тихие заводи, и он, как малая подводная лодка, прячась в этих турбулентных потоках, видел все, оставаясь невидимым.
Отдельно от всех энергичным, хищным сообществом обосновались журналисты, чуткие, нервные, ожидающие, с металлическими штативами, камерами, гуттаперчевыми микрофонами. Как ястреба, вяло и сонно наблюдали окрестность. Если где-то стороной, быстро, как мышь, пытался прошмыгнуть депутат, они разом вздрагивали, ощетинивались колючими приборами, выставляли металлические когти и клювы, нацеливали электронные глаза. И либо вновь затихали и успокаивались, если добыча оказывалась слишком мелка и несъедобна, либо всем скопищем набрасывались на нее, начинали расклевывать, освещали режущими лучами, окружали черными набалдашниками микрофонов. Пойманный депутат отбивался, лепетал, что-то бессвязно говорил, насыщая прожорливые желудки диктофонов и телекамер, покуда мало-помалу ни угасали рефлекторы, отворачивались окуляры, убирались штативы. Журналисты теряли к жертве интерес, и она, помятая, ощипанная, пробиралась дальше, роняя в коридоре пух.
Другой обособленной популяцией были чиновники Думы, помощники депутатов, секретарши, референты. Как рабочие муравьи, они сновали по коридорам и лифтам, проникали в кабинеты, переносили с места на место бумаги, папки, ксерокопии, словно частички лесного мусора, кусочки хвои, крылышко мухи, капельку вкусного сока. Они были неотъемлемой частью огромного муравейника, придавали ему то размеренное насекомообразное движение, сопутствующее любому крупному учреждению. От них исходил шорох и едва уловимый запах муравьиного спирта. Иногда они сходили со своих муравьиных троп, собирались в уголках мужскими и женскими группами и утомленно курили или пили кофе, демонстрируя усталость и занятость, не умея до конца убрать с лиц выражение утоленной успокоенности и гарантированности.
Посетители Думы, как видел их Белосельцев, были неоднородны и делились на подвиды, каждый из которых действовал по-своему, держался в своей нише, представлял ту или иную часть невидимого, затуманенного, находившегося за пределами Думы населения, что присылало своих ходоков из городов, деревень.
Тут были активные, преуспевающие дельцы, молодые, крепкие, с упрямыми глазами навыкат, в длинных модных пальто, дорогих немятых костюмах. Что-то непрерывно гудели в мобильные телефоны, звенели и потрескивали, как будильники, спрятанными в карманы пейджерами. Явились сюда к депутатам, чтобы продавливать через Думу законы и уложения о покупке государственных заводов и фабрик, месторождений железа и нефти. Приносили тайный компромат на неугодных конкурентов. Обольщали депутатов посулами и вознаграждениями за услуги. Приглашали их в дело и, улучая момент, оставляли у них в руках пухлые конверты. Они кружили на малом пятачке в вестибюлях, стараясь не замечать друг друга, развевая тяжелые полы своих длинных черных пальто, и от них веяло энергией, коварством и беспощадностью.
Второй подвид посетителей был представлен немолодыми людьми в аккуратных, сильно поношенных костюмах, в старомодных галстуках, которые блестели от частого прикосновения утюга. Они держали в руках туго набитые обшарпанные портфели, обмотанные веревками папки или даже чемоданы с отбитыми уголками и плохо закрытыми замками. На лице у них было одинаковое, вдохновенно-мученическое выражение, как у святых. Они смотрели поверх людей затуманенными глазами, словно шли уже много лет по бесконечной дороге, выискивая за дождями, туманами обетованный храм. Это были ревнители крупных идей и глобальных проектов по спасению государства. Знали, как восстановить Советский Союз, реорганизовать экономику, запустить новые незатратные источники энергии, использовать всемирный закон тяготения, научить оппозицию побеждать на выборах, соединить мировые религии для достижения земной гармонии. Некоторые из них были пророками, ибо им были явлены знания свыше. Некоторые оказывались необычайными изобретателями, открывшими способы управления человечеством. Третьи предлагали себя в качестве президентов, чтобы, заручившись поддержкой депутатов, принести в Россию долгожданный покой и мир. Их было много здесь, в коридорах Думы. Концентрация их была выше, чем в каком-либо ином месте земли. Воздух, который они рассекали своими папками, портфелями, наглаженными до блеска галстуками, чуть слышно потрескивал, как у изоляторов высоковольтной вышки. Казалось, протяни в их сторону незажженную сигарету, и она начнет тлеть и дымиться, как от прикуривателя. Депутаты их знали в лицо и избегали. Секретарши не пускали на пороги приемных. Но они продолжали упорно посещать Думу, перекладывали на коленях желтые листки своих манускриптов, и было видно, что им здесь хорошо.
Третий вид посетителей был представлен людьми в растерзанных одеждах, в грязных пальтушках с расстегнутыми пуговицами, в клочковатых шапках и мятых платках, с потрясенными лицами. Словно все эти люди упали на ходу с поезда, ударились о насыпь, катились кувырком, оббиваясь о камни, продираясь сквозь колючки и кустарники. Поезд ушел, а они, побитые, без вещей, документов, проездных денег, оказались в чистом поле. Добрались кое-как в коридоры Думы, жадно разыскивали кого-нибудь, кто бы их защитил, подал кусок хлеба, денег на дорогу. Это были посланцы разоренной страны, которая от океана до океана выгорала, вымерзала, пухла от голода, сходила с ума, вымирала от тоски и болезней, съедала себя самое, посылая через застывший материк в лучезарную Москву вестников своей скорой окончательной смерти. Гонцы добирались, извещали о грозящем конце к моменту, когда пославший их был уже мертв. Они не ведали об этом, стучались в дубовые двери, сбивчиво, бестолково рассказывали. Их вежливо выслушивали, записывали их адреса, обещали помочь. Забывали о них среди муравьиной суеты огромного здания, которое работало, шевелилось, писало, звонило, устраивало пресс-конференции и слушания лишь для того, чтобы обеспечить себе в умирающем пространстве страны последнюю толику тепла и света. Пришельцы из огромной, напоминавшей остывшую луну России растерянно озирались, согревались, пили пустой чай в буфете, понимая, что им предстоит покинуть здание и снова без скафандра выйти в открытый космос.
Белосельцев кружил по Думе, стараясь освоить это новое для себя место. Словно совершал рекогносцировку на местности, оценивая ландшафт, где предстоит сражение. Господствующие высоты, естественные преграды, пути отхода, возможные места засад. Он был состарившийся разведчик, чей мнительный натренированный ум везде усматривал западню и подвох. Внезапно на просторном лестничном марше он увидел Чичагова. Тот бодро спускался, глядя себе под ноги, но было чувство, что он только что опустил глаза, заметив Белосельцева. Их глаза не встретились, опоздали на секунду. Но в зрачках Чичагова, как в фотообъективе, меркло изображение Белосельцева, а его сухие губы среди мелких морщинок едва улыбались.
Эта встреча не удивила Белосельцева. Он ее почти ожидал. Был уверен, что Чичагов навестил Ивлева, предвосхитил его, Белосельцева, визит. Не стал преследовать старого сослуживца, позволяя ему исчезнуть в клубке людей у выхода из Думы.
Приемная Ивлева была полна народа. Помощник отбивался сразу от нескольких телефонов, говорил в несколько трубок. Рядом на столе беспомощно верещала мобильная «моторолла», похожая на большого, упавшего на спину жука, который шевелил члениками, издавал металлические вибрации.
Среди посетителей Белосельцев усмотрел нескольких военных в форме, видимо отставников. Несколько крепких мужчин в гражданском, видимо действующих офицеров. Казака в полковничьих золотых погонах, с крепкой, как слиток, бородой. И немолодую женщину, плохо одетую, с каким-то кульком на коленях.
– Вы генерал Белосельцев? – отрываясь от телефонов, обратился к нему помощник. – Григорий Михайлович просил вас сразу к нему пройти!
Он вошел и увидел Ивлева. Они обнялись, и Белосельцев почувствовал, какие крепкие, бугрящиеся мускулы на плечах и спине несостарившегося генерала, который был свеж, энергичен, в тонком красивом костюме, в шелковом, ловко повязанном галстуке.
– Сумасшедшая жизнь, Виктор Андреевич! – Ивлев, поддерживая Белосельцева за талию, провожал его к удобному глубокому креслу, помещаясь рядом за маленьким столиком. – Столько дурных событий, столько ненужных встреч, а с дорогими людьми невозможно повидаться! К самым драгоценным людям никак не дотянешься!
Они сидели в огромном дубовом кабинете, в морозном солнце, два генерала, два афганских ветерана, чьи судьбы, переплетаясь и разлучаясь, были направлены на служение армии, государству. Его, Белосельцева, служение оборвалось, и он, как промахнувшаяся пуля, срикошетив о пустые камни, упал в пыль пустыни. Служение Ивлева продолжалось, он мчался сквозь войны, политические бури и схватки, как стальной сердечник, чтобы поразить грозную, обреченную на истребление цель.
– А помните, Виктор Андреевич, как в Сарахель без охраны поехали? – Ивлев изумленно и радостно крутил головой, словно не верил, что это случалось с ними. – Этот черт хитрый, полевой командир, Абиголь или как его?… Думаю, заманивает нас к себе в кишлак, башку отрежет. Мне ехать страшно, но перед вами виду показать не смею. Отдал приказ начальнику артиллерии: «Если через сорок минут на связь не выхожу, сметай кишлак из всех стволов!» Ну, слава Богу, вернулись живыми…
Белосельцев помнил их поездку в кишлак Абиголь под Гератом, тучные, отяжелелые от спелых яблок сады, каменно-гончарную крепость, источавшую, как накаленный очаг, ровное сухое тепло. Синяя теплая тень под деревом, и они на ковре беседуют с черноволосым белозубым главарем. Лежат на ковре автоматы, краснеет разломленный сочный гранат. И ему, Белосельцеву, ведущему неторопливый осторожный разговор с афганцем, хочется дотянуться до дальнего края ковра и погладить теплый ворс в том месте, где изображен бредущий верблюд.
– А помните, как обвели вокруг пальца Якуб-Хана? Пригласили его отряд на раздачу оружия, он все посты снял с дороги, кто на чем помчались получать автоматы, а я тем временем без единого выстрела провел колонну с боеприпасами. Ваша хитрость, Виктор Андреевич! У вас учился!..
Он помнил мелкий солнечный брод с протоками, с яркой зеленой травой, за которым начиналась серая, как пепел, пустыня, и ржавел черный короб сгоревшего танка. Полк проходил по мосту, ревели «бэтээры», солдаты с красными испеченными лицами облепили броню. А он на минуту спустился к реке, сунул руку в холодную воду, пережил мгновение острой любви и печали, глядя, как несутся сквозь его пальцы крохотные песчинки, завиваются светлые струйки воды.
– А в Герате, в крепости, когда «чистили» в который раз эту чертову Деванчу и батальон застрял в кварталах, напоровшись на мины, помните, как наш шальной вертолет отстрелялся по командному пункту? Так шарахнул, что все карты унесло и осколочек мне прямо в плечо угодил. Вы мне его тогда перочинным ножиком вытащили и на платочке преподнесли. Он у меня дома до сих пор в шкатулке хранится вместе с вашими часами…
Он помнил эту старую крепость времен Македонского, и во время передышки, когда прекратилась стрельба и офицеры штаба раскупоривали банки с консервами, пили из фляжек воду, он спустился на внутренний двор, на серый раскаленный пустырь. И там в земляной осыпи нашел несколько фарфоровых черепков с остатками лазурных узоров. Подымался обратно на башню, слыша, как разгорается стрельба, сжимал в кулаке осколок старинной пиалы.
Эти три воспоминания были столпами, на которых укрепился просторный шатер, где они оказались с Ивлевым в особом, только им одним принадлежавшем пространстве, чувствуя себя в безопасности от внешнего чужого и опасного мира. В этот шатер входили только друзья, утомленные путники, и их ожидал кров, покой, угощение. При масляном свете лампады на кошме, подоткнув под голову полосатую тугую подушку, дремать и слышать ровное дуновение пустыни, слабый шорох сухих песчинок.
– Мне так нужно переговорить с вами, Виктор Андреевич! А здесь сплошной народ, сплошные посетители!.. То военным зарплату не выдали, то завода военный заказ отменили, то какой-то «русский иран-гейт»! Можно сойти с ума! – Ивлев схватился за голову, показывая, как в нее не умещаются все заботы и хлопоты, связанные с депутатской работой. А Белосельцев вздрогнул, словно в шатер, где он отдыхал, донесся снаружи металлический звук тревоги. Щелчок затвора. Удар копыта о камень.
«Русский ирангейт» – прозвучало как сигнал опасности. Чичагов, мелькнувший в коридорах Думы, побывал в кабинете у Ивлева. Чичагов был тем, кто устроил его встречу с Имбирцевым, был тем, кто привел его в этот дубовый кабинет. Ивлев в своей добродушной искренности утаил недавний приход Чичагова. Как бусины четок Чичагов, Имбирцев и Ивлев были нанизаны на тесьму. Шатер, куда его пригласили, не уберегал от опасностей. Щека касалась гостеприимной, набитой шерстью подушки, а рука нащупывала под ней пистолет. Белосельцев, не меняясь в лице, продолжал мечтательно улыбаться, словно видел жаркие глинобитные стены и женщин в шелках, несущих на головах мокрые кувшины с водой. Но все его скрытые, изношенные от долгих слежений приборы включились, и он с их помощью отслеживал колебания и импульсы, исходящие от хозяина кабинета. Интрига, в которую его вовлекали, раскрывала свои лепестки.
– Там ждут меня несколько человек, – Ивлев кивнул на двери в приемную. – Я их быстро приму, и тогда мы спокойно побеседуем, Виктор Андреевич…
Первым вошел широколобый, коротко стриженный человек в штатском. Вытянулся у порога, щелкнул каблуками:
– Замкомандира 106-й воздушно-десантной дивизии, полковник… – вошедший был крепок, сосредоточен и ладен. Было видно, что это не проситель и жалобщик, а гонец, доставивший информацию. Он спокойно смотрел на Белосельцева, как на помеху, которая мешает начать разговор.
Ивлев пожал ему руку, отвел в дальний угол кабинета, и они негромко, неслышно для Белосельцева переговаривались. Долетали невнятные обрывки фраз:
– Двухдневный марш, не менее… Воздушной переброски не будет… Совещание командиров намечено…
Они говорили о каких-то перемещениях войск, о затруднениях, о взаимодействии подразделений. Белосельцев не вникал в чужой, не касавшийся его разговор. Пытался понять, в чем коварная интрига Чичагова. Какие сложные пласты явлений двигаются навстречу друг другу. Где место их встречи. В чем, по замыслу старого хитреца и лукавца, роль его, Белосельцева.
– Передайте товарищам мою благодарность, – прощался с визитером Ивлев. – Вы всегда можете звонить по мобильному. Только одно слово, я сразу пойму.
– Разрешите идти? – сказал подполковник. Спокойным взглядом осмотрел Белосельцева и, круто повернувшись, вышел.
Следом появился казак, золотопогонник, с крестами, с русой бородой, в которой розовели сочные свежие губы.
– Походный атаман Голубенко Донского казачьего войска по вашему приказанию прибыл, – бодро доложил казак, глядя на Ивлева преданными, синими, чуть навыкат глазами.
– Как жизнь на тихом Дону? – спросил Ивлев, приглашая гостя пройти.
– От жидов нету мочи. Загубили вконец. Ждем приказ выступать.
– Пакет привезли?
– Так точно!
Они с казаком отошли в дальний угол. Гонец распахнул нарядный, с золотыми пуговицами и крестами мундир, достал с груди пакет, протянул Ивлеву. Тот разорвал конверт, внимательно, повернувшись к свету, читал. Они негромко переговаривались с казаком.
– Спичку поднеси, загорится… Вся бригада с техникой за казаками пойдет… Вы приезжали, вам «Любо!» кричали… А этих жидов нагайками до Москвы гнать будем!..
Белосельцев не вслушивался. На тонкой тесьме, нанизанные как стеклянные ягоды, находились Чичагов, Имбирцев, Ивлев и он сам, Белосельцев. Перебирая пальцами четки, можно было нащупать соседние стеклянные ядрышки. Цепочка людей и поступков, последовательность встреч и звонков складывались в комбинацию, смысл которой был покуда неясен. Старинный инстинкт разведчика подсказывал Белосельцеву, что его вовлекли в игру, из которой лучше уйти. И тот же инстинкт побуждал его оставаться в игре до тех пор, пока смысл ее не откроется. Кроссворд, который ему надлежало заполнить, еще не был начерчен. Не все ячейки для букв были обозначены, и он терпеливо, пытливо ждал, сонно прикрыв глаза, как старый ястреб на телеграфном столбе, видя сквозь прикрытые веки, как лучатся золотые погоны, пуговицы и борода казака.









































