Текст книги "РодиНАрод. Книга о любви"
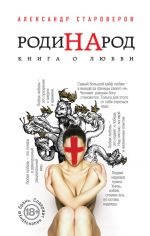
Автор книги: Александр Староверов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Петр Олегович прогнозируемо запал на Пылесос. Она идеально соответствовала его любимому женскому типу. Холодная, красивая стерва, дающая ненавидимому самцу в силу исторически сложившихся обстоятельств непреодолимой силы. Трахая подобных девиц, непреодолимой силой он чувствовал именно себя. Иногда даже намеренно пукал во время секса, или рыгал, или задницу шумно шкрябал, читал на лице надменных стерв муку и ненависть и кончал от переизбытка собственного величия. Обычно через несколько свиданий упоительное чувство значительно уменьшалось, а потом пропадало вовсе. Приходилось опять отправляться на поиски новой Снежной королевы. «Люди вообще крайне приспособляемые существа, – думал он, прощаясь навсегда с очередной пассией, – поэтому и стоят на вершине эволюции, а бабы адаптируются значительно лучше мужиков. Сегодня один с ней – хорошо, завтра другой – еще лучше. Во время изнасилования расслабьтесь и получайте удовольствие. Вот их суть».
С Пылесосом случилось по-другому. На протяжении нескольких лет она его люто по-настоящему не выносила. Приходила куда скажут, делала что повелят, хорошо делала, качественно, высокопрофессионально – и не выносила. Он пытался ее сломать, предлагал статус официальной любовницы со всеми вытекающими преференциями. Не велась. Непокоренность в ней чувствовалась, но в меру, только чтобы нервы себе пощекотать, ощутить приятное сопротивление и почувствовать себя в очередной раз лихим Вильгельмом Завоевателем. Более того, у нее имелся парень, и она собиралась за него замуж. Парень был младше ее на пять лет и работал у Петра Олеговича прогрессивным молодым яппи, нечто вроде секретаря комсомольской организации на крупном предприятии по советским меркам. Этот факт вносил особую пикантность во взаимоотношения с Пылесосом. Петр Олегович как бы в ее лице и комсомольца драл, спущенного, кстати, сверху в качестве витрины и человеческого лица российского госкапитализма (в каждой крупной окологосударственной кормушке, в соответствии с мерами по улучшению имиджа кормушек, обязательно должен наличествовать такой честный и неподкупный юноша с горящим взором и западным, желательно, образованием). Связь с Пылесосом продлилась неожиданно долго. В последнее время у Петра Олеговича возникло даже нечто вроде нежности к гордой и непокоренной девушке. Произошло это так.
В очередное ничем не примечательное их свидание они занимались обычными своими делами. Он удалым Вильгельмом Завоевателем скакал на придавленной к кровати пастушке, а пастушка, покорно раздвинув стройные ноги, тихо желала ему различных гадостей. Но вдруг он увидел у нее маленькую то ли растяжку, то ли морщинку под левой грудью. И укололо неожиданно, и нежность откуда-то возникла, и любовь почти. «Она же стареет, – умилился он. – Правда стареет. Я помню ее молоденькой упругой девчонкой, а сейчас морщинка или растяжка, а там и до целлюлита недалеко. Она стареет, а я ее трахаю. Получается, она жизнь мне свою отдает, самое ценное, что у нее есть, молодые годочки. Стареет, ублажает меня, работает на меня. Все мне, все для меня». Он поцеловал ее в морщинку под левой грудью. Чуть ли не в первый раз за время их знакомства поцеловал. И произошло с ним что-то. И в ней что-то изменилось. Потеплела она, оттаяла и тоже его поцеловала. Не так, как всегда, жаляще и технично. По-другому…
За нежность надо платить, он и заплатил сразу, не отходя от кассы практически. Петр Олегович лежал с ней рядом, осознавал произошедшую с ним перемену, поглаживал так умилившую его грудь с морщинкой, а она спокойно, прежним равнодушным голосом Пылесоса сказала ему:
– Я беременна.
– От кого? – на автомате отреагировал он, не поняв до конца ужаса случившегося.
– От тебя.
– Ты уверена? Как ты можешь быть уверена? У тебя же комсомолец этот есть.
– Я уверена. Вспомни, ты его сам в командировки да на учебы постоянно отсылаешь, чтобы под ногами не мешался. Не было его тогда. Пять недель срок у меня. Я уверена.
Петру Олеговичу стало по-настоящему страшно. «Тесть не простит, если узнает, – подумал он. – Сгноит сука. А с ней что? Я даже прессануть как следует ее не смогу. Странное со мной что-то происходит».
– Как это может быть? – спросил он растерянно. – Ты же говорила, что детей иметь не можешь, после первого аборта в юности. Врала? Если врала…
– Не врала. Но получилось. Едкое у тебя семя, Петя, как кислота, все барьеры разъело… – В ее голосе снова слышалась ненависть.
– Тогда делай аборт. Подумаешь, забеременела. Делов-то. Ты не бойся, я тебя в Майами отправлю, у меня там врач знакомый. Дочка аборт у него делала. Отдохнешь заодно, а потом и я приеду, когда оклемаешься…
– Не поеду.
– Как хочешь, можно и в Москве, здесь тоже хорошие врачи есть…
– Не буду. Мне нельзя после первого аборта. Я никогда детей иметь не смогу. Это и так чудо, только потому, что у тебя семя едкое. Злое семя. Чудо от злости. Но мне без разницы, от чего. Благодарна я тебе. А аборт делать не буду.
– Выгоню, – раздраженно сказал он.
– Выгоняй.
– С волчьим билетом выгоню. Секретуткой в ЖЭКе работать будешь. Обещаю.
– Выгоняй.
Пылесос была девушкой легкого поведения, но с тяжелым, стервозным и негнущимся характером. Это Петр Олегович выяснил уже давно. Он ей верил, могла она упереться рогом и родить. Еще и нежность не вовремя из него выползла…
– Ну, ты пойми, – пытаясь разжалобить девушку, сказал он. – Ты пойми, тебе нельзя аборт, а мне нельзя детей. Ты же знаешь мою ситуацию. Тестя и все такое… Никак нельзя мне детей. Сяду, посадит он меня за детей.
– Твои проблемы, – ответила она холодно. – А за детей тебя не посадят. Не бойся. Нет такой статьи. Тебя за другое посадят.
– За что? На что это ты намекаешь?
– Сам знаешь на что. Отстань.
Пылесос встала с кровати и бесстыдно, нарочито выпячивая разные округлые места, начала одеваться. «Сука, стерва, – зло думал Петр Олегович, – хотел стерву и получил. Сам виноват. Еще нежность эта… Какая, на хрен, нежность? Надо взять себя в руки, надо успокоиться».
– И что же ты собираешься делать? – стараясь не взорваться, спросил он.
– Как что? Замуж выйду. У ребенка должен быть отец.
Он не выдержал. Взорвался. Вскочил голый на кровать и завизжал:
– Как ты себе это представляешь, дура?! Я женат, у меня дети, у меня тесть! Совсем с катушек съехала, шалава? Опухла, нюх потеряла? Я тебе мозги быстро на место вправлю!
– Да на хрен ты мне сдался, козел! Пуп земли. Думаешь, на тебе свет клином сошелся?
Петр Олегович по инерции еще несколько раз подпрыгнул на матрасе, а потом, плюхнувшись задницей на подушки, удивленно спросил:
– За комсомольца? Замуж?
– Угадал. Он молодой, перспективный и симпатичный, в отличие от тебя.
От сердца отлегло. Эта стерва умела играть на его нервах. Хорошо умела, за то и держал. Ну, ничего, он сейчас отыграется.
– Это ты здорово придумала, плутовка, – сказал, похотливо улыбаясь. – Молодец. Умна. Так даже лучше будет. Ты замужем. Нам ничего не грозит. А я тебя потрахивать буду. Ты не волнуйся, мы твоего муженька будущего не обидим. Дадим должность хорошую на дальнем, очень дальнем Востоке. Он чаще двух раз в месяц домой приезжать не будет. А мы с тобой, а я тебя… ну иди ко мне, отсоси папочке, давай потренируемся, наставим рожки дурачку.
Пылесос послушно склонилась над ним и усердно начала оправдывать свое имя. Но потом вдруг подняла голову и шепнула:
– Учти, когда замуж выйду, вот этого, – она щелкунула красивыми пальчиками по его члену, – у нас не будет. – Шепнула, и снова склонилась над ним, и головой стала водить туда-сюда.
Петр Олегович с полминуты понаблюдал за ее мечущейся головкой, а потом, несмотря на весь ее профессионализм, осознал: да, не будет больше. Теряет он ее навсегда. Сразу пропал кайф, а потом закололо слева. Он вырвался из ее засасывающих объятий и возмутился:
– Как не будет? Ты не можешь, ты должна… я его сгною, я вас вместе сгною, с голоду подохнете.
– Не будет, не дам.
– Дашь! Или на панель хочешь?
– Я, Петя, шалава, это правда. Но у ребенка, у моего ребенка, мать шалавой не будет. Ты меня знаешь, я решила, я сделаю. Хочешь, чтобы я с работы ушла, – уйду. Хочешь, чтобы он ушел, – и он уйдет. Но если пакостить будешь, а ты можешь, я знаю, ты можешь мать своего ребенка сгноить, верю тебе… Только подумай, Петя, я тоже молчать не стану, и Катька твоя, и дети взрослые, ну и тесть, само собой, узнают все. Тебе это нужно? Думаю, в твоих интересах не гнобить нас с комсомольцем, а помогать изо всех сил. А, Петенька?
«Поймала, сука, – подумал Петр Олегович, – забеременела и поймала. Но все же, все же волнует меня эта морщинка или растяжка у нее под грудью. Она же слабая, просто слабая баба, а защищается, как сильная, оберегает, дурочка, еще более слабую жизнь у себя в матке. Мою, между прочим, жизнь, мое отчасти продолжение. Эх ты, Пылесос мой глупый, что же ты наделала…»
– А зачем ты мне все это говоришь? – спросил он ее тихо и грустно. – Хочешь рожать, ну и родила бы по-тихому, и замуж вышла за комсомольца своего. Разве я могу тебе помешать?
– Думаешь, мне замуж за него хочется? – так же тихо и грустно ответила она. – Думаешь, я люблю его? Я никого, Петечка, не люблю. Ни тебя, ни себя, ни его. Вот рожу ребеночка и буду его любить. Честно, Петечка, буду. Так буду, как ты представить себе даже не можешь. А рассказала я тебе… ну, во-первых, ты отец, и ты должен знать, а во-вторых… ты же умный, может, придумаешь, чтобы мне так гнусно не было и ребеночку нашему. Думай, Петя, думай, время еще есть… – Она помолчала немного, вздохнула как-то очень понимающе и мудро, а потом спросила: – Ну что, продолжим, Петр Олегович, как всегда, с пятой цифры?
Он посмотрел на нее взглядом, где нежность и жалость почти граничили с любовью, кивнул и сказал:
– Продолжим. Соси.
– …Чего замолчал, зятек, я тебя спрашиваю, врут или нет? – Голос тестя доносился издалека, как снайперская пуля, прилетевшая в центр лба, голос разрывал мозг, крушил череп и бесповоротно зачеркивал такую непутевую, но и такую сладкую жизнь. Петр Олегович побледнел, а глаза его покраснели от тонкой сетки кровяных прожилок. «Я не нужен никому, – думал он. – Ни дочке, ни сыну, ни Пылесосу, ни жене. Я никому не нужен. Я только ему нужен. Каштаны для него из огня таскать и удовольствие доставлять садистское. И каштаны и удовольствие на одном блюдечке с золотой каемочкой. Вот и весь мой смысл. Я родился, чтобы красть деньги для этого человека, бояться его и делать ему хорошо. Вот и все мое предназначение. Но может быть, может… там, в матке этой стервы, в сладкой матке ледяной суки по имени Пылесос. Может, в ней другое, может, там надежда моя и оправдание, может…» Он случайно столкнулся с рыбьим взглядом ожидающего ответа тестя, содрогнулся, чуть ли не блеванул от ужаса, забыл сразу застывшие в голове мысли и рефлекторно нажал на кнопку вызова референта.
– Слушаю вас, – раздался медовый голос из динамика.
– Вызовите ко мне начальника PR-департамента, – торопливо сказал первую часть фразы Петр Олегович, а потом запнулся и с трудом выговорил вторую: – И… и… и начальника… отдела… внутреннего контроля. Да, контроля.
Тесть молчал, ни одна жилка на лице не дернулась. Только щеки его постепенно стали наливаться каким-то волшебным, персиковым цветом. Как у юной, только созревшей шестнадцатилетней девушки. Несколько минут ждали, пока придут вызванные сотрудники. Напряжение нарастало, оно не висело в воздухе, оно самим воздухом обернулось. Обоим стало трудно дышать. Лет десять назад Петр Олегович пробовал заниматься бесконтактным тантрическим сексом и сейчас испытывал сходные ощущения. Только не он, а его в этот раз и с особой жестокостью… Когда Пылесос вошла в кабинет, тесть с зятем шумно, измученно выдохнули. Почти сразу появился и комсомолец. Он увидел свою подругу, стоящую посреди кабинета, его глаза на секунду вспыхнули радостью, но тут же погасли. Пылесос, как обычно, эмоций не проявляла, только одергивала периодически топорщившийся на высокой груди офисный пиджачок. Петр Олегович мысленно раздел ее, вспомнил то ли растяжку, то ли морщинку под левой грудью и неожиданно возбудился. Захотелось наброситься на красивую надменную суку, сорвать с нее облегающую одежду, приникнуть губами к морщинке, целовать, а потом залезть как можно глубже внутрь ее, туда, где в теплой матке бьется, трепещет и развивается его сынок. Он почему-то был абсолютно уверен, что там сынок, а не дочка. Замереть и закрыть захотелось своей обрюзгшей тушей эту суку с его сыночком внутри. И защитить ото всех, и не отдавать никому… Он не пошевелился, заерзал только мелко на стуле, чтобы поудобнее устроить мешающий налитой член в штанах, выдохнул тяжко и сказал:
– Что же это вы молчите, молодежь? Уже все знают, Вячеслав Гаврилович знает, один я не в курсе.
– О чем, Петр Олегович? – после небольшой паузы набрался смелости и спросил комсомолец.
– Как о чем? О том, что женитесь.
– Да вы что? – удивился комсомолец. – Мы собирались, конечно, но потом, в будущем. Ой, извини. – Он обратился к Пылесосу: – Я хоть сейчас готов, но ты же сама не хотела. Помнишь? А я хоть сейчас…
Парень совсем смутился. Он поворачивался то к начальнику, то к Пылесосу, то к разрумянившемуся старику в углу кабинета. Плел какую-то чушь, оправдывался. Наконец он определился, встал на одно колено перед девушкой и почему-то, глядя на своего шефа, произнес:
– Прошу руки и сердца, выходи за меня замуж, родная.
Девушка стремительно побледнела, снова несколько раз одернула пиджачок, а потом разомкнула потерявшие цвет губы и еле слышно сказала:
– Позже.
– Вы мне бросьте тут ваньку валять, – с трудом выговорил Петр Олегович и закашлялся. Сомкнувшееся, пересохшее горло не хотело выпускать наружу слова. Он едва справился с кашлем и продолжил: – Я тут аморалки не потерплю. Вся корпорация знает, что ты беременна.
Стоящий на одном колене комсомолец пошатнулся, поставил для равновесия вторую коленку на пол, задрал голову и, не веря своему счастью, переспросил у бледного Пылесоса:
– Ты правда беременна?
– Да, – ответила она, скривив лицо в мучительной гримасе.
Комсомолец списал ее неудовольствие на девичью стеснительность, мелко семеня, на коленках подполз к ней, обнял за ноги и уткнулся носом в юбку.
– Родная, любимая, что же ты сразу не сказала? – доносился приглушенно его голос из юбки. – Я же люблю тебя. Я никому тебя не отдам, теперь замуж, только замуж, немедленно. Ты не бойся, я все для тебя сделаю, я в лепешку расшибусь. Не бойся ничего. Замуж, замуж, люблю…
Его слова стали невнятными, слились в какие-то протяжные полузвуки, полустоны, кажется, он заплакал. Пылесос стояла совсем белая, переводила огромные глазищи с зятя на тестя, по ее щеке катилась одинокая слезинка. Петр Олегович смотрел на слезку и следил, как она зависает на острой, словно высеченной из камня скуле, болтается на краю пару секунд, а потом срывается и падает на шею и дальше катится под расстегнутый воротник блузки к маленькой то ли морщинке, то ли растяжке под левой грудью. Сердце его сжималось, а разжиматься забывало. Так и сидел он с зажатым, сдавленным неизвестно кем сердцем. Один тесть развалился в кресле разрумянившийся и довольный. Вячеслав Гаврилович все понимал. Его нижний принес сакральную жертву. Воистину сакральную, на крови, на плоде чресл своих, трепещущем в утробе сладкой налитой шлюхи. Как Авраам ветхозаветный показал готовность принести в жертву Господу своего единственного сына. Только он, Вячеслав Гаврилович, не сентиментальный еврейский божок. Он приговора не отменит. Он защитник, защитник Родины. И Родина у него такая, что сантименты здесь не проходят. Климат не тот. Здесь мальчики кровавые в глазах и шлюхи усталые в слезах кружатся… Только так, только таким способом можно удержать и Родину, и жизнь свою от развала и хаоса.
Все всё понимали, кроме рыдающего, зарывшегося лицом в юбку Пылесоса паренька. Но ему можно, он маленький еще, он дурачок наивный. На дурачках испокон веков земля русская держится.
Осознав, что он выжал из беседы с зятем максимум кайфа, а дальше лишь песок вонючий будет сыпаться из раскисшего родственничка, Вячеслав Гаврилович встал и направился к выходу. У дверей все же не удержался и выцедил из зятя последние капли.
– Убедил, вопрос исчерпан, – сказал насмешливо. – Но ты, Петя, не жмотись, поздравь молодых как следует. Невесте квартирку в доме администрации президента, а женишку должность новую, он парень толковый, пускай возглавит представительство концерна в Европе. Пусть ребята мир посмотрят, в условиях человеческих поживут. Можешь считать это приказом, – сказал и вышел из дверей, и почувствовал спиной покорный кивок зятька и его стон сдавленный:
– Угу-у-у…
Комсомолец оторвался, наконец, от юбки, вскочил на ноги, бросился к двери, но потом передумал и кинулся к столу начальника.
– Петр Олегович, спасибо вам, спасибо вам огромное. – Он судорожно хватал холодные руки начальника и сжимал их своими теплыми большими ладонями. – Спасибо вам, вы мне как отец, вы столько для меня сделали, столькому научили. Если бы не вы… Любимая, что ты стоишь? Иди сюда, поблагодари Петра Олеговича, он столько для нас сделал…
Пылесос с видимым усилием сдвинулась с места, но потом решительно направилась туда, куда ее звал будущий муж.
– Спасибо, – сказала она с чувством, – вы столько для нас сделали, особенно для меня. Он даже не представляет сколько. Вы и мне… и мне как отец, и… и ребенку будущему… как отец. Спасибо.
Она заплакала, быстро опустила голову и стала целовать Петру Олеговичу руки. Комсомолец несколько секунд ошарашенно смотрел на нее, а потом… а потом тоже приложился к ручке начальника.
– Да, да, Петр Олегович, – всхлипывал он между поцелуями, – вы нам как отец. Это не стыдно, не стыдно. Как отец вы нам, вы на свадьбе невесту ко мне подведете. Посаженым отцом будете. Спасибо, спасибо вам. Плачь, плачь, любимая, это не стыдно…
Сердце Петра Олеговича сжалось в совсем крохотную точку. На одной руке он чувствовал горячие слезы Пылесоса, а на другой – теплые слюни комсомольца, которому собственными руками отдал, видимо, последнюю свою Любовь. Он только сейчас, в этот позорный миг понял, что Любовь. Понял весь ужас совершенного от трусости преступления против себя. Он же последнюю свою надежду отдал. Сына не рожденного, крошечный шансик на спасение. Ему снова расхотелось жить. Совсем. Он противен стал сам себе. Непереносим. И тогда он завыл. Страшным волчьим утробным воем матерого, полного сил, но предчувствующего скорую кончину самца. Пылесос с комсомольцем целовали его руки, а он выл, глядя сквозь них, пока не уперся взглядом в растерянно стоявшего около дверей референта. Пока референт не сказал испуганным от увиденного зрелища голосом:
– Звонили соседи вашей мамы. Она в больнице с инсультом. Состояние критическое.
Петр Олегович перестал выть. Сердце его, наконец, разжалось, у него случился инфаркт, и он потерял сознание.
9
– Унижение, жжение, горят предохранители, ангелы хранители бастуют, господь в положении, токсикоз, бога поминают всуе, в венчике из белых роз милостыню просит Иисус Христос. Плюют в протянутую руку, не дают. Кого хочешь, выбирай, тут все друг другу кровь пьют. Тут все – и сосуд, и бокал. Кто бы не алкал святого духа – показуха. Муха и та честнее, скорее верблюд через игольное ушко в рай, чем… Кого хочешь, выбирай, будешь противен всем. Кого хочешь, выбирай, драй зубы пастой. Каста унижаемых неприкасаема, жует жмых, друг другом кусаема. За колбасу отсосу, а за икру в порошок сотру. В буру играй, выиграешь рай. Кого хочешь, выбирай, каравай достанется соседу, а ты пойдешь по его следу, чтобы отнять у него пай, пайку. Не рви на груди майку, так устроен край, в котором ты живешь, в котором ты сосешь. Баю-бай, малыш, здесь правит ложь, баю-бай, спи и пай не трожь, даже не старайся, живи, унижайся, возвышайся, опять унижайся. Качайся на качелях в холодных далях, крутись, как пропеллер, и тебя одарят. Кого хочешь, выбирай, умрешь в мучениях. Дети скажут – не умирай, но ты не примешь во внимание их мнение. И даже не успеешь сказать им гуд бай, потому что почувствуешь жжение в груди, тебя намотает на бигуди, все вдруг останется позади и наступит финальное унижение. Минус два метра – все достигают этого уровня. Жжение, Пуля, унижение, муторно здесь, и совсем нет ветра… муторно.
– Опять завела свою шарманку. Сейчас-то чего? Я уже со всем согласилась. Ты победила, старая бубнила. Я шлюха. О’кей, не надо больше приводить аргументы и доказывать, как ужасен этот мир. Он ужасен. Я знаю.
– Кого хочешь, выбирай, себя не выберешь все равно. Жизнь говно. Скажут брысь, а куда? Если кругом говно, да и сама из дерьма. Но… но, Пуля, тебя одели, обули и пнули в эту жизнь для чего? Впереди ничего, позади ничего, а ты здесь в этой дурно пахнущей субстанции. На промежуточной станции длиною в семьдесят лет. Ты думаешь, смысла нет? Один минет по кругу? Типа сосут все друг другу, а потом всех засасывает земля? И после родит урожай, ты так думаешь, Пуля? Отвечай же мне, отвечай!
– Голубчик, вы слышите меня, голубчик? Вы здесь? Я не пойму, она что, в диалог со мной вступает? Мне показалось или в ее словах есть логика? Чем дальше я свою жизнь вспоминаю, тем больше логики в ее словах. Голубчик, я, кажется, поняла. Мы с ней местами меняемся. Я с ума схожу, а она наоборот. Думаете, нет? Слава богу, спасибо вам, а то уж я испугалась. Ну, конечно, какая, к черту, логика: то она любит всех: живи, говорит, Пулечка, люблю я тебя. То ненавидит: мир – говно, люди – сволочи… Какая, к черту, логика?
– Это педагогика, Пуля. Логика в этом мире умерла. Сдули с лица мира логику ветра. И давно пора.
– Твоооою мать… Голубчик, что же это происходит? Она мне отвечает, ей-богу. Туманно, загадочно, но отвечает. Что же это? Я где?.. Кто она?.. Мы где?
– Мы в беде, Пуля. Лопнул сосудик в нашей балде, образовался сгусток, и он нами рулит. Не дает ни руку поднять, ни понять друг друга. Сгусток из крови, грехов, упругих ударов, ком кала, кровавого сала, холестерина. Не дает скотина дышать. Вот… чувствуешь? Опять…
– Господи, что ты делаешь со мной? Она мне отвечает. Я ее понимаю. Голубчик, я понимаю ее! Вы представляете? Тридцать лет почти в темени, в пустыне выжженной плутала, одна, без Моисея, без надежды, без памяти, а сейчас… сейчас. Как много всего сейчас, голубчик. Я не знаю, что мне делать. Как дальше? Может быть… может… может, глаза открыть? Я попробую. Старая су… извини, не знаю, как тебя называть сейчас, но прошу тебя, не мешай. Дай открыть глаза, дай мир увидеть…
– Открыть глаза? Я – за. Все хотят закрыть, а я за – открыть. Надо только отпустить тормоз, не жать на тормоза. И мир хлынет азбукой Морзе в наши с тобою глаза. Я не ревную тебя к миру, мы расшифруем его сигналы. Давай, командуй векам – вира. Мне мало видеть, нам мало… нам нужно знать. Пора, Пуля… пора. Пришла пора открывать.
– Господи… голубчик… кто-нибудь, помогите мне, я решилась. Сейчас получится, я знаю. На счет три… Раз, два, три… Открываю!
Ух, ты! Свет. Ух, ты! Голубчик, я вижу свет. Какой он, оказывается… Мне кажется, я вижу, из чего он состоит. Господи, боже мой, я фотоны вижу. Я чувствую, как они летят от огромного желтого шара, пронзают с бешеной скоростью холодную черноту, прошивают дрожащую атмосферу Земли и врезаются в мой зрачок. Голубчик, я правда чувствую, как частицы света взрываются у меня в хрусталике, и бегут электрической искрой по тоненькому глазному нерву, и попадают прямо в мозг, и вспыхивают там напоследок, перемешиваются в мозаике, и мир возникает. Вот блестит белой матовой краской уголок кровати, а на нем скол небольшой, по краям скола прозрачный остаточный слой лака, как марля, накинутая на клубнику, там темнеет что-то сквозь нее. А дальше, после расплывающегося тонкого налета, чернота. А в центре черноты крохотной точкой вспыхивает металл. Я все вижу, голубчик. Я никогда так четко не видела. Так ясно… Господи, спасибо тебе. За что мне, мелкой, позорной шлюхе, этот свет? Милостив ты безразмерно. Я не заслужила этот четкий блистающий мир. Я не могу его видеть таким. Все люди – и здоровые, и больные, и сумасшедшие – видят его, каждый через свою вредную преломляющую и искажающую свет бабку. Страхи они видят… деньги они видят… ничего они не видят. А я… Господи, спасибо тебе.
– Поди знай, кому Господь даст каравай. Все говорят, дай, да не у всех руки длинны. Руки растут у людей из вины. У кого по-другому, те суки, слепые, сучата, глупыши. Стучат, колотят, бьются в пыли, а получают шиши. Вроде бы правильно все делают. «Жи», «ши» пишут через «и», ведут себя хорошо, по утрам от инфаркта бегают, три раза плюют через плечо, аккуратны, уверенны, а нет им премии. Живут борщом, помрут – зарастут хвощом.
– Пульхерия! Ура, Пульхерия, любимая моя вредная старуха. Ты это тоже видишь, ты это тоже чувствуешь?
– Я это видела всегда, а у тебя холода отступают. Тают снега, бабочки, птички в животе летают, и не кровь соленая, а вода по жилам. Ты воскрешенная Пуля, ты не жила раньше, а сейчас жива.
– Пульхерия, милая моя Пульхерия, я не могу не любить тебя. Я сейчас вообще не могу не любить. Ты прости меня за все. Я теперь другая, настоящая…
– А ты и никогда не была пропащая, пропащих вообще не бывает. Бывают не хотящие, а чаще летящие под откос. Но это не главное, главное, что теперь? Что теперь, Пуля, вот в чем вопрос.
– И что же теперь?
– Сложно сказать, может, оттепель, а может, весна. Я знаю, но не скажу. Я ухожу, хотелось бы навсегда.
– Пульхерия, родная, не уходи. Как же я без тебя? Мы же только выздоровели. Я не могу одна. Голубчик, скажите ей, чтобы она не уходила. У меня нет ничего в жизни, кроме нее. Уговорите ее, пожалуйста. А, ну да, да… вы правы, теперь жизнь есть. Жизнь есть, а она… Да кто она такая, в конце концов, чтобы бросать меня! Кто она?
– Я – это ты, вернее, ты – это я. Я твоя, а точнее, ты моя. Разница неуловима, поколения проходят мимо разницы. Не замечают. Жизнь-безобразница озорничает с людишками. Я считаю, что это слишком. Дальше одна, дальше по книжкам, пешком, ползком, на зубах. Страх забудь, теперь мы врозь. Так получилось, так склалось, просто будь, Пулька, и прощай, не увидимся мы авось.
– Эй, эй, ты куда? Ты зачем? Эй! Молчит… нет ее вроде. Голубчик, как странно, голубчик. Как страшно и неудобно без нее. И матерщинница, и вредная, и крови мне выпила тонны, а все же страшно. Родная она мне стала. Как мамка, которую не помню. Мамка, она какой угодно может быть. Хоть алкоголичкой, хоть проституткой, главное, чтобы была. Мамка. Мамуля. Мамочка.
Грустно мне, голубчик, тридцать лет я с ней мучилась… или она со мной? Я так и не поняла до конца. Сложно все очень оказалось. Намного сложнее, чем думала. Хотя бы вы, голубчик, не покидайте меня, а то совсем жутко станет. Я знаю, что я вас выдумала, вообразила, чтобы с ума не сойти, но я и Пульхерию выдумала. А она соскочила от меня, представляете? От меня убегают даже мои собственные фантазии. Федорино горе. Но… но теперь у меня есть свет. Это немало. Как она меня там напутствовала? «По книжкам, пешком, ползком, на зубах»? Я смогу, я сделаю. Я не подведу ни ее, ни себя.
Однако с чего начать? Надо как-то встать, наверное? А как? Раньше Пульхерия моим телом управляла, а сейчас… еще и инсульт этот. Попробую. Попробую для начала пошевелить головой. Раз, два, взяли! Получилось. Круто получилось, как в молодости резко, с драйвом. Знаете, голубчик, как я в молодости шевелила головой? Улетали мужики мгновенно. А ну да, вы же знаете, что-то я отвлеклась. Ладно, теперь в другую сторону. Три, четыре, взяли. Опять получилось. Здорово. А теперь с открытыми глазами. Пять, шесть, поехали. Вот это да… вот это панорама, как в гостинице «Националь» в семидесятом году. Ты смотри… люстра хрустальная, комод затейливый, диванчик в углу стоит. Как будто и не палата в больнице. А с другой стороны – палата, приборы медицинские мигают, капельница над головой висит и чисто как-то слишком. Точно больница. Ну, голубчик, и за что нам с вами такое счастье? Тайна, покрытая мраком, будем разбираться. Только, чтобы разобраться, надо встать, а чтобы встать, надо опять разобраться, как встать. А что, если на морально-волевых, как в КГБ учили? Просто скомандовать себе встать – и встать. Как, чего, потом разбираться будем. Договорились? Ну, вот и отлично. Встать!!!
Прикиньте, голубчик, стою. Тяжело, оказывается, стоять. Пошатываюсь, но стою. Я же тридцать лет почти в невесомости плавала, внутри вредной старухи Пульхерии. А сейчас стою. Так вот ты какая, сила тяжести, вот что миром правит, вот какая сила! Вся жизнь у людей на сопротивлении, для начала силе тяжести, а с годами и другие силы подключаются. Сила тяжести против силы духа. Стратегически шансов нет никаких, а тактически в очередной раз победили по очкам. Стоим, голубчик, шатаемся, привыкаем. Сильно кружится голова, но это хорошо. Это означает, что она есть и все еще держится на плечах. Во всем можно найти плюсы, главное – быть позитивным и настроенным на победу. Так меня учили в школе КГБ по учебникам для американских сэйлз-менеджеров среднего звена. Да-да, не смейтесь, меня так и учили Родину защищать по этим пособиям. Что-то я опять отвлеклась. А и к лучшему, голова перестала кружиться. Теперь можно осмотреться. Роскошно, роскошно… богато до безобразия. Ого, и цветы живые в вазе, и розовое шелковое белье. Прямо шлюшкин домик. Голубчик, я, кажется, поняла… меня трахать сюда привезли. Напоили и трахать собираются, а весь этот бред про Пульхерию, инсульт и больницу мне с похмелья почудился. Как вам версия? А что руки? Руки как руки, мои обычные руки… Ах, вот вы к чему. Ну да, староваты, морщинисты и в пигментных пятнах. Правы вы. Кто такую трахать будет? Странно, все очень странно. Надо успокоиться и попытаться мыслить логически. «Воля и разум сильнее всяких войн, воля и разум…» Все, успокоилась, дышу ровно, мыслю. Итак, голубчик, что мы имеем?
Первое – царские хоромы с медицинским оборудованием, похожие на шлюшкин домик. Явно нам не по чину, но тем не менее лежим здесь мы. Загадка. Второе – пробуждение и воскрешение после многолетнего безумия. Зачем, почему, непонятно. Загадка. Третье – неожиданно нахлынувшие воспоминания, чудесное исцеление от инсульта и мистическое исчезновение сумасшедшей (а не такой, кстати, уж и сумасшедшей) бабки Пульхерии. Опять загадка. Мир полон тайн, мой друг. Но… орешек знаний тверд, его нам нелегко понять, и в этом нам с тобой поможет киножурнал «Хочу все знать!». Не обращайте на меня внимания, голубчик. На самом деле мне очень страшно и одиноко. И фотоны режут глаза, царапая мозг, и ноги дрожат, и руки трясутся. Это я подбадриваю себя. Некому меня подбодрить, приходится самой…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































