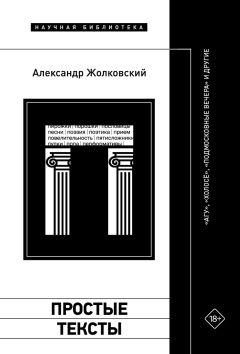
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
4. Кушай рябчика
Об одном эпизоде «Попрыгуньи»[32]32
Впервые: «А рябчика этого мы разъясним»: Об одном эпизоде чеховской «Попрыгуньи» // Звезда. 2024. № 7. 256–272. Выделения полужирным шрифтом здесь и далее мои. – А. Ж.
[Закрыть]
1. Когда восемь десятков лет назад я начал ходить в школу, на уроках литературы нас учили «читать и понимать прочитанное». Я был круглым отличником (с четверками только по поведению) и старался соответствовать, а в дальнейшем даже избрал такое умение своей специальностью.
Оказалось, что читать еще куда ни шло, а понимать уж точно надо уметь. Хотя, по идее, это писать, как со скромностью паче гордости твердили «Серапионы», трудно, а читать и понимать – не бей лежачего. Но факт остается фактом, профессия такая есть, за нее деньги платят.
И вот читаю я – с американскими студентами, но по-русски – «Попрыгунью» (1892), и мы доходим до такого пассажа:
Приехала она домой через двое с половиной суток <…Т>яжело дыша от волнения, она прошла <…> в столовую. Дымов <…> в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку <…> она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она <…> решила рассказать ему все <…> Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.
– Что? Что, мама? – спросил он нежно. – Соскучилась?
Она <…> поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.
– Ничего… – сказала она. – Это я так…
– Сядем, – сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. – Вот так… Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.
Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся[33]33
Тексты Чехова приводятся по Чехов 1974–1982 (без ссылок на тома и страницы).
[Закрыть].
Это самый конец главы V. Ольга Ивановна возвращается с этюдов на Волге, где у нее летом разгорелся, а к осени угас роман с Рябовским, и рассказчик занимает нас вопросом, как же она себя поведет – признается ли во всем мужу? Она не признается. Сцена деликатная, тонкая:
Между репликами много несказанного, о чем читатель не может не догадаться <…> Художественная система Чехова такова, что мы в этом крохотном эпизоде безоговорочно верим Ольге Ивановне <…> потому, что она не произносит сколько-нибудь значительных слов, а только: «Ничего… Это я так…» Дымов, которому есть что сказать, молчит о жизненно-важном, он ограничивается почти шутливыми словами, обращенными как бы к ребенку: «Сядем… Вот так… Кушай рябчика…» Молчание у Чехова гораздо содержательнее иных разговоров <…> В приведенном эпизоде Ольга Ивановна углублена; позднее автор ее возвращает в ничтожество (Эткинд: 325).
Нам со студентами тоже предстоит добраться до этих тонкостей, но сначала я должен убедиться, что они поняли каждое слово, в частности слово рябчик. До сих пор я его не замечал, но на то и медленное чтение, оно же close reading, чтобы замечать все.
2. Заметил ли это слово Эткинд? Он его процитировал («Кушай рябчика»), но в порядке, выражаясь по-шкловски, не ви́дения, а узнавания. Почему? Ну, возможно, потому, что в данной статье его интересовало другое, а может быть – может быть, потому, что чеховедение вообще не склонно было замечать этого рябчика.
Тут следует оговориться, что я не чеховед и могу ошибаться, но в основном корпусе работ о Чехове, с которым я кое-как знаком, речь о рябчике не заходит; например, в основательном четырехтомнике «Чехов pro et contra» о нем (если не считать статьи Эткинда) нет ни слова. И когда я, наткнувшись на него в «Попрыгунье» и задумавшись, что же он там делает, спросил об этом уважаемого мной видного чеховеда, тот признался, что ничего о такой проблеме не слыхал. Беглый поиск по интернету принес две сравнительно недавние работы, в которых рябчик наконец фигурирует, но в целом получается, что слона-то в «Попрыгунье» до недавних пор и не замечали.
То есть, конечно, рябчика, но размером со слона (или хотя бы с сову, которую так хотел «разъяснить» Шарик). Согласно НКРЯ, рябчик у Чехова фигурирует всего в шести художественных текстах (на самом деле, в девяти[34]34
Обращение к ФЭБ (где издание Чехов 1974–1982 охвачено полностью) дает еще шесть текстов: три ранних рассказа и три образца нон-фикшен («Из Сибири», «Остров Сахалин», письмо).
[Закрыть]), – в некоторых дважды, но только в «Попрыгунье» трижды, причем на коротком отрезке в 200 слов. А вокруг буквально рябит в глазах от повторов фамилии Рябовский, появляющейся 21 раз до этого места и 18 раз после. Ближайшее к рябчику вхождение Рябовского отстоит от него всего на 70 слов. Правда, этимологически эта фамилия отсылает не столько к конкретному существительному рябчик, сколько к прилагательному рябой в более общем значении. Но Чехов принимает специальные меры, чтобы их перекличка была замечена: в пределах примерно тех же 70 слов перед появлением рябчика (и только там) он заставляет Ольгу дважды произнести ласкательное обращение Рябуша:
Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, – говорила она. – Что останется, привезешь… Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.
А могла бы и бритвочкой – прямо так и назвать его: Рябчик. Но это был бы уже полный фарс, типа Откатай – Угадай – Размахай (в «Предложении»), а тут тонкая словесная вязь, не всякому заметная[35]35
Впрочем, Рябуша уместнее и потому, что художника Исаака Левитана, известного прототипа Рябовского, Чехов и некоторые его родственники любовно называли Левиташей (подсказано А. Д. Степановым). Есть фотография с надписью: Левиташе от А. Чехова, а авторский инскрипт на экземпляре «Острова Сахалин» (М.: Русская мысль, 1895) начинается словами: Милому Левиташе (см. http://17v-euro-lit.niv.ru/foto/picture/130/chehov-w5-c8-36578.htm; см. также http://chehov-lit.ru/chehov/text/letters/darstvennye-nadpisi.htm).
[Закрыть]. На читателя подспудно действующая, а от исследователя требующая осознания роли в зрелой прозе Чехова словесных приемов, близких к технике стихотворной речи, – освоения подхода, намеченного в пионерской работе Вольфа Шмида под программным заглавием «Проза как поэзия»[36]36
См. Шмид 1998.
[Закрыть].
3. По остроумному определению американского поэта Роберта Фроста, «поэзия – это то, что пропадает в переводе», и если бы «Попрыгунью» я преподавал в своем англоязычном курсе «Masterpieces of the Russian Short Story» («Шедевры русской новеллистики»), заметить рябчика мне бы, возможно, не пришлось. В соответствующем месте канонического перевода Констанс Гарнетт трижды появляется слово grouse:
Dymov <…> was sitting at the table sharpening a knife on a fork; before him lay a grouse on a plate <…>
«Let us sit down», he said <…> «That's right, eat the grouse. You are starving, poor darling».
She eagerly breathed in the atmosphere of home and ate the grouse, while he watched her with tenderness[37]37
См. Chekhov 2018; более точный английский эквивалент рябчика (Tetrastes bonasia) – hazel hen, или hazel grouse.
[Закрыть].
Поэзия пропадает. А что делать переводчику? Не переименовывать же Ryabovsky в Grousovsky! Но мы, слава Богу, читаем Чехова по-русски и, заметив словесную перекличку (в терминах Шмида, эквивалентность) рябчика с Рябовским, отвертеться от ее осмысления уже не можем. А это операция отнюдь не однозначная.
Эквивалентность <…> проявляясь в различных <…> формах, обостряет способность читателя к ее восприятию. Сопряжения на одном из уровней способствуют выявлению соответствующих, но также и противоположных отношений другого уровня <…Э>квивалентности выделяют, поддерживают <…> друг друга. И все-таки их <…> осмысление должен провести читатель <…> В рассказах Чехова <…> сеть эквивалентностей так густа <…> что в одном восприятии <…> она не может проявиться исчерпывающим образом <…> Читая и осмысливая текст, мы пролагаем смысловую линию через тематические и формальные эквивалентности и проявляющиеся в них признаки, не учитывая, в силу неизбежности, множество других[38]38
Шмид: 241–242.
[Закрыть].
Самый первый шаг в осмыслении эквивалентности Рябовский – рябчик очевиден: поедание рябчика следует как-то соотнести с адюльтерным треугольником. Но как именно, предстоит решать читателю, вернее исследователю, выступающему от его имени. И здесь опасность грозит с двух сторон: смысловой маршрут надо проложить между Сциллой недо-интерпретации и Харибдой сверх-интерпретации.
4. Обратимся к монографии Кубасов 2008, где о «Попрыгунье» речь идет в разделе, посвященном условной анимализации персонажей[39]39
Здесь и далее см. Кубасов: 49–52.
[Закрыть].
Осмыслив фамилию Рябовского, иначе понимаешь некоторые сцены в рассказе. Так, накануне приезда Ольги Ивановны дается описание обедающего Дымова, который «<…> сидел за столом и точил нож о вилку». Герой похож на Отелло, готовящегося к расправе над супругой-изменщицей. Но продолжение фразы обманывает ожидания читателя <…> раскрывая тонкую травестию известного литературного героя <…> «перед ним на тарелке лежал рябчик» <…> Читатель, не пропустивший смысла анимализации, данной через фамилию героя, поймет неслучайность того, что на тарелке у Дымова лежит не котлета или, скажем, утка, а именно рябчик. Убийственная ирония состоит в том, что муж-рогоносец предлагает «попрыгунье»: «Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка».
Вопрос о неслучайности лежания на тарелке именно рябчика поставлен ребром – и, как я понимаю, впервые в чеховедении. Но разработка этой проблемы сопровождается необязательными преувеличениями. Безрезультатное, как выяснится, точение ножа Дымовым, несомненно, несет иронические обертоны, но вряд ли требует тревожить тень великого ревнивца и мнимого рогоносца (с анимализмом, добавлю, никак не связанного).
Заглавие таит в себе скрытый зооморфный образ <…из> басни Крылова «Стрекоза и Муравей» («Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела») <…> Если Ольгу Ивановну посчитать «стрекозой», то Дымову достается роль «муравья» <…> Ольга Ивановна <…> действительно «лето красное пропела» <…> «Муравей» Дымов все это время старательно трудился <…> По возвращении <…> ей, следуя здравомыслию муравья и морали басни, полагалось бы отказать в приюте и помощи («Ты все пела – это дело, так поди же попляши»). Но до поры до времени ничего не подозревающий супруг говорит нечто совсем иное: <…> «Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка» <…> Заключительная фраза героя кажется ситуативно-бытовой, но через ассоциативную связь с басней <…> становится двусубъектной: в ней слиты интонации простодушной речи Дымова с «подтекстной» иронической интонацией автора, который видит его в роли «муравья», не понимающего «попрыгуньи» и действующего вопреки морали басни.
Проекция рассказа на басню Крылова, как и Ольги Ивановны на стрекозу, представляется бесспорной, а Дымова на муравья – самоочевидной, но мало продуктивной, в силу не только отмечаемых исследователем различий в их поведении, но и общего несходства их ролей в двух сюжетах. Басенный муравей – не муж стрекозы, он не ведет с ней общего хозяйства и содержать ее не обязан. К тому же Дымов – не расчетливый накопитель, а бескорыстный ученый, и даже в восприятии Ольги Ивановны он никогда не принижается до роли муравья. Излишне риторично также рассуждение о «до поры до времени ничего не подозревающем супруге» (опять Отелло?): Дымов не станет «душить» жену и после того, как догадается о ее измене. В целом его поведение в эпизоде с рябчиком не столько вступает в знаменательный контраст с басенным прототипом, сколько просто не соответствует ему и потому требует более релевантного осмысления.
Пережимает Кубасов и с анимализацией героини.
Так, например, змея является давним трафаретом для обозначения злого, коварного человека <…> В «Попрыгунье» <этот> зооморфный образ дан <…> тоньше. «С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой» <…> Слово «змея» здесь не употреблено, но сам подбор деталей и заканчивающие фразу логически ударные слова «страшная и гадкая» <…> подталкивают <читателя> к тому, чтобы он сам завершил образное сравнение.
Разумеется, читатель волен думать, что хочет, но меня процитированный фрагмент в эту сторону не подталкивает, поскольку Ольга Ивановна предстает в рассказе не злой и коварной, а легкомысленной, глупой, не ведающей, что творит: стрекозой – да, змеей – нет.
Кубасов намечает и еще одну анимализацию героини.
Говоря о наступившей осени, безличный повествователь замечает: «И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей <…> и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей осени, и вороны летали около Волги и дразнили ее: „Голая! голая!“» <…> Чехов <…> намеренно поставил после слова «осени» не точку, а запятую, объединяя ярко-цветовое, шаблонно-поэтическое описание осени, данное в кругозоре героини, с травестированными воронами. Птицы вроде бы дразнят обнажившуюся природу. Но фраза читается и так, что оценка ворон относится и к героине. После драматических событий, случившихся в ее семье, Ольга Ивановна подумает о себе, невольно сравнив себя с птицей: «Проворонила!» Подобно известной пернатой, Ольга Ивановна тоже льстится на внешне броское, яркое, пренебрегая глубоким.
Эта серия рассуждений рвется в двух тонких местах – в переиначенной цитате: осознав свой экзистенциальный промах, Ольга Ивановна воскликнет не «Проворонила», а «Прозевала!»; и в ложной отсылке к культурному стереотипу: «известной пернатой, которая льстится на внешне броское, яркое, пренебрегая глубоким», считается не ворона, а сорока. Да, собственно, никакой падкости на броское нет и в образе ворон, дразнящих Волгу, а «голой» Ольга Ивановна оказывается подобно Волге, а не воронам.
Кубасов рассматривает и рад других проявлений анимализации в «Попрыгунье» (например, «куриную» пару Рябовский – Коростелев), но тоже с переменным успехом, свидетельствующим о проблематичности интерпретации даже вполне адекватно выявленных эквивалентностей.
5. Еще один шаг в осмыслении эквивалентности Рябовский – рябчик был сделан в статье Козубовская и Сабадаш 2005 (см. с. 238–239), где в фокус попадает «гастрономический код».
Сквозной мотив еды, развивающийся в тексте, многозначен. Еда ассоциируется с обрядом жертвоприношения, совершает который Дымов: «Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов… и говорил, потирая руки: – Пожалуйте, господа, закусить. Все шли в столовую и всякий раз видели одно и тоже: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, грибы, водку и два графина с вином…» <…> Жертвоприношение трактуется в мифологии как «способ общения людей с Богом…» <…> Врач Дымов обладает божественной, спасительной, миссией, и, согласно фольклорно-мифологическим представлениям, он – своеобразный проводник в Тот мир. Но, по мысли Тресиддера, «…жертвоприношение было актом имитации смерти всего живого…» <…> Поэтому акт поедания, включенный в гастрономический код, создает комический эффект и в сочетании с указанием на профессию <…> готовит трагический финал <…>
«Кроткая улыбка» сопровождает Дымова в ситуации неожиданного приезда на дачу. Анекдотичность ситуации пока еще не выливается ни во что серьезное. Несъеденные им рябчики (гастрономический код) – вводят мотив охоты, где жертва и охотник обмениваются ролями. Чехов играет на звуковых соответствиях: рябчики – Рябовский <…> В сюжете метафора так и остается не развернутой: муж не «съел» Рябовского, однако сам стал жертвой.
Статья посвящена поэтике жеста в свете архетипической подоплеки рассказа, а не целостному разбору текста или хотя бы системному рассмотрению роли в нем мотива еды. Отсылки к престижному мифологическому кластеру «общение с Богом – жертвоприношение – охота – жертва» представляются заманчивыми, но необязательными, а земная, прозаическая и тем более типично чеховская тема еды не получает адекватного осмысления.
Ситуацию с приездом Дымова на дачу авторы упоминают, но лишь мельком, – тогда как она образует богатую параллель к истории с рябчиком.
Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился <…О>тыскивая <…> свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица <…>
Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:
– Может, чаю хотите?
Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая.
Но поесть как следует ему не придется: Ольга Ивановна срочно отправит его обратно в город – за розовым платьем и другими причиндалами, нужными ей для участия в свадебной церемонии более или менее случайного знакомого.
– Нет, голубчик, надо сегодня <…> Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.
– Хорошо.
– Ах, как мне жаль тебя отпускать, – сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. – И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?
Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер[40]40
Зощенко обыграет это в «Аристократке»:
«А тут какой-то дядя ввязался.
– Давай, – говорит, – я докушаю.
И докушал, сволочь. За мои деньги» (Зощенко: 235).
[Закрыть].
Изоморфизм двух эпизодов впечатляет. В обоих случаях Дымов представлен готовым есть, чуть ли не уже вкушающим желанную пищу, но в последний момент отказывающимся от еды в угоду недостойной супруге. Вариации – икра и белорыбица достаются знакомым Ольги Ивановны, а рябчик ей самой – подчеркивают сходство. В частности, по «брачной» линии: икрой и белорыбицей Дымову приходится пожертвовать (в бытовом значении слова) ради чужого бракосочетания, рябчиком – ради собственного обреченного брака. При втором проведении мотива особенно остро звучит контраст между отдачей еды Ольге Ивановне и адресуемым ей ласкательным мама: беззаветно кормящей матерью предстает не она, а Дымов.
В целом аналогичную роль кормильца – Ольги Ивановны и толпы ее знаменитостей, невозмутимо на нем паразитирующих, – играет Дымов и в сценах ночных угощений, заслуживая от жены сомнительное звание метрдотеля.
6. Мотив еды, в частности в негативном повороте ее «неполучения», характерен для Чехова. Из его ранней прозы вспоминается «масленичный» рассказ «О бренности» (1886, 22 февраля):
Надворный советник <…> Подтыкин сел за стол <…> и, сгорая нетерпением, стал ожидать <…> когда начнут подавать блины <…> Посреди стола <…> стояли стройные бутылки <…> Вокруг напитков <…> теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра <…> свежая семга и проч. Подтыкин глядел на всё это и жадно глотал слюнки <…>
– Ну, можно ли так долго? – поморщился он, обращаясь к жене. – Скорее, Катя!
Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних <…> блина <…> и аппетитно шлепнул их на свою тарелку <…> Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой <…> Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…
Но тут его хватил апоплексический удар.
Роковому «лишению еды» предшествует многообразно проведенное ее «предвкушение», а перед самой развязкой – эффектное совмещение того и другого в виде «подготовки, требующей отсрочки» («Оставалось теперь только есть <…> Но нет!..»).
Здесь «отказ от еды» мотивируется отчасти медлительностью жены и кухарки, отчасти подготовительными маневрами самого едока, а в итоге – высшей волей саркастической судьбы и автора-рассказчика. Но Чехов любил разыгрывать один и тот же сюжет по-разному, и в другом масленичном рассказе, «Глупый француз» (1886), напечатанном ровно неделей раньше, «отказ в еде» подается с противоположным знаком.
Завтракая в московском трактире, француз Пуркуа изумленно наблюдает, как за соседним столом объедается блинами с икрой, а там и селянкой из осетрины, «полный благообразный господин». От удивления и размышлений о вредности такого обжорства француз переходит к попыткам пресечь самоубийственную, по его понятиям, трапезу.
С этим он обращается сначала к официанту:
– Этот человек хочет умереть! Нельзя безнаказанно съесть такую массу! <…> И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? <…>
Пуркуа подозвал <…> полового <…> и спросил шепотом:
– Послушайте, зачем вы так много ему подаете?
– То есть, э… э… они требуют-с! Как же не подавать-с? – удивился половой.
– Странно <…> Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию!
Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.
Затем – к самому едоку, пожаловавшемуся, что ему медленно подают, а ему еще «надо быть на юбилейном обеде»:
– Pardon, monsieur <…> ведь вы уж обедаете!
– Не-ет… Какой же это обед? Это завтрак… блины…
Тут соседу принесли селянку <…>
«По-видимому, человек интеллигентный, молодой… полный сил… <…> И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? <…> И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь!» <…>
Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу <…>
– Вспомните, вы еще молоды… у вас жена, дети… <…> Вы так много едите, что… трудно не подозревать…
– Я много ем?! <…> Полноте… Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?
– Но вы ужасно много едите!
– Да ведь не вам платить! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все!
И действительно, так едят все, и никто – в отличие от героя «О бренности» – не умирает:
Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся <…> За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру… с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.
«О, страна чудес! – думал Пуркуа <…> – Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса!»
Все тот же мотив «лишения еды» разыгран иначе: попытки отобрать пищу берет на себя теперь не всемогущая судьба, а наивный иностранец, судьба же, на этот раз воплощенная в «чудесной стране» и желудках ее жителей, ему успешно противодействует[41]41
Из рассказов примерно тех же лет мотив «отсрочки или лишения еды» налицо в «На гвозде» (1883), «Лишних людях» (1886), «Сирене» (1887).
[Закрыть].
А в связи с перекличкой Рябовский – рябчик отметим, что иностранцу, настойчиво задающемуся вопросами о русском обжорстве, дана нарочито вопросительная – фарсовая, в манере Чехонте – фамилия Пуркуа (фр. «почему»)[42]42
Правда, «Глупый француз» был напечатан под псевдонимом Человек без селезенки, зато «О бренности» подписано Чехонте.
[Закрыть].
7. «Лишение еды» – излюбленный мотив Чехова, охотно используемый им не только в комических вещах, ибо несущий важную для него экзистенциальную тему.
Первая же фраза <«Анны на шее»> «После венчания не было даже легкой закуски» – репрезентирует тот мотив линии Анны, которому предстоит не раз быть повторенным <…> Это 'Лишение пищи', даваемое здесь пока что в редуцированной, непринужденной, не-отталкивающей форме. В контексте <рассказа> данный мотив прочитывается не просто как отказ в физической пище, но как выражение более общей темы – голодания сердечного и эмоционального, на которое обрек героиню брак с пожилым чиновником. Пища выступает как представитель недоступных ей естественных радостей, лишение пищи – как символ <…> выхолощенного существования. Метафора «пища = жизнь» является весьма древней, о чем см. хотя бы работы О. М. Фрейденберг. Отказ в пище как метафора отказа в жизни фигурирует в семейных историях героев «Скрипки Ротшильда» и «Крыжовника» <…М>отив 'Лишения пищи' всегда присутствует и в сюжетах типа Золушки, где герой питается объедками со стола, в то время как его мучители едят досыта[43]43
Щеглов: 429.
[Закрыть].
В «Анне на шее» этот мотив вернется в описании домашней жизни супругов:
За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике <…> о том, что <…> семейная жизнь есть не удовольствие, а долг <…> И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:
– Каждый человек должен иметь свои обязанности!
А Аня слушала его, боялась и не могла есть, и обыкновенно вставала из-за стола голодной









































