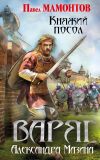Текст книги "Росстани"

Автор книги: Алексей Брагин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава третья
1
Данила хрустит пальцами. Хлопает по карманам халата, ища спички.
Восьмой час утра. Скоро пятиминутка у главного. Большого смысла и даже маленького желания пройти двадцать метров от крыльца больницы до дома уже нет.
Три операции за ночь. Ничего особенного. Аппендюк, внематочная да репозиция.
Ничего-то ничего. Да поспать не пришлось.
Да и ладно. Привыкать надо – то пусто, то густо. От коллег сочувствия все равно не дождешься. Даже от Левки. Даже от Людки. Неделю ведь до этой ночи Данька болтался без работы по ординаторским. Даже уже в гараже у Василия отсиживался, дабы на зависть и на негативные посылы в свой адрес не искушать зарывшихся в историях и эпикризах замученных однообразными ежедневными обязанностями немногочисленных стационарных докторов – пару терапевтов, хирурга, гинеколога, ну, и педиатров своих, естественно.
Ничего. Ни-че-го! Все еще будет! И зависть их уже другой станет. И сочувствие появится искреннее.
Данила еще «зелен». Три года медбратом в одной реанимации, потом еще пару лет в субординатуре и интернатуре – в двух других. И все.
Но этого уже хватило, чтобы точно, бессомнительно, однозначно для себя определить – ЧТО такое, выбранная им специальность.
«Хорошая у меня специальность», – скосив глаза к носу, Даня следит за тоненькой медленно выпускаемой им струйкой дыма.
Докурив, Шведов все-таки шагнул к дому.
Левка полуголый плещется под единственным на кухне холодным краном.
Анька загребает по полной ложке каши. Поднимает высоко над тарелкой. Медленно вываливает обратно.
Дашка со смены ночной еще не пришла – постовая медсестра она, на хирургии.
Светка с Ленкой дрыхнут. Аптека – не больница, только с десяти открывается.
– Кофе будешь? – Людмила не отворачивается от плиты – левой рукой стережет турку, правой оберегает ее от не на шутку разбрызгавшегося и фыркающего Левки.
– И че ты там наработал? – Лева обтирается, щурится на Даньку, пытаясь разглядеть выражение его лица, – близорук, очки еще не надел.
– Да, так. Мелочовка. Крупняк нынче мимо прошел.
– Да, брось ты! Какой тут крупняк! Так на фимозах да абортах и отбарабанишь все три года! – Сам ведь не верит, а говорит.
– Злой ты Левка, сегодня. Злой, – Данила бросает халат на спинку стула, подходит к освободившейся раковине, моет руки.
Люда разливает мужчинам кофе. Аньку выводит из-за стола. Идут собираться в садик.
– Кашу ее доешь. – На ходу.
– Да меня уже покормили. – Данила с удовольствием втягивает густую с черной мякотью жидкость.
Левка сам покупает зеленые кофейные зерна (а других-то и нет в магазине), сам их обжаривает, сам на ручной меленке крупно мелет, сам в старинную фарфоровую банку с притертой крышкой вываливает. Ну, и готовит сам, конечно же.
Только иногда Людмиле заваривать дозволяет – за месяц совместного со Шведовыми проживания обучил, потом принял экзамен и, наконец, разрешил. Только Людмиле.
Даня экзамен не сдал.
Зашеек.
По такому названьицу Данила не исключал, что финальный этап дороги до Зашейка ему вполне возможно придется пройти пешком с проводником по тайной лесной тропе.
Нет. Все-таки пока едут. По той самой дороженьке, что на карте района отчего-то обозначена грунтовкой. Это только родилась она грунтовкой. Когда-то. Грунтовкой лишь до ранней юности и побыла. И только. А фотку ее в ее паспорте за пятьдесят лет жизни так никто и не поменял. А надо было бы.
Василий рядом, за рулем. Беломорина в зубах как будто бы все та же, месячной давности. Количество и качество разнообразных Васиных матюков поражают Шведова. Каждой выбоине, каждой кочке он выдает новое, не похожее на предыдущее, пожелание. Через десяток километров словообразовательный процесс Василия все-таки заканчивается. Начались повторы. А ехать еще два раза по столько, не меньше. А опосля, под финиш, еще и паром. Неспешный. Как у Харона. Наверное.
Дорога до Зашейка отвратительная.
А больница в Зашейке замечательная. Недавно отстроена богатым леспромхозом. И даже операционная маленькая аккуратная в больничке есть. И аппарат наркозный. И свой хирург. И анестезистка. Из местных, специально обученные.
А анестезиолога-реаниматолога нет. Не положено по штату. Вот в редких да метких случаях и вызывают из центральной районной больницы необходимых спецов. А то и из областной. Но тех пореже. Тем вертолетом добираться приходится.
Дорога до Зашейка отвратительная.
А центральная улица в поселке замечательная. Трас-са-трассина. Асфальтированная. Километра полтора. Как взлетная полоса. Гладенькая. Ровнехонькая. Блещет зеркалом под ярким солнцем. Посередь тысячагектарных лесотундры и непролазных болот. Типа – мы тоже не лыком. Типа – и у нас не хуже. Это директор леспромхоза так думает. Он и «Волгу» белую себе по случаю прикупил по той же причине – «не лыком» и «не хуже». На пароме перевез. На работу ездит. По той самой «взлетной полосе». Метров триста. Утром – от дома до конторы. Вечером – от конторы до дома.
Дорога до Зашейка отвратительная.
А вид вокруг замечательный. Для Рериха с Кентом – в самый раз. А за неимением оных – и для Данилы, значит.
Сон, который Дане только-только начинал сниться дома с час назад после бессонной ночи, таким же был. Как дорога с видом. И отвратительным и замечательным.
Подняли Данилу. Не дали киношку досмотреть. В Зашеек отправили. И картинку с натуры спокойно написать сейчас – ну, никак не дают. А так хочется.
Едет Данила. Только глазами по сторонам хлопает – фотографирует.
Вдоль дороги – рыжие болота до синего неба. Бродят по ним реденькие скелеты черных деревцев. Бродят, зачем-то обходят голубые глазища болотных ламбушек. На дорогу не выходят. Но смотрят на проезжающих со вниманием. То ли завидуют им. То ли не завидуют.
«Ну, да. А тут уже песенка, должно быть, быть должна…» – Шведов даже начал подбирать симпатичные рифмы к Васиным матюкам.
Дорога до Зашейка отвратительная.
А настроение у Данилы замечательное. Что-то ждет там, впереди? Природа вокруг дикая, девственная, а впереди – дело важное, гуманное, только Дане одному сейчас и доступное. «Никто, кроме меня!» – романтик, блин.
А на-ко вот, хлебни!
Запах крови.
Сладковатый такой. И совсем не неприятный вроде запах, не противный. А все равно – жутковатый, молчаливый, гнетущий запах свежей крови.
На операциях, в секционной, да и из всяких собственных и чужих, мелких и не очень, ран – Даня крови насмотрелся и нанюхался. Но раньше этот запах был совсем другим.
Здесь же, сегодня, кровь пахла по-другому. Запах был незнакомым. Но Даня догадался, что это за запах. Этот запах был предвестником смерти.
Точно. Именно – предвестником. Ее, неминуемой.
Данила теперь сможет узнать его. Этот запах. И узнает. Потом. Позже. И не один раз (на соседнюю с больницей улицу примчится спустя пару месяцев Шведов по вызову, всего через минут пять после выстрела, кровь из живота будет вытекать толчками, много ее будет, очень много, глаза застреленного тела, но еще не покинутого любопытствующей душой, удивленно выпучатся на Данилу, а он, сунув руку между ребер, будет качать, качать, качать уже пустое тряпичное сердце, вдыхая шумно этот запах, и уже понимать по этому запаху всю бесполезность своих действий).
А сейчас Даня втягивал его, запах этот, принужденно, не понимая, морщиться ему или нет, наклонившись над одной из пациенток, щупая ее пульс и раздумывая – с чего начать.
Обе женщины лежали на носилках на полу в приемном покое, без сознания, с густо и полно темно-красным пропитанными бинтами на голове и с такого же цвета студнями под головами. А еще кровь капала на пол – чужая, не их кровь, донорская – из плохогерметичных толстыми иглами проткнутых флаконов. И еще стекала по резиновым оранжевым трубкам многоразовых капельниц.
Повернувшись и сделав шаг к другой пациентке, Шведов наступил в лужу крови. Ногу не стал убирать. Наклонился. Пощупал пульс и у этой.
Решил брать в операционную ее – помоложе, и пульс у нее не такой тонюсенький, как у первой. С шансом девушка, с шансом. Надо брать первой.
Странной была эта его белая горячка. Еще накануне, получается, началась. Говорят мужики, он еще вчера на работу топор принес. Наточил. Ночью встал. Достал из-под кровати припасенное орудие. И четыре раза сонной жене рубанул по голове. Потом в комнату к дочери пошел. Она с мужем спала. Начал с зятя. Да тот в последний момент проснулся, руку подставил, ногой пнул. Вскочили они. Дочка сразу в ванную с криками убежала, заперлась на защелку. А муж ее с окровавленной рукой без пары пальцев на лестничную площадку рванул, вроде как на помощь звать. А дверь-то за ним захлопнулась. Пока соседи-мужики появились, пока дверь ломали, тот, свихнутый, спокойненько защелку в ванной выбил и еще восемь раз – по дочери. Пока та не затихла. Топор бросил. Пошел на кухню. Сел на табурет. Закурил. Тут и подоспели те, кому надо было поспеть. Надо было. Да только не так поздно.
Все это Даниле рассказывал местный хирург Миша, пока они с ним к операции готовились.
Миша уже в годах – за тридцать Мише. А вот хирург Миша – еще совсем молодой, второго года всего хирург. Раньше, до медвуза, служил Миша несколько лет фельдшером на флоте. Миша очень похож на лубочного боцмана и немножко на Василия. Вот только глаза у Миши с другого лица. Глаза у Миши очень печальные.
Начать решили без промедления, не дожидаясь вертолета с нейрохирургом из областной больницы. Прилетит, подключится. До того как его руки специальные понадобятся, еще кучу черновой работы надо проделать.
Две вены центральные. Кровь с растворами струйно. Трубу в трахею. Мешок в руку. Калипсол. Ну, все. Поехали…
Баба Дуся, бабушка Данькина, с таким же звуком чай из блюдечка прихлебывала. Наконечник операционного отсоса в Мишиных руках втягивал из глубоких ран молодой женщины сгустки крови, мелкие осколки костей, волосы и разбитое мозговое вещество. Кусочки белого и серого вещества. С обрывками мыслей и памяти. Может быть, в этих обрывках – веселые серые глаза ее молодого отца и пахнущие махоркой его усы, каждый раз щекочущие ее пухлую щечку и прозрачное ушко, когда она падает испуганная в его руки, ими же, сильными и добрыми, подброшенная в небо. А может быть, в них – в кровавой сетке сосудов выпученные бельма, и клокочущая пена из скрипучего оскала гнилых черно-желтых зубьев, и летящее в переносицу уже тусклое грязное лезвие топора с прилипшей багровоседою прядью матери…
– Ну, че там? – Колпак у Миши мокрый от пота. За руками своими он будто со стороны наблюдает. А они дело свое делают. Четко. Красиво. Кажется, их можно одних оставить. Без Мишы.
– Нормально. Давление держит. – У Дани надежда в голосе. Чует, что запах крови изменился, жуткости в нем поубавилось. С удовлетворением смотрит под операционный стол на банку с катетером. – Моча, вон, пошла…
– У меня тоже сейчас пойдет. – Хирург усмехается. Уже четыре часа в напряжении. Без шутки – никак.
– Катетер поставить вам, Михаил Федорович? – Анестезистка подключается. В таких случаях субординацию нарушать не возбраняется.
– Борисыч, я че думаю. – Миша глянул на банку отсоса наполненного кровавой с серо-белыми включениями кашей, – мужик бы точно уже коньки откинул. Смотри, мозгов сколько откачали. А бабе – хоть бы хны. Лишнее только убрали. Ей и оставшегося – выше крыши.
Вот она, необходимая разрядка. Маски марлевые у Миши и Дани заколыхались. Операционная сестра, дама солидная, старой закалки, не соглашается с выводом хирурга, бурчит что-то в ответ – то ли не довольная возникшей ненадлежащей атмосферой, то ли обидевшись за прекрасную половину. Но тоже радостно оживляется – глаза над маской выдают.
Даня думает.
Глаза в операционных – самые главные. Все остальное закрыто, скрыто, укрыто. Открыто только операционное поле. И глаза. Кровавая рана. И глаза.
Если на Джоконду надеть халат, колпак и маску, понятно станет, отчего картина гениальная.
Шум вертолета.
Нейрохирург делает свое дело. Заканчивают вместе. Берут вторую женщину. Уже спокойнее отрабатывают, поживее. Поконвейернее. За три часа справляются.
Осматривают вместе после операций обеих. Мнение общее, не меняется – у молодой шансов больше. Ее и решает забрать с собой нейрохирург.
Миша и Даня провожают девушку до вертолета. Миша с Даней вертолету вслед не смотрят. Миша с Даней садятся в уазик и едут обратно в больницу.
Еще раз заходят к матери. Дышит она редко. Пульс, давление – не те, с которыми живут. Ну, час. Два от силы.
Даня что-то чиркает в истории, в листе назначений. Крутит жгутики в бороде.
– Реанимацию-то будем делать, Данила Борисыч? – Анестезистка. Ровненько так сказала. Ни утверждения, ни вопроса в вопросе нет.
– Конечно. – Данила неопределенно пожимает плечами.
Спирт в ординаторскую принесла операционная сестра. Та самая солидная дама. Поставила на стол. Чинно. Молча. Обрядово. Миша, морщась от дыма загнанной в угол скривленного рта сигареты, не отрываясь от записи в истории болезни, так же обрядово кивнул. Отблагодарил, значит. Данила картинку оценил. Взял на заметку.
Анестезистка зашла через час.
– Пойдете? – опять ровненько, без вопроса и утверждения.
– Вы же все уже сделали? – Данила гасит сигарету, тянется за халатом.
Миша одной рукой нажимает на плечо встающего Дани, другой – тянется к мензурке. Головой мотнул анестезистке:
– Историю ее принеси. – И Даниле: – Давай, не чокаясь…
Еще через час Даня с Мишей уже сидят перед телевизором в новомодном частном видеосалоне на ночном эротическом сеансе. Пьяненькие. Но трезвые. Нынче первый раз в Зашейке дают «Калигулу». Для Федоровича с приехавшим анестезиологом – лучшие места.
Просыпается Даня от Мишиного толчка в бок. Уже под конец фильма. Огромный член на небольшом экране, хлюпая, обсасывается чьим-то ртом и разглядывается широко открытыми глазами. Когда из члена хлынуло, в зале кто-то срыгнул. Все заржали. Данила тоже. Ему не противно. Ему смешно. И любопытно. Он не вспоминает прошедший день. Не переживает. Пока. Для этого будет дорога. Завтра. Обратная. И Василий будет молчать. Он всегда болтлив только в одну сторону.
2
«Цитвёрта висна. На Егория Вешниво.
Вота и Егорий зимелю отомкнул. Желтыши матимацихи на ляговине повылазили. Пялятце бистыдкиё на нибо. Да сонцу радывутце.
А я цявото нынцё нирадывусё.
Лешши метати пошли. Да шшуки. По займишшам вода от их гульбишш кипнем кипить.
Вьюши заполошныё туцями носятцы. Крицят аки ризаныё.
Сранья из морды трёх синцов да линька вынёл. Да намётом опосля по забирегам ишшо пяток ляпков пымал. Мережу ишшо попирёк старицы поставил. Напатрую завтрева цивонибути.
К вичеру козу жаровню на нос чилнока свово приварганил. Да дернины с сушняком да берёстой наложил. Сеночь шшук на займишше луцить пойду.
Острога ишшо батина. Зубья сталивыё кованыё. Да лидяныё. А церень еловый тёплай. Лодонями батинымы до гляница обшорканый.
Помнитце пирвый раз я взяв энту острожину ишшо малым. Когды батя первый раз луцить с собою взял.
Тогды я на иё таку шшуку зачипил. Ни шшука а кряж целоможный.
Аки шарнула она миня. Таки я срази из чилнока камним в воду и кульнул. Вись в тини да ряски вынурнул на мелкотке. Хоти и излякался а острожину крипко диржу. Ни отпушшаю. Батя миня одной рукой за шкирятник в лодку юзом заташшил. А другой шшуку за острожину. Колотухой по башке ёйной пазганул. Взял за зинки. Поднял над днишшем. А шшука дикушша. Длинше миня будёть. Батя хохоцить. Во говорить каку кобыляку наш Олёша ухайдокал. А я хоти и пал врастяг на дно чилнока. Хоти и сгузил изрятко. Да сиравно лыблюсё. Сиравно сгигаю от шшастия.
Варя моя сияла тогды ярчи огня на козе.
А нынцё таки ужо ни обрадею.
Сумно цивото нынцё».
Глава четвертая
1
Василий молчит. Он всегда болтлив только в одну сторону. Но нынче, и туда когда ехали, молчал.
Колеса шуршат. Как ржаные сухарики взгрызают колеса тонюсенький ледок на редких на грунтовке осенних лужицах.
Вкусна первая осень на севере для Данилы. Не пробовал он такой раньше. Обычно Данька со своим хроническим ринитом ртом дышит. А тут, в сентябре, носом спокойно задышал. Выйдет утром из дому, повернет лицо в сторону лесной чащи (метров сто до нее от крыльца, не более), глаза прикроет, и – носом, носом, с затягом, с шумом. Двумя ноздрями вместе. И поочередно. Улыбается опосля, потягивается. Осенний кокаинщик.
Не курит уже вторую неделю. Не хочется.
Едут медленно. Чего уж там спешить.
И с ментами, когда час назад на место ехали, тоже особо не спешили. И тоже помалкивали. Знали, что увидят.
Да не знали.
Мать их Даниле знакома. Пару недель назад привозили ее к нему после криминального аборта. Да какой там аборт. Просто сама из себя выкинула на тридцатой, чего-то нажравшись, чего-то там запихнув или чего-то там расковыряв. И истекла кровякой. Гемоглобинчик у нее после этого ниже самого нижнего предела ниже в пару раз стал. Даже в умных книжках о таких низких цифрах ничего не написано.
Полечил ее Даня. Без надежды, правда, но искренне, по полной. Оклемалась. Через пару дней отказалась от всего. Ушла до дому. Трубы у нее, у алкашки, запылали. Даже на спиртовой шарик, когда Тоня с инъекциями к ней подходила, ноздри раздувала. Не выдержала. Убежала. Гемоглобин подымать.
Венька, следователь (молодой, по распределению, второгодник на севере, ярко-рыжий с единичными сединами, со сливными невеселыми веснухами на лице и опущенными кистями рук на руках), рассказывал (потому и рассказывал, что еще молодой): «У нее, Дань, в комнате стекло на окне выбито и фанерой заколочено. А фанера – со старого клубного транспаранта с куском надписи. Ну, вроде как у Винни-Пуха на дверях. „ПОСТОРОННИМ B“. Только у нее – „СЛАВА К“».
И заржал Венька.
Отсмеявшись, дорассказал, что выпавшее из нее маленькое тельце быстро нашли. Где она ковыряла себя над очком-толчком в дощатом уличном туалете за огородом, там его и нашли.
Там оно в говне и плавало.
Едут медленно. Чего уж там спешить.
Менты на своей уехали. Обогнали. Умчались.
Даня в салон оглянулся. Лежат. Под простыней головками мотают: нет-нет-нет, нет-нет-нет.
Вася глаза на Даньку скосил, любимый окурок в треугольное оконце сплюнул, правой ладонью, сняв ее с руля, Данилу за скулу обратно к лобовому стеклу отвернул, шторку между кабиной и салоном задернул, взял с бардачка открытую пачку «Беломора». Протянул. Даня махнул рукой. Окно со своей стороны приоткрыл. Осень носом втянул.
Обычный холодный воздух. Ничего особенного.
Загуляла их мамка. Сутки дома не появлялась. Пацаны ее, трех да пяти лет, пошли в лес зачем-то. Искать ее, что ли. Может, и искать. А может, и просто из дома ушли. И понятно, что в лес. Куда ж тут еще пойдешь? Лес-то – вон он, рядышком, за порогом прямо. Со всех сторон. И районный-то центр чащей окружен, а этот поселочек ихний, километрах в пятидесяти от «столицы», и вовсе прямо в елки втиснут. Куда ни двинешь – все по лесу. В районе его «страной чудес» кличут. Все местные анекдоты и небывальщины оттуда родом были.
Были. Когда-то. Когда еще жив был отец поселка. Леспромхоз.
А теперь ничего там расчудесного нет.
Остались в поселке только старики и дети разных полов. Да алкаши одного пола. Все они с разными скоростями и с одинаковыми выражениями лиц перемещаются среди вечно не зеленых елок-палок (хорошие-то елочки-сосеночки все повырубили), безвременных временных бараков (без всяких отличий жилых от нежилых) и между конторой бывшего леспромхоза (от ветра хлопающей никому жидкими, но продолжительными аплодисментами остатками плакатов и досок почета), сельским клубом (с одной и той же зимой и летом нелающей собакой на остатках когда-то затоптанного крыльца) и веселым (с неугасимой днем и ночью лампочкой над входом) круглосуточным свежевыкрашенным магазинчиком.
Вот и весь диснейленд.
Вот в этой тундрятине и заплутали мальчишки.
А может, и не заплутали.
А может, просто из дома ушли.
И возвращаться не захотели.
Бывшая вырубка – всего-то в паре километров от поселка, не больше. Старая вырубка. На ней уже махонькие елочки повылазили.
Чернущие плоские лысины пней обросли по вискам зелеными кудряшками и покрылись алыми брусничными капельками. На несваленной (кому она нужна) торчащей посреди всего этого сивой елочной скелетине аккуратно вляпан чернильной кляксой здоровущий вороняка.
Приезжайте к нам, братцы дорогие, Виктор да Аполлинарий свет Михалычи, господа Васнецовы! Приезжайте! И пишите на здоровье! Хоть заупишитесь!
Да, и вон ту дощатую полуразвалившуюся будку где-нибудь в уголочке картины обязательно не забудьте накалякать.
Рядом с ней, с будкой этой, младшенького-то и нашли. А старший (целых ведь пять лет ему – совсем мужик уже) костром пытался заниматься. Спички, стертые им, отсыревшие, среди так и не загоревшихся палок-сучков валялись. А сам он рядышком лежал. Лицом в лужице.
Лужица-то потом уже образовалась. Дня через три ведь только хватились их. Дождики три дня шли. А потом морозец ударил.
Вместе с лужицами и застыли пацанчики.
Лужам-то – хорошо.
Лужи-то – только до весны.
Ледок захрустел, когда головку подымать стали.
Ворон взрыкнул. Но не улетел.
Данька кабинное оконце побольше открыл. Голову высунул. Вроде как сдунуть с себя все попытался. Фиг там.
Приехали. В подвал больничный оба тельца снесли. Завтра судебник с соседнего района приедет.
Левка на крыльцо общежития вышел. Щурится против закатного солнца. Смотрит в сторону больницы. Ждет, когда Данила, вышедший из подвала, подойдет.
Василий с остервенением захлопнул заднюю дверь уазика. Молча жамкнул протянутую Даней руку. Громыхнул за собой невиноватой дверцей кабины. Открыл. Снова громыхнул. Снова открыл. Снова хлопнул. Не выматерился ни разу. Газанул, как на взлет. Рванул.
– Ну, че там? – Это Левка, пальцем указательным ткнув в дужку очков.
– Да… – Это Данька, махнув рукой, проходя, не останавливаясь, в дом.
– И Венька ничего толком не рассказывает. – Левка, чуть обидевшись, идет за другом в дом.
На кухне званым татарином, не раздевшийся, только расстегнутый и без фуражки – Вениамин. Повернулся. Мрак с лица схлынул. Воссиял, увидев Даньку. Веснухи порыжели. Помахивает кулаком сжатым у с поярчевшими сединками виска («но пасаран!»):
– Аныстызыолухам пр-р-р-ывэт! – Хорош уже Венечка, тепленький. И когда успел-то?! Может всего минут на двадцать раньше Шведова в общагу завалился.
Настойка пустырника, заботливо слитая то ли Леной, то ли Светой из дюжины аптечных флаконов в представительную коньячную бутылку, темнеет уже лишь на донышке.
На пятой скорости догоняют Левка с Даней Веню. Вторая красивая бутылка, с боярышником (Веньке – через раз, самим – по пол граненого), уже сохнет изнутри. Мало. Вениамин, потянувшись, уронив из-под себя табуретку, но оставшись враскоряку на ногах, стаскивает с подоконника телефонный аппарат (оставшийся с больничных времен и на черном многометровом шнуре болтавшийся теперь по обширной общественной кухне):
– С-т-р-ший с-л-д-в-тель Ф-р-с-н-ко! 3-н-шь г-де об-ш-га м-д-ков? Д-в-ай п-т-руль сь-да! Б-с-т-ро!!!
Подъехали моментом – от милиции до больницы триста метров. Взвизгнули и взмигнули, уже остановившись во дворе, сиреной и мигалкой. Заходят двое. Улыбаются. Довольные шуткой с сиреной. Молодые. Дышат. Кожа розовая. Рады любому движению после многочасового сиденья-лежанья в дежурке. В общем, готовы. Как те, из ларца. Не первый раз вместе с Веней проделывают это.
– Та-а-ак! П-п-улей! – Следователь взбодрился, правой здоровается с патрульными, левой в левую одного из них передает денежный комок. – П-ть м-нут ост-лось!
– Да успеем, товарищ лейтенант! Он еще десять минут стоять будет!
Это – про мурманский, проходящий. У проводников. По двадцать рэ за бутылку. Где ж еще взять? Аптеку девки уже закрыли. Можно, конечно, сходить. Ходили уже раньше. Знаем. Да далековато. И сигнализацию отключать придется. Лень, в общем.
Привезли. Сколько надо. И еще одну, от себя. На вполне ожидаемый (не в первый же раз) приглашающий жест Вениамина оперативно, не ища по сторонам, сразу же подставили к столу свободные табуретки. Аккуратненько так фуражечки на сдвинутые колени положили. Ожидают. Стремно им. Трезвые. А тут – следак пьяный. Да два доктора (уважаемые, между прочим, люди в поселке) трезвыми прикидываются. Весело.
Потянулись за «по первой». Что-то там тостанули про спирт и медиков. Типа пошутили. Сами посмеялись.
Веня отзвонился (твои здесь, у врачей, звони, если что). Еще по одной. Закурил. Даня с Левкой закурили. Патрульные (можно?) потянулись к пачке…
Ну, вот и все.
Вот и рвануло.
Вот и началось.
Ну, как же без этого разговора?! Без этого-то разговора нельзя никак. Они что, не люди? Люди. Они что, из железобетона?! Нет. Пацаны ведь еще все совсем. По двадцатнику с небольшим каждому. Всего-то. Плюс-минус.
Вот, поэтому и – от «ссука-блядь!!!» в начале, до скупой слезы на громком вздохе через нос и сквозь стиснутые зубы в конце – все, как полагается. По-людски. По-мужски. По-пьяному.
– Вы извините нас, Людмила Николаевна! – Эту фразу Людка от Вени не услышала. А увидела. На его еле шевелящихся губах. Веня Люду уже знает. К маленькому сыну его она на вызов приезжала.
– Ни-и ха-а-ачу-у-у! – Анька, приведенная с вечерней прогулки, проталкиваемая мамой через проходную кухню в комнаты, улыбается с трудом подмигивающему ей и тоже, как и Веня, не могущему говорить, отцу.
Ночью должен был пойти снег. Укрыть, закрыть, покрыть. Тихий, мягкий, белый. Холодный.
Но пошел дождь. Лужи оттаяли. Грязь тоже. Данила очнулся под утро. С какой и положено головой. Вышел из дому. Закурил. Знал, что не надо было. После третьей затяжки – бросил. Вдохнул поглубже. Тоже не надо было. Ничего хорошего не вдохнул. Сошел с крыльца. Завернул за угол. Нагнулся. Сунул два пальца в рот.
Дождя уже нет. Только с крыши на голую спину капли падают. По одной. Друг за другом. От них плечи каждую секунду вздрыгивают. Будто взлететь Даня пытается. Не отходит. Не отодвигается. Сидит на крыльце. В трусах. В расшнурованных ботинках на голые ноги. Смотрит на недалекий лес. По верхушкам деревьев взглядом водит. Вроде как читает что-то. Строчки елочные яснеют, становятся четче. Там за ними – Солнце. Вот-вот поймет Данила, что там понаписано. Вот-вот оттуда с тоскливой песней и они должны появиться. Ну, там, журавли, утки, гуси. Ну, или кто там еще отсюда сейчас сваливать-то должен?
Появляется только ворон. Тоже неплохо. Из-за леса выяснился. До опушки долетел. Выбрал самую высокую сухую и голую – понятно. Смотрит на поселок. Молчит. Данила немного с ним поговорил. Встал. Солнца дожидаться не стал. Уже повернувшись спиной, входя обратно в дом, помахал рукой. Солнцу и ворону.
На кухне, на столе сидит мышка. От входящего наутек не рванула. Только есть перестала.
2
«Пятыя висна. На Бориса и Глеба.
Цирёмуха нонце ране зацвила. Аки тогды.
Вота и опяти годовшшина аки батю убили.
А на кладбишши пополудни никто ниходитё. Мамка говорила царствиё нибесноё токмо до обеда открыто.
Да видати для поминоцек моих Божинька шшёлоцьку в Воротах оставляить. Вота и хожу на погост когды тама нит никово.
И нынцё пошол.
Плёсо по ляговине. Плёсо по горью. Тайна тропоцька цириз болото. На чилноке цириз реку. Да круголя цириз Покровскоё наше.
Долга и тяшка попажа. Да зимелька с могилки в ладанки пособляёть. Тянить куды надоть. И ажно ноцью путь указывай
Вота он и погост.
А вона и прадид Гирасим. Да бабка Ефросинья. Да дидко Вася. С сыноцьком своим. Тобиш батей моим. А тапериця с имя и мамка моя отдыхаеть.
Царствиё вам всим Нибесноё. Прадид Гирасим Питрович. Да дид Василий Гирасимыч. Да дятько Фрол Василичёв. Да тятя Борис Василичёв. Да прабабушка Ефросинья Силовна. Да баушка Виринея Демьяновна. Да мамка Настася Димитривна. Прости Господи им вси согришениё вольны и нивольны.
Как святы Борис да Глеб от убивцив ниобириглисё. Таки и батя мой Борис Василичёв от тих уха-резов ниобирёксё.
Пришли они тогды втроём. Выпородки мистныё. Гультепа беспортошна. Втроём. Да трою проклятыё.
Антипка безжопик полуумок высевок Домки Пупихи.
Да Дорофейка опоёк главный диривенской ошшаул.
Да Фалдей гмыря лыкас пустоголовой.
Пришли напимшисё вдугоря да туски залив нас раскулацивати. А што нас раскулацивати?
Батя всю жисть охотой да рыбой промышлял. На кой хир говорить мни ихня влась с комуной.
Батя дома то ридко бывал. Всё в лису да в лису. На заимки своёй. Да в караулках схоронках своих лисных. Видьмидя ли лосину ли добудить. Лешшей ли напатруёть. Приташшит и обратки в лис да на рику. Солонины многоль нам с мамкой надотё. Остольно на продажу. Тим и кормилисё.
А лит с одынацыти аки учитцы концил и я с им промышляти стал. Так и вовси всё больши мясца да рыбы да сушшик продовати стали. Да шкуры там всяки.
Лавоцьники да рыноцьники в Свитлозёрски с рукам отрывали. Любили товар батин. А с Гиоргивской да Благовешшинской ярмонки мы вошше богоцями возрашшалисё.
Домина у нас справный был поставлин. В три дюжины винцов. Охлопень ажно с Русино видати. Скотина всяка была. Ружия разны у бати. Да всяко богавство от диаков псаломшшиков дида да прадида мамкиных оставшымсё.
Вота энто всё брандахлыстам тим и забазило.
Батя в кути под Николой за цистым столом их встретил. Руки под столом. На колинях вроди. Зашли. Стоять злюшши. В рипки одитыё. По сторонам зарятце. К хозявству приглядывутце. Фычкают слюням своим.
А батя голчить с имя нистал. Руки испод стола достал. А в правойто ливольвёр.
С войны батя иво принёс.
Прусака офицыра каковото он в тылу вражым ухайдокал.
Батя в плин хотил иво взяти. Да тот пшиздиком окозалсё. Батину уразину по кумполу свому нивынис. Видмить бы наш лисной токмо куглиной на лбу оддилалсё. А энтот нимчура задохлик сразу каньги откинул.
Вота энтот ливольвёр добытой и наставил батя на нипроварков тих.
Штож остамели говорить гости дорогиё. Ноги пашитё да проходитё.
А у их хоти и бухиё оне а рази ерожки по всиму тилу побяжали. И зёнки вылупилисё.
Тут батя стрилятито и нацял».