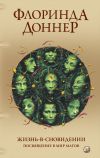Автор книги: Алексей Ксендзюк
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Теперь мы обсудим дальнейшие эффекты последовательного применения безупречности в жизни воина.
3. Беспристрастие
Послушайте, вы, искатели истины, если вы хотите достичь подлинного понимания дзэн, не позволяйте другим обманывать вас! Если у вас на пути препятствия, внешние или внутренние, – уберите их! Если вам попадется Будда, убейте его. Если вы встретите Патриарха, убейте его. Если столкнетесь с архатом, родителем или родственником, убейте их без колебаний, так как это – единственный путь к спасению. Не привязывайтесь ни к чему, будьте выше всего, проходите мимо и оставайтесь свободны».
Линь-цзы
В свое время Хенаро рассказал Карлосу замечательную притчу о своей встрече с «союзником» и о «путешествии в Икстлан». Если вы читали третью книгу Кастанеды, то непременно запомнили эту историю. В ней заключена действительно потрясающая сила тоски, безысходного одиночества и странного очарования, которое знакомо только тем, кто превыше всего ценит свободу.
Ведь, несмотря на обилие абстрактных рассуждений о свободе, мы совсем не знаем этого чувства. Вряд ли мы когда-либо переживали свободу во всей ее конкретности, а потому имеем только некий идеализированный призрак у себя в голове – что-то смутно прекрасное, безоблачное и возвышенное. Кто из нас задумывался над тем, что существо, никогда не знавшее свободы и вдруг обретшее ее, испытывает в первую очередь обнаженную трагичность своего нового состояния? Ибо свобода приносит с собой отрешенность, одиночество и печаль по утраченному маленькому миру, где было уютно и безопасно. Свобода – состояние, не свойственное нашему виду, да и любой иной биологической форме. В одно неуловимое мгновение вы отрываетесь от реальности, разделяемой всеми остальными, и навсегда теряете способность переживать мир так, как его переживают ваши сородичи. Вы – чужак, вас выбрасывает неведомая сила из общего гнезда, увлекает в пустоту, где вы сможете полностью осознать свою излюбленную свободу как добровольное изгнание, как горькую отрешенность и уже потом – как восторг вечного странствия. По инерции вы все еще стремитесь домой, не понимая, что теперь ваш дом – бесконечность и не осталось ничего, что соединяло бы вас с прежним миром. Те, кого вы встречаете на пути, чаще всего кажутся нереальными существами из какого-то царства теней. Сначала это пугает, но с приходом понимания исчезает страх и остается только печаль. Когда-нибудь уйдет и она.
После свидания с «союзником», Хенаро перестал видеть людей – они превратились в фантомов, и он бежал от них. Никогда уже не вернуться ему на родину, в Икстлан.
«Я никогда не дойду до Икстлана, – твердо, но очень-очень тихо, едва слышно проговорил он. – Иногда бывает – я чувствую, что вот-вот, еще немного, еще один шаг – и я дойду. Но этого не будет никогда. На моем пути не попадается даже ни одного знакомого знака или указателя, который был бы мне привычен. Ничто больше не бывает прежним, ничто не остается тем же самым…
– И только призрачные путники встречаются мне по пути в Икстлан, – мягко сказал дон Хенаро.
– Все, кого встречает Хенаро на пути в Икстлан, – лишь эфемерные существа, – объяснил дон Хуан. – Взять, например, тебя. Ты тоже – лишь призрак. Твои чувства и желания – это преходящие чувства и желания человека. Они эфемерны и, заставляя тебя суетиться и запутываться во все новых и новых проблемах, исчезают, рассеиваясь как дым. Вот он и говорит, что по пути в Икстлан встречает лишь призрачных путников» (III).
Только встреча с себе подобными возвращает чувство реальности в этом навсегда превращенном мире. Хенаро указывает на дона Хуана, своего товарища-мага, и говорит: «Вот он – настоящий. Только он один. Только когда я с ним, мир становится реальным» (III).
Отрывок из гневной и решительной речи чаньского учителя Линь-цзы, который мы использовали в качестве эпиграфа к этому разделу, следовало бы продолжить. Линь-цзы говорит об ограниченности, обусловленности человеческого разума, он красноречив и дерзок – быть может, излишне эмоционален для чаньского учителя, но не нам об этом судить. Любопытно другое: он, как и Хенаро, не видит больше людей. Кругом одни призраки, а ведь его речь обращена к монахам и духовным последователям – чего же ожидать от мирян? «Смотрю я на этих так называемых «приверженцев истины», – говорит Линь-цзы, – которые приходят ко мне из разных частей страны, и вижу, что никто из них не достиг свободы и независимости от вещей.
Встречая их, я бью их везде, где могу. Если они полагаются на силу своих рук, я им немедленно отрубаю руки; если они полагаются на красноречие, я затыкаю им рты. Если они полагаются на остроту зрения своего, я лишаю их последнего. Никто из них еще не представал передо мною в своем одиночестве, свободе и неповторимости. Их неизбежно сбивают с толку праздные трюки старых учителей. Я действительно ничего не могу вам дать; все, что я могу сделать, – это излечить вас от болезней и спасти от рабства. Слушайте, вы, приверженцы истины, покажите здесь, что вы не зависите ни от чего… Последние пять или десять лет я тщетно ждал таких людей, да и теперь их пока нет. Все они – какие-то призраки, бесчестные гномы, живущие в лесах и бамбуковых рощах; это стихийные духи пустыни. Они с восторгом едят куски грязи… Я говорю вам: нет Будд, нет священных доктрин, нет обучения, нет подтверждения достижении. Что вы ищете в доме вашего соседа? Эх вы, слепцы» (курсив мой. – А. К.).
Отрешенность и беспристрастие – вот чего ожидает Линь-цзы от «последователей истины». Он желает видеть печать одиночества и свободы на их самодовольных лицах. Ему отвратительны их беспомощные рассуждения о «Божественном», и потому, как заметил Д. Т. Судзуки, «его речь была подобна грому небес». Вряд ли европейский (и даже индийский) мистицизм действительно знает такую свободу и такое одиночество.
Конечно, в духовных учениях о «беспристрастии» говорится достаточно часто. Однако легко убедиться в том, что беспристрастие, проповедуемое многими «учителями», страдает некоторой односторонностью. Обычно весь пафос подобных проповедей направлен на культивирование равного отношения к внешним явлениям – богатству и бедности, удовольствию и неприязни, славе и безвестности. Реже говорится об интеллектуальном беспристрастии, т. е. о равном отношении к любым идеям, доктринам, концепциям, умственным (когнитивным) установкам, а если и говорится, то всегда (явно или неявно) подразумевается некое табу на идеи, составляющие фундамент того учения, в рамках которого беспристрастие проповедуется.
Лишь мастера дзэн имели достаточно интеллектуального мужества, чтобы провозгласить «убей Будду, убей Патриарха». О преодолении интеллектуальной обусловленности, зависимости разума (а следовательно, восприятия) от всякой метафизики много говорил великий Кришнамурти – его беседы оставляют незабываемое и пугающее впечатление нависшей пустоты, где любая концепция бессмысленна, а Реальность как никогда близко подступает к безъязыкому, изумленному сознанию освобожденного человека. К сожалению, понимание такого рода беспристрастия дается нелегко. Начинается оно с общей незаинтересованности в результате своих действий, ибо всякая концепция, к которой мы неравнодушны, есть не что иное, как показатель необходимости в скрытом мотиве – необходимости цели, достижения, результата. Сама природа разума вынуждает нас строить интеллектуальные схемы, о-смыслять мир, т. е. наделять его условным движением от начала к концу и помещать себя внутрь воображаемой цепи, чтобы убежать от пустоты и обрести выдуманную перспективу.
«Учитель должен обучить своего ученика… способности действовать не веря, не ожидая наград. Действовать только ради самого действия», – говорит дон Хуан (IV). С этой целью он заставлял Кастанеду выполнять множество «бессмысленных» действий:
«Абсурдные работы, типа укладки дров особым образом, окружение его дома непрерывной цепью концентрических кругов, нарисованных моим пальцем, переметание мусора из одного угла в другой и тому подобное, – вспоминает Карлос. – В эти задачи входили также и «домашние задания», например, носить белую шапку или всегда в первую очередь завязывать свой левый ботинок, или застегивать пояс всегда справа налево. <…>
После того, как он напомнил все те задания, которые давал мне, я сообразил, что, заставляя меня придерживаться бессмысленных распорядков, он действительно воплотил во мне идею действовать, не ожидая ничего взамен» (IV).
Такая установка неминуемо ведет к высокой степени отрешенности по отношению к собственной судьбе, что является обязательным элементом безупречности воина. «Он сказал, что если мне суждено погибнуть, то это должно случиться в борьбе, а не в сожалениях или чувстве жалости к себе. И не имеет значения, какой будет наша собственная судьба, пока мы лицом к лицу встречаем ее с предельной отрешенностью». (VIII).
Кроме того, отрешенность воина – быть может, единственная защита от возможного безумия. С точки зрения дона Хуана, эмоциональная вовлеченность в переживания измененных режимов восприятия вызывает патологическую фиксацию точки сборки в необычной позиции или ее неуправляемое движение, а это и есть в данном случае психическое заболевание.
«Безупречные воины никогда не становятся душевнобольными. Они пребывают в состоянии постоянной отрешенности. Я не раз говорил тебе: безупречный видящий может увидеть устрашающие миры, а в следующее мгновение – как ни в чем не бывало шутить и смеяться с друзьями и незнакомыми людьми» (VII).
Вы должны были заметить, как часто дон Хуан употребляет слово «трезвость» (sobriety). Он имеет в виду психологическое состояние, неразрывно связанное с отрешенностью и являющееся его продолжением. Неудивительно, что в данной традиции на трезвомыслии делается особый акцент, так что это качество превращается даже в определенную доктрину, отдельно разработанную и часто упоминаемую. Причина повышенного внимания к трезвости воина, возможно, заключена в горьком уроке, который был извлечен новыми видящими из судьбы древних индейских магов. Вспомним, как рассказывал об этом дон Хуан:
«После того как некоторые из этих людей научились видеть, а на это ушли столетия экспериментов с растениями силы, наиболее предприимчивые из них взялись за обучение видению других людей знания. И это стало началом их конца. С течением времени видящих становилось все больше и больше, но все они были одержимы тем, что видели, ибо то, что они видели, наполняло их благоговением и страхом. В конце концов одержимость их приобрела такие масштабы, что они перестали быть людьми знания. Мастерство их в искусстве видения стало необыкновенным, доходило даже до того, что они были способны управлять всем, что было в тех странных мирах, которые они созерцали. Но это не имело никакой практической ценности. Видение подорвало силу этих людей и сделало их одержимыми увиденным.
– Однако среди видящих были и такие, которым удалось избежать этой участи, – продолжал дон Хуан. – Это были великие люди. Несмотря на свое видение, они оставались людьми знания. Некоторые из них находили способы положительного использования видения и учили этому других людей. Я убежден, что под их руководством жители целых городов уходили в другие миры, чтобы никогда сюда не вернуться.
Те же видящие, которые умели только видеть, были обречены. И когда на их землю пришли завоеватели, они оказались такими же беззащитными, как и все остальные» (VII).
Таким образом, трезвость, дающая возможность не «увлекаться» увиденным, а продолжать работу по объективному постижению Реальности, оказывается вещью практически необходимой. Так что нет ничего удивительного в том, что подобные истории продолжают повторяться, постоянно обрекая мистиков на блуждания в мифах и галлюцинациях. Может быть, именно по этой причине мистические учения никак не могут поладить с наукой и часто вызывают у естествоиспытателей только чувство раздражения.
В «Беседах с Павитрой» Шри Ауробиндо, хорошо понимавший сложности такого рода, разъясняет причины кризиса Теософского Общества. Он использует при этом свою терминологию, выделяя различные планы бытия (витальный, ментальный и др.) как особые зоны восприятия:
«…Они никогда не выходили дальше витального плана (который в их терминологии соответствует плану астральному). Я также отбрасываю возможность мошенничества. Но здесь мы, возможно, имеем дело с непроизвольным самообманом (wilful self-direct), ведь на витальном плане видят то, что желают видеть ментально. Это сложное и чудесное царство, где истина и ложь безнадежно спутаны. Здесь все представляется в логичной, организованной и соблазнительной (но в конечном счете иллюзорной) форме.
Е. П. Б. (Е. П. Блаватская. – А. К.) была удивительной женщиной с мощными прозрениями, но у нее все как-то путалось, она не в состоянии была критически относиться к фактам психического опыта».
История повторяется непрерывно, и вышеприведенные слова Шри Ауробиндо можно было бы отнести к очень многим школам или направлениям мистического толка. Да и как могло быть иначе? Страх перед Непостижимым заставляет человека концептуировать, формализовать любой перцептивный опыт, чем и заканчивается его «общение» с Реальностью, не успев еще толком начаться. Дальнейшее – только бесконечное повторение избранного способа галлюцинировать, победа тоналя в расширенном поле восприятия, т. е. сведение к нулю всех предыдущих достижений.
Дон-хуановский воин, вооруженный трезвостью, выбирает другую установку – на первый взгляд, парадоксальную, но тем не менее самую эффективную и прагматичную для дела познания. Воин «верит не веря», «принимает не принимая». Опорой для подобной установки оказывается то, что все элементы его «острова тональ» уже перемещены на сторону разума. Иными словами, его критические способности без ущерба для целостности картины мира могут быть распространены на любой перцептивный факт. («Моей задачей было разделить твою обычную картину мира: не уничтожить ее, а заставить перекатиться на сторону разума» (IV).) Поскольку мы всегда в неведении по поводу масштабов искажений, которые тональ накладывает на восприятие, остается только один разумный подход – «путь воина».
«Есть три рода плохих привычек, которыми мы пользуемся вновь и вновь, сталкиваясь с необычными жизненными ситуациями. Во-первых, мы можем отрицать очевидное и чувствовать себя при этом так, словно ничего не случилось. Это – путь фанатика. Второе – мы можем все принимать за чистую монету, как если бы мы знали, что происходит. Это – путь религиозного человека. И третье – мы можем приходить в замешательство перед событием, когда мы не можем ни искренне отбросить его, ни искренне принять. Это путь дурака. Не твой ли? Есть четвертый, правильный – путь воина. Воин действует так, как если бы никогда ничего не случалось, потому что он ни во что не верит. И, однако же, он все принимает за чистую монету. Он принимает не принимая и отбрасывает не отбрасывая. Он никогда не чувствует себя знающим, и в то же время никогда не чувствует себя так, как если бы ничего не случалось» (IV).
Воин – это человек, сочетающий в себе, казалось бы, несовместимые качества – здравый смысл и открытость любым видам мистического, иррационального, необъяснимого. Его разумность и умеренный скептицизм не превращаются в косность и слепоту рационалиста, потому что имеют иную психологическую природу. Воин ничто не абсолютизирует, он беспристрастен и способен трезво взглянуть как на безрассудные восторги мистика, так и на тупую ограниченность рациональности. Он верит в то, что делает, но это особенная вера, не имеющая ничего общего с догматизмом и религиозностью, ибо в его вере нет ни страха, ни амбиций, ни стремления обрести убежище.
«Воин должен быть текучим и изменяться в гармонии с окружающим миром, будь это мир разума или мир воли (т. е. мир тоналя или нагуаля. – А. К.).
Реальная опасность для воина возникает тогда, когда выясняется, что мир – это ни то и ни другое. Считается, что единственный выход из этой критической ситуации – продолжать действовать так, как если бы ты верил.
Другими словами, секрет воина в том, что он верит не веря. Разумеется, воин не может просто сказать, что он верит, и на этом успокоиться. Это было бы слишком легко. Простая вера устранила бы его от анализа ситуации.
Во всех случаях, когда воин должен связать себя с верой, он делает это по собственному выбору, как выражение своего внутреннего предрасположения. Воин не верит, воин должен верить» (IV) (курсив мой. – А. К.).
Видение, позволяющее бесконечно расширять диапазон воспринимаемых энергетических полей мироздания, – это серьезное испытание на прочность.
Если, добившись видения, мы сохранили какие-то пристрастия, предпочтения, предрассудки, очень легко не только впасть в иллюзию, но и поддаться искушению – свернуть с пути, приметив для себя удобную гавань, как это сделал, например, «бросивший вызов смерти» – маг, продлевающий свою жизнь за счет чужой энергии (см. книги VIII и IX), или те древние видящие, что навсегда приковали себя к энергетической форме «союзника», чтобы обрести невиданную долговечность этих неорганических существ. Каждый значительный сдвиг точки сборки таит в себе разного рода искушения и соблазны, а воин ищет только свободу. Это единственный путь, по которому можно прийти к высшей реализации. Собственно говоря, свобода (подлинная, всеохватывающая, безграничная) и есть та самая «высшая реализация» – разве не так?
«При каждом удобном случае дон Хуан любил повторять, что если точка сборки сдвигалась кем-либо, кто не только видел, но еще и имел достаточно энергии для того, чтобы привести ее в движение, то она могла скользить внутри светящегося кокона в то положение, куда ее направляли. Ее свечения было достаточно, чтобы воспламенить нитевидные энергетические поля при соприкосновении с ними. Результирующее восприятие мира оказывалось таким же полным, как обычное восприятие повседневной жизни, но отличным от него.
Поэтому при перемещении точки сборки решающее значение имеет трезвость» (VIII).
И все же мы возвращаемся к странной и неизбывной тоске, то и дело накатывающей на воина, сопровождающей его в трезвой и отрешенной жизни. О природе этого чувства стоит подумать. Удивительно, но тоска рождается как некое объединяющее чувство, как натянутая струна между утраченным и обретенным. Мир ординарного сознания (мир «утраченный») упрямо присутствует перед нами повсюду – мы удалены от него, отстранены новым внутренним чувством, но вынуждены свидетельствовать его близкую, до боли знакомую маету, которая продолжается в монотонном пространстве этой жизни.
И это свидетельство преисполнено печали. Мир нового откровения (мир «обретенный»), вопреки профаническому представлению, вовсе не осыпает нас всевозможными «благами» духа и не предоставляет всю необоримую свою полноту, все свои запредельные восторги. Мир «обретенный» – это, прежде всего, дорога, медленно и скупо расстилающая перед нами свои ландшафты, это томительное ожидание следующего шага, это тоска по Реальности, на которую мы глядим пока только мельком, украдкой, узнаем лишь частично, желая жить ею в полную силу, погрузиться целиком, безоговорочно, навсегда.
Мир «обретенный» – это ожидание Реальности («воин ждет, и он знает, чего ждет»). Ожидание, которое неразлучно с печалью, тоской, ностальгией.
Желание жить свойственно всему живому. Для воина жизнь – это способность воспринимать, постигать и переживать все большие объемы раскрывающейся Реальности. Для обычного человека жизнь – это способность овладевать, подавлять, управлять, получать удовольствие. Невозможно уйти от экспансии жизни. Это способ нашего движения, способ нашего бытия, подразумевающий тоску. Пока мы движемся, мы тоскуем, так как пребываем всегда между чем-то уже утраченным и чем-то еще не обретенным. Обычный человек избегает тоски, регулярно останавливаясь в процессе жизни. Но воин не может остановиться – у него слишком мало времени.
Печаль от соприкосновения с Реальностью – чувство куда более масштабное и трагическое, чем ностальгия по утраченному комфорту ограниченного бытия. Если одно лишь представление о Реальности способно смутить беспечность нашего существования, то действительное восприятие ее поистине сокрушительно.
«Дон Хуан заметил, что для воина совершенно естественно испытывать печаль без каких бы то ни было явных причин. Видящие говорят, что светящееся яйцо как поле энергии начинает чувствовать окончательность своего предназначения, едва лишь нарушены границы известного. Одного краткого взгляда на вечность за пределами кокона достаточно для разрушения того чувства внутренней благоустроенности, которое дает нам инвентаризация. В результате возникает меланхолия, настолько сильная, что может даже привести к смерти.
<…> Нет более глубокого одиночества, чем одиночество вечности. И нет ничего более уютного и удобного для нас, чем быть человеческими существами. Вот тебе еще одно противоречие: как, оставаясь человеком, радостно и целеустремленно погрузиться в одиночество вечности? Когда тебе удастся решить эту головоломку, ты будешь готов к решающему путешествию» (VII).
Даосы тоже знали это чувство. В. Малявин, рассуждая о чувстве печали в даосизме, пишет: «Неизбывное и беспричинное, оно превосходит все другие чувства. Чтобы увидеть его исток, нужно вспомнить, что даосский покой пустоты предполагает степень отстраненности, недостижимую для рассудочного мышления. Даосское видение соответствует абсолютно покойному созерцанию самого семени движения мира, созерцанию жизни вещей как абсолютно быстротечного и мимолетного. И печаль, внезапно открывшаяся Юй Синю, сопоставима с тем, что Хайдеггер называл «болью слова» – неисцелимой поэтической болью, сопутствующей сознанию ненужности представлять вещи обычными именами, ведь все сказанное – только метафора. Эта боль – неизбежная спутница внутренней отрешенности от ограниченных форм жизни. Но онтологическая «боль слова», согласно Хайдеггеру, предполагает нерасторжимое единство радости и печали. Человек печален, отстраняясь от мира и созерцая близкое как бы издалека. И он испытывает радость, открывая в отстраненности высшее единство и прозревая далекое в близком»[3]3
В. Малявин. Чжуан-цзы. С. 213.
[Закрыть].
Это непередаваемое ощущение печали и радости, сливающихся в чем-то ином, сродни тому чувству дерзости, о котором сказал дон Хуан:
«Воистину, человеческие существа ничтожны, дон Хуан, – произнес я.
– Я совершенно точно знаю, о чем ты думаешь, – сказал он. – Совершенно верно, мы – ничтожны. Однако именно в этом и состоит наш решающий вызов.
Мы – ничтожества – действительно способны встретиться лицом к лицу с одиночеством вечности» (VII).
«Научившись видеть, человек обнаруживает, что одинок в мире. Больше нет никого и ничего, кроме той глупости, о которой мы говорим», – сказал дон Хуан в другой книге (II).
И когда наступил момент окончательной разлуки с доном Хуаном и доном Хенаро, Карлос с особой остротой пережил свое экзистенциальное одиночество, куда более страшное, чем одиночество обычного человека.
«Мы все одиноки, Карлитос, – сказал дон Хенаро мягко, – и это наше условие.
Я ощутил в горле боль привязанности к жизни и к тем, кто был близок мне. Я не хотел прощаться с ними.
– Мы одиноки, – сказал дон Хуан. – Но умереть одному – это не значит умереть в одиночестве» (IV).
Быть может, кому-нибудь печаль и тоска покажутся вовсе не обязательными чувствами на пути дона Хуана; возможно, кто-нибудь решит, что эту неприятную сторону можно как-то обойти и добраться до цели, не расставаясь с блаженством и покоем. На наш взгляд, это вряд ли возможно.
Более того, в приступах печали дон Хуан даже склонен видеть верное доказательство движения по пути. Например, однажды Кастанеда пожаловался учителю, что «не хочет больше жить». В ответ маги принялись радостно хохотать. «Чем большим было мое отчаяние, тем сильнее они веселились.
Наконец, дон Хуан сдвинул меня в состояние повышенного осознания и объяснил, что их смех вовсе не злорадство или проявление странного чувства юмора. Они смеялись от переполнявшей их радости за меня, потому что видели, что мне удалось продвинуться далеко вперед по пути знания» (VII).
Дон Хуан сказал: «То, что происходит с тобой, случается с каждым, кто накопил достаточно энергии и смог заглянуть в неизвестное.
Нагваль Хулиан говорил им, что они изгнаны из дома, в котором провели всю свою жизнь. Результатом накопления энергии явилось разрушение гнезда – такого уютного, но сковывающего и скучного – в мире обыденной жизни. И подавленность их, по словам нагваля Хулиана, была не печалью потерявших старый дом, но печалью обреченных на поиски нового» (VII).
Все приведенные выше примеры как раз доказывают, что безупречность ни в коем случае не связана с эмоциональным отупением. Напротив, это новое психическое состояние обостряет не только восприятие, но и наше реагирование на него. Здесь все в несколько ином свете, все переживается «под знаком вечности», но сила чувствования от этого только возрастает, приобретая специфическую утонченность и окраску. Недаром тибетский проповедник Калачакры Чогьям Трунгпа пишет так: «Чтобы оказаться хорошим воином, нужно иметь печальное и нежное сердце. Если человек не ощущает одиночества и печали, он совсем не может быть воином».
Здесь мы вправе спросить: что же удерживает воина на этом одиноком, отрешенном и печальном пути? Способен ли он испытывать подлинную радость от общения с миром, есть ли в этом пути хоть что-то, искупающее страдания и тоску, помимо далеких приключений в устрашающих мирах нагуаля? Этот же вопрос задавал себе и сам дон Хуан: «Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь; если нет, то от него никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого – нет. Один путь делает путешествие по нему радостным: сколько ни странствовать, ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, другой – уничтожает тебя» (I).
И здесь, как ни странно, на помощь воину приходит любовь. Это вполне естественное чувство, когда глаза ваши наконец прозрели и вы сподобились увидеть чудо и красоту мира. Эгоистическое сознание, озабоченное только собой, ропщет, жалуется, стонет, скучает, наконец, – ему нет дела до великолепия окружающей его вселенной, до этой восхитительной земли, повсюду разметавшей свой сокровенный и непостижимый блеск, изобилие, очарование… Эти сокровища открыты теперь взору, и воин принимает их как дар, с почтением и любовью. Мир более не является оппонентом, врагом, пассивной средой, требующей покорения, переделки, «благоустройства». Мир прекрасен сам по себе, помимо человека, и воин любит его самой чистой любовью, потому что ничего от мира не хочет.
«Любовь Хенаро – этот мир, – сказал он. – Только что он обнимал эту огромную землю, но из-за того, что он такой маленький, он может только плавать в ней. Но земля знает, что Хенаро любит ее, и дарит ему свою заботу. Вот почему жизнь Хенаро полна до краев, и, где бы он ни был, он всегда будет иметь это богатство. Хенаро странствует по дорогам своей любви, и повсюду ощущает свою полноту.
Дон Хуан присел перед нами на корточки. Он нежно погладил землю.
– Это предрасположение двух воинов, – сказал он. – Эта земля, этот мир. Для воина нет большей любви.
Дон Хенаро поднялся и присел рядом с доном Хуаном на какое-то мгновение, в течение которого они пристально глядели на нас, а затем одновременно сели, скрестив ноги.
– Только если любишь эту землю с неизменной страстью, можешь освободиться от своей печали, – сказан дон Хуан. – Воин всегда весел, потому что любовь его неизменна, и земля, его возлюбленная, обнимает его, осыпая непостижимыми дарами. Печаль принадлежит только тому, кто ненавидит то самое, что дает ему убежище.
Дон Хуан снова с нежностью погладил землю.
– Это прекрасное существо, живое до самой последней черточки своей, понимающее любое чувство, утешило меня, исцелило меня от боли, а в конечном счете, когда я окончательно понял свою любовь к нему, научило меня свободе» (IV).
Так, между радостью и печалью, между отрешенностью и любовью странствует великое воинство толтеков. Это сочетание печали и восторга, боли и благоговения действительно напоминает влюбленность. Чогьям Трунгпа отмечает эту особенность и в тибетском «пути воина»:
«Переживание возвышенности мира – это радостная ситуация, однако она также приносит печаль. Она подобна влюбленности. Когда вы влюблены, присутствие возлюбленной приносит одновременно восторг и сильную боль».
Этот же автор напоминает о другом, не менее важном моменте – о том, что только радость позволит адепту пройти путь до конца. Не война с самим собой, а радость и любовь делают возможными высшие достижения безупречности.
«…В прошлом мы видели, как некоторые люди пытались стать воинами при помощи напряженного усилия. Но результатом оказывалось дальнейшее смятение, когда такой человек открывал в себе целые залежи проблем и некомпетентности. Если вы не чувствуете радости, не ощущаете магического характера практики, то вам кажется, что вы просто наткнулись на высокую стену безумия».
В самой первой книге Кастанеды («Учение дона Хуана») учитель поведал Карлосу о так называемых «врагах человека знания». Их четыре – страх, ясность, сила и старость. Все то, о чем мы говорили в этом разделе, оказывается могущественной защитой перед этими «врагами». Пока воин «верит, не веря», «принимает, не принимая», ясность не победит его. Он никогда не придет к выводу, что постиг суть всех вещей, и не превратится в пленника этой иллюзии. Пока воин способен испытывать печаль и отрешенность, а пуще всего – любовь, сила не ослепит его. («Это – самый грозный враг…. Ведь в конце концов ее обладатель действительно непобедим. Он хозяин, который вначале идет на обдуманный риск, а кончает тем, что устанавливает закон, потому что он – хозяин… Он превращен своим врагом в жестокого, капризного человека» (I).)
Ну а старость – печальная пора слабости и угасания – не сможет вступить в свои права, если столкнется с подлинным, высоким беспристрастием воина. Ибо беспристрастие рождает свободу, а свобода указывает путь к бессмертию.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?