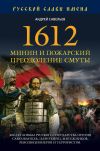Текст книги "Мясницкая. Прогулки по старой Москве"

Автор книги: Алексей Митрофанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Партизаны
Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому (Красная площадь) работы скульптора И. Мартоса. Открыт перед зданием Верхних торговых рядов в 1818 году, перенесен к храму Василия Блаженного в 1931 году.
Пожалуй, всем без исключения известен памятник Минину и Пожарскому, без малого два века украшающий московскую Красную площадь. Но мало кто знает, что памятник этот был предназначен для Нижнего Новгорода.
Идею памятника первым высказал забытый в наши дни Василий Попугаев, литератор. Произошло это в 1803 году. А уже спустя год скульптор Мартос выставил на обозрение макет своего памятника двум российским патриотам. Он сообщал: «Сия модель была выставлена в открытие Академии для суждения публики, а после того и в моей мастерской многие особы ее видели, от которых, подобно как и от всей публики, я имел получить отзыв весьма одобрительный не только в рассуждении сочинения монумента, но и предприятия к произведению его в действо».
Идею же памятника автор комментировал следующим образом: «Минин устремляется на спасение Отечества, схватывает своей правой рукой руку Пожарского – в знак их единомыслия – и левой рукой показывает ему Москву на краю гибели».
В 1809 году официально начался сбор денег на установку памятника. Тогда еще ни у кого не вызывало никаких сомнений – Минину с Пожарским предстоит обосноваться в Нижнем Новгороде. Нужная сумма была собрана, после чего прошел творческий конкурс, в котором победил все тот же Мартос. Он-то и настоял на том, чтобы поставить монумент в Москве.
Нижегородцы огорчились. Тем более уже готовую статую отправили в Москву по Волге, и в Нижнем Новгороде, будто бы в насмешку, сделали остановку и торжественную демонстрацию мартовского произведения. «Никакое перо не может изобразить, в какое восхищение приведены как некие горожане, так и всего здешнего края жители появлением в здешних водах столь знаменитого памятника согражданину своему», – писал один из очевидцев.
Чтобы утешить обделенных жителей Нижнего Новгорода, было принято решение поставить что-нибудь и здесь. Конечно же, нижегородское сооружение было скромнее – просто обелиск. Однако же и с обелиском вдруг возникли сложности.
В то время в Нижнем подвизался столичный инженер-строитель А. А. Бетанкур. Естественно, что городские власти обратились именно к нему за консультацией – где ставить памятник. Ответ Августина Августиновича всех обескуражил. По мнению его, площадь против присутственных мест в Нижнем Новгороде есть единственное место, где обелиск поставлен быть может, но все здания, окружающие ту площадь, в бывший пожар сгорели.
Почти десятилетие нижегородцы обсуждали, где поставить памятник героям-ополченцам. В конце концов выбрали кремль. Но по дороге обелиск случайно раскололся на две части. Проживавший тогда в городе поэт Тарас Шевченко, недовольный памятником, позлорадствовал: «Приношение благодарного потомства гражданину Минину и князю Пожарскому – конечно, позорящее неблагодарное потомство приношение. Утешительно, что этот грошовый обелиск уже переломился».
Однако памятник заклеили, и он до сих пор возвышается посередине Нижегородского кремля. Гораздо большей популярностью пользуется памятник герою Минину, поставленный позже на площади, носящей его имя. Именно здесь горожане назначают свидания. Придти на встречу к старому поломанному обелиску никому и в голову-то не приходит.
* * *
В Москве тоже не все было складно. Первоначально памятник предполагалось поставить на Страстной площади. Затем выбрали Красную площадь. При этом император Александр I требовал, чтобы монумент установили посреди площади, спиной к Кремлю. Но скульптор его переубедил. Мартос вспоминал впоследствии: «Услышав сие, я доказал всю неудобность сего дела, ибо площадь, которая теперь чиста и открыта для проезда, будет загромождена, а монумент потеряет свой вид, потому что езда будет сзади его и очень близко, и что по сюжету он должен быть поставлен лицом к Кремлю».
Открытие было торжественным. Газеты информировали: «Во время сего торжественного обряда стечение жителей было неимоверное; все лавки, крыши Гостиного двора, лавки, устроенные нарочно для дворянства около Кремлевской стены, и самые башни Кремля были усыпаны народом, жаждущим насладиться сим новым и необыкновенным зрелищем».
О памятнике сразу же заговорили. Более того, он стал главным героем переписки москвичей. В день открытия «Минина и Пожарского» Василий Львович Пушкин (дядюшка поэта А. С. Пушкина) сообщал Петру Андреевичу Вяземскому: «Я не выдержал и поехал посмотреть на монумент. Сие произведение достойно славных времен Греции и Рима. Я ничего не видел подобного. Стечение народа было многочисленное… Я слышал много любопытного. Один толстый мужик с рыжею бородою говорил своему соседу: Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел.
Другой: В старину ходили по Руси босиком, а на нас немецкие сапоги надели.
Третий: Прославляется Матушка Москва каменная! Таких чудес еще и не бывало! Час от часу все у нас краше! И точно, правда! Через десять лет Москва будет украшением нашего отечества».
А в книге «Москва, или Исторический путеводитель по знаменитой столице государства Российского» было написано: «Бедствие 1812 года оживило в памяти бедствия 1612 года, и монумент сей будет служить потомству памятником обеих достославных эпох».
Как-то уже забылось, что установить тот монумент решили еще до войны с Наполеоном. Многим казалось, что на самом деле это памятник событиям недавних лет, а Минин и Пожарский – просто аллегория.
Описание монумента, конечно же, вошло в путеводители по городу. А. Ф. Малиновский писал в 1826 году в книге «Обозрение Москвы»: «Колоссальное изображение боярина князя Пожарского и нижегородского жителя Козьмы Минина… Торжественное открытие сего первого гражданского в Москве памятника воспоследовало 20 февраля 1818 года в присутствии самого государя императора и государынь императриц при бесчисленном скоплении народа. Лишь только завеса упала и открылись лики оживленных в металле мужей, то с загремевшею военною музыкою раздалось радостное „ура“ от жителей Москвы, ожидавших с благоговением сей минуты. Многократно повторенные восклицания принадлежали герою-монарху, чтущему и за пределами гроба подвиги, подъятые для отечества».
Не обошлось и без стихов. Н. В. Станюкович сочинил четверостишие «Надпись к памятнику Пожарского и Минина»:
Сыны отечества, кем хищный враг попран,
Вы русский трон спасли, – вам слава достоянье!
Вам лучший памятник – признательность граждан,
Вам монумент – Руси святой существованье!
А также и без критиков. В частности, Виссарион Белинский написал о памятнике в письме «Журнал моей поездки в Москву и пребывание в оной»: «Когда я прохожу мимо этого монумента, когда я рассматриваю его, друзья мои, что со мной тогда делается! Какие священные минуты доставляет мне это изваяние! Волосы дыбом поднимаются на голове моей, кровь быстро стремится по жилам, священным трепетом исполняется все существо мое, и холод пробегает по телу. Вот, думаю я, вот два вечно сонных исполина веков, обессмертившие имена свои пламенной любовью к милой родине. Они всем жертвовали ей: имением, жизнью, кровью. Когда отечество их находилось на краю пропасти, когда поляки овладели матушкой Москвой, когда вероломный король их брал города русские, они одни решились спасти ее… – и спасли погибающую отчизну. Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их не исчезнут в океане вечности».
Чуть позже поэт Н. А. Некрасов подавал работу Мартоса как основную достопримечательность Москвы:
Достойный град! Там Минин и Пожарский
Торжественно стоят на площади.
По-настоящему критиковали, то есть поругивали новенький памятник немногие. А. С. Пушкин писал в «Примечании о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину», что надпись на постаменте «конечно, не удовлетворительна: он для нас или мещанин Косма Минин по прозвищу Сухорукой, или думный дворянин Косма Минич Сухорукой, или наконец, Кузьма Минин, выборный человек от всего Московского Государства, как назван он в грамоте о избрании Михаила Федоровича Романова».
А такой до неприличия язвительный автор, как француз маркиз де Кюстин, отметил: «Выйдя из ворот… на небольшую площадь, видишь бронзовый памятник, изваянный в очень скверном, так называемом псевдоклассическом вкусе. Мне показалось, будто я попал в Лувр, в мастерскую посредственного скульптора времен Империи. Памятник изображает в виде двух римлян Минина и Пожарского, спасителей России, которую они освободили от господства поляков в начале XVII века: нетрудно догадаться, что римская тога – не самый подходящий костюм для подобных героев!.. Нынче эта пара в большой моде».
Словом, довольно быстро вокруг памятника создан был целый пантеон стихов, статей и устных отзывов. Образовался своего рода литературный памятник памятнику скульптурному.
Дело, в общем, не редкое в русской истории. У нас статуи любят.
* * *
Памятник, как водится, со временем пришел в негодность. Бытописатель И. Ф. Горбунов писал в 1875 году: «Вот некогда чтимый памятник Минину и Пожарскому. Надпись на нем обветшала и осыпалась, самый же памятник окружен ломовыми извозчиками и мелкими торговцами, что и препятствует ему быть величественным».
Другой литератор, И. Беляев примечал: «Старинные городские ряды были темны, грязны и узки. По фасаду, против памятника Минину и Пожарскому, выступали круглые обветшавшие колонны, за которыми виднелся целый ряд торговцев с ящиками, кричавших: „Пирожки горячие! Пожалуйте, господа!“»
Впрочем, еще сорока годами раньше поэт Лермонтов упоминал: «…суетятся булошники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину…»
Что поделать, в русском быту пафос и торжественность вечно соседствуют с чем-нибудь этаким. Но несмотря на это, идеологическая функция, которую был признан выполнять этот скульптурный памятник, не принижалась. В те же времена И. К. Кондратьев написал о Минине с Пожарским в книге «Седая старина Москвы»: «…Значение его для нас, русских, велико бесконечно. Такого памятника нет ни на одной из площадей Европы».
А ближе к концу позапрошлого столетия появилась симпатичная традиция – вокруг памятника заливали главный в городе каток. Каток был одним из самых модных мест Москвы, и вместе с тем местом весьма демократичным. Тут сталкивалось (по неопытности, неуклюжести) и благородное дворянство, и именитое купечество, и самый что ни на есть простой рабочий люд. Для того чтобы предупреждать возможные скандалы, власти выделили нескольких конных жандармов, которые величественно возвышались над любителями-конькобежцами. Жандармы были стройными и молодыми, затянутыми в синие роскошные мундиры, в касках с черными сутанами. Барышни на них засматривались… В результате столкновений на катке сделалось только больше.
* * *
После революции памятник сразу же включили в число монументов Москвы, имеющих историческую ценность. Хотя один из фигурантов, а именно Пожарский, был князем, а следовательно, эксплуататором, памятник сносить не стали. Более того, у скульптуры появились новые, молодые воспеватели: к примеру, поэт М. Герасимов, сказавший:
Как вольно над Москвой-рекою
Взлетают вешние стрижи.
А Минин с поднятой рукою
Стоит у роковой межи.
Глядит на главы золотые,
На эти раны лобных мест, —
Россия, как в года седые,
Пригвождена на красный крест.
А другой поэт, Н. Кузнецов писал в стихотворении «Красная площадь»:
Каждый раз,
Когда сегодняшнее станет вчерашним
И укутается в тучах луна,
Минин с Пожарским под музыку башни
Поют «Интернационал».
Разве что Джек Алтаузен бубнил:
Я предлагаю Минина расплавить,
Пожарского. Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников славить,
Их за прилавками Октябрь застал.
Случайно им мы не свернули шею,
Я знаю, это было бы под стать.
Подумаешь, они спасли Расею!
А может, лучше было не спасать?
Но он был одинок в своих сомнениях.
Памятник странным образом вошел в фольклор. После революции бывали случаи, когда подвыпившие граждане становились перед памятником в позу Минина, показывали рукой на Кремль и декламировали:
Смотри-ка, князь, какая мразь
В стенах кремлевских развелась.
В 1931 году памятник, мешавший демонстрантам, проходившим по Красной площади, перенесли за ограду храма Василия Блаженного. В результате Минин стал показывать Пожарскому рукой не на Кремль, а на пространство перед ГУМом. Говорили, что тем самым он напоминает князю: «Вот где мы стояли раньше».
А может быть, Минин теперь показывал рукой не только на старое место памятника, но и на Мавзолей Ленина? И подвыпившие граждане шептали:
Смотри-ка, князь, какая мразь
У стен кремлевских улеглась.
Естественно, за эту фразу можно было схлопотать немалый срок.
Кстати, традиция «озвучивать» беднягу Минина возникла еще задолго до революции. Николай Дмитриевич Телешов писал об этом: «Хорошо помню я этот памятник, передвинутый в настоящее время к древнему собору Василия Блаженного. Он стоял, окруженный сквозной невысокой решеткой, обращенный тыловой стороной к рядам; правая рука гражданина Минина, протянутая во всю длину, указывала на Кремлевскую стену, за которой возвышалось громадное здание Окружного суда с круглой невысокой колонкой над крышей, на колонке была золотая надпись «Закон», и увенчана она была сверху царской короной, что было символом российского закона и означало эмблему высшей справедливости…
Глядя на протянутую руку Минина, указующую на столб в короне и на золотую надпись «Закон», прохожие нередко утешали друг друга пословицей:
– Закон – паутина: шмель проскочит, а муха увязнет!»
Кстати, большинство представителей интеллигенции пусть и пассивно, но все-таки осудило перенос этого монумента. Евгений Замятин, к примеру, писал: «Москва с прежними памятниками обращается более непринужденно: так, года два назад старые москвичи с изумлением увидели, что памятник Минину и Пожарскому переселился со своего места поближе к собору Василия Блаженного».
Но интеллигентов, ясное дело, никто не послушал.
Первый русский вуз
Заиконоспасский монастырь (Никольская улица, 7). Основан царем Борисом Годуновым в 1600 году.
Этот монастырь – один из самых знаменитых в нашем государстве. Он был так назван потому, что находился за Иконным рядом, главный же храм его был посвящен Спасу Нерукотворному. Известен он первым делом не молитвами, не службами, не подвигами братии во имя Господа, а учреждением почти что светским, но располагавшимся именно в монастырских стенах. Это Славяно-греко-латинская академия – первое в России высшее учебное учреждение. Оно было открыто в 1685 году греческими учеными, братьями Софронием и Иоанакием Лихудами. Первый набор состоял из тридцати человек – в том числе, Афанасия Кириллова, Николая Семенова, Федора Поликарпова, Федора Агеева, Иосифа Афанасьева и монаха Иова из Чудова монастыря. Обучали их в первую очередь искусству типографскому (что неудивительно – незадолго до этого в России начали печатать книги), а также диалектике, риторике, грамматике, пиитике, логике и, на всякий случай, физике. Русская речь в стенах академии не звучала – преподавание велось на греческом и на латыни.
С набором преподавательского состава особо не мудрили: ректором академии был сам настоятель Заиконоспасского монастыря, преподавали же монахи, особо преуспевшие в науках.
Помимо обучения, ректор и преподавательская братия занимались, так сказать, жизнью общественной. В частности, именно в академию приносили найденные в городе «волшебные тетради» – списки с гаданиями, суевериями и приметами. Обладателей таких «тетрадей» первым делом, разумеется, секли плетьми. Затем их отсылали к ректору – на так называемое «увещевание». Можно себе представить, как эти «увещевания» проходили. Вероятнее всего, и здесь не обходилось без физического «поучения».
Впрочем, случались и курьезные истории. Однажды, например, к ректору Гедеону прислан был для «увещевания» некто Василий сын Данилов, дворовый князей Долгоруковых. Суть дела состояла в том, что бедного Данилова науськал дьявол, после чего Василий украл у хозяина золотую ризу от иконы Богоматери. Данилов попался и долго упрашивал дьявола, чтобы тот выручил его из неприятности, помог вернуть свободу. Однако дьявол то ли не услышал просьб своего нового слуги, то ли не справился с русской полицией – во всяком случае, оставил все как есть.
Василия «увещевали» пару дней, после чего вернули в руки правосудия. Там его ждало другое наказание, светское. Дьявол явно бросил бедолагу на произвол судьбы.
В другой же раз к новому ректору, Порфирию, был прислан Яков Несмеянов, студент Санкт-Петербургской академии наук. Тот, в соответствии со своей редкостной фамилией, «впал в меланхолию». Несмеянова сопровождала бумага: «Определя его к кому из учителей, велеть разговаривать и увещевать, и притом усматривать, не имеет ли он в Законе Божии какого сумнения». Чем закончился этот экзамен – неизвестно.
Учащиеся академии переводили с итальянского, французского и прочих языков духовные мистерии, после чего сами разыгрывали их в трапезных, а также рекреационных залах. Занимались и сомнительным с религиозной точки зрения делом – переводили тексты для светских спектаклей, которые иной раз ставились поблизости, на Красной площади.
И это притом, что общение с театральными людьми вряд ли способствовало благостному состоянию духа. Вот, например, один из документов, характеризующих московских лицедеев: «Ученики комедианты русские без указу ходят всегда с шпагами, и многие не в шпажных поясах, но в руках носят и непрестанно по гостям в нощные времена ходя пьют. И в рядах у торговых людей товары емлят в долги, а денег не платят. И всякие задоры с теми торговыми и иных чинов людьми чинят, придираясь к бесчестию, чтоб с них что взять нахально. И для тех взяток ищут бесчестий своих и тех людей волочат и убыточат в разных приказах, мимо государственного посольского приказу, где они ведомы. И, взяв с тех людей взятки, мирятся, не дожидаясь по тем делам указу, а иным торговым людям бороды режут для таких же взяток».
Учащиеся академии практически ничем не рисковали – исключали из этого учреждения лишь в редких случаях. На этот счет существовал особый тест: «Буде покажется детина непобедимой злобы, свирепый, до драки скорый, клеветник, непокорив и, буде через годовое время ни увещевании, ни жестокими наказаниями одолеть ему невозможно, хотя бы и остроумен был, выслать из академии, чтобы бешеному меча не дать».
Мало кто подходил под столь строгие требования.
Самым знаменитым из учеников Славяно-греко-латинской академии был замечательный русский ученый, а в то время бедный и ничем особенно не примечательный провинциал Михайло Ломоносов. Будущий российский гений, как известно, пришел в Москву 19 лет от роду, пешком, с рыбным обозом из архангельской глубинки. Здесь он скрыл свое крестьянское происхождение, представившись дворянским сыном, и поступил в академию – для простонародья путь в это элитное образовательное учреждение был закрыт.
Сам он так писал о годах своего обучения: «Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающия от наук пресильныя стремления, которыя в тогдашния лета почти непреодоленную силу имели… Несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другия нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил».
Были и проблемы, связанные с возрастом: «Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смотри де, какой болван лет в двадцать пришел латыни учиться».
Тем не менее «великовозрастный» провинциал сразу продемонстрировал недюжинный талант. Михайло Ломоносов был первым по успехам, и учителя, как правило, ставили ему «прекрасно». Например – за первое его стихотворение:
Услыхали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели;
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах, плачут убоги,
Меду полизали,
А сами пропали.
Впрочем, поговаривают, что обман по поводу происхождения был актом символическим. Дескать, Михайло Ломоносов был внебрачным сыном самого Петра Великого – и на лицо похож, и статью вышел, и умом, да и предполагаемый отец в нужное время находился в нужном месте. Руководство академии об этом если и наверняка не знало, то, во всяком случае, догадывалось. Царскому сыну, пусть даже внебрачному, были открыты все пути.
Впоследствии Михайло Ломоносов посвятил Петру Великому одну из своих од:
Се образ изваян премудрого Героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил.
И это лишь усилило подозрения.
Михайло Ломоносов много преуспел в науках и даже основал московский университет. Пушкин же говорил, что он «сам был первым нашим университетом». У Александра Сергеевича были к тому основания.
Основным «местом службы» Ломоносова была Императорская академия наук в Санкт-Петербурге. Он был одним из самых неуживчивых ее сотрудников. Мало того что русское светило был большим любителем крепких напитков (говорят, что Ломоносов как-то раз пропил в ближайшем кабаке академический хронометр), – он пользовался репутацией отчаянного скандалиста. Однажды обер-камергер Шувалов заявил ученому:
– Мы отставим тебя от Академии.
На что Ломоносов ответствовал:
– Нет. Разве что Академию отставите от меня.
И был абсолютно прав. Его действительно оставили на службе, хотя ученый не счел нужным менять свой характер и пристрастия.
Впрочем, не один Ломоносов сделал славу Славяно-греко-латинской академии на улице Никольской. В ней обучались архитектор Баженов, поэт Тредиаковский, автор первого в России учебника по арифметике Леонтий Магницкий…
Чуть ли не все российские ученые эпохи Ломоносова оканчивали академию при Заиконоспасском монастыре. И неудивительно – выбор учебных заведений был в то время не велик.
* * *
Все продолжалось тихо, мирно, благостно, пока в Москву не вошел император Бонапарт со своим войском. В этот момент наступили для братии черные времена. «История московского епархиального управления», изданная в 1871 году, сообщала: «В 1812 г. при Наполеоне оставшихся монахов в Заиконоспасском монастыре ограбили до наготы, заставляли их носить грузы. Иеромонах Виктор был брошен в реку Москву за Новинским монастырем, но он реку переплыл и ночевал среди кустов. Иеродиакон Вонифатий по дряхлости не мог носить груз, также брошен в реку. Иеродиакона Владимира заставляли носить груз нагого, потом, прикрыв его святым покровом, приводили в Кремль к королю Неаполитанскому. В нижней церкви были поставлены лошади, вместо ковров их покрывали ризами. В казначейской келии жили портные и шили мундиры. В книжных лавках француженка торговала вином и съестным, постель у нее была покрыта Плащаницей. От взрыва Арсенала в Кремле монастырь был покрыт кирпичами, бревнами, железными полосами и решетками. Стекла все выбило. Перед выходом из Москвы у неприятеля было плохо с продовольствием, ели один картофель, иногда стреляли галок и ворон».
Не посчастливилось и тем, кто обучался в стенах этого учреждения: «В Славяно-греко-латинской академии в 1812 г. осталось 5 учеников, их французы обратили в прислугу, за что довольствовали пищей. В покоях ректора поместился генерал, в покоях префекта его штаб, в классах швальня (портняжная мастерская – АМ.), на кухне пекли хлебы и отпускали в полки. От пожара здания уцелели. Неприятель расхитил медные деньги 1 950 руб. и годовой продовольственный запас: муку, крупу, дрова и проч. От кремлевских взрывов в классах и жилых покоях окна были выбиты, многие покои сделались непригодными к жилью».
По окончании войны с Наполеоном, в 1814 году, академия из полусветского-полудуховного учебного учреждения превратилась в богословское и приобрела новое название – Московская духовная академия. Тогда же ее перевели в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву лавру.
После революции 1917 года академию закрыли, но в 1943 году, на волне легкого православного ренессанса, она была восстановлена и поначалу размещалась в Новодевичьем мона-стыре. Однако спустя четыре года академию вновь разместили в Троице-Сергиевой Лавре. Там она и существует по сей день.
* * *
Между тем Заиконоспасский монастырь жил своей жизнью. Пользовался доброй славой среди москвичей – в первую очередь благодаря тому, что находился в самом центре, рядышком с Кремлем.
Но не только это привлекало сюда обывателей. В частности, купец П. В. Медведев в 1859 году писал: «Сходил к вечерне в Заиконоспасский монастырь. Вечерня идет здесь исполнительно. Поют стихиры празднуемому святому. Слушаешь и не наслушаешься, таково в душе хорошо, кажется, всем доволен».
Во время коронаций, когда по Никольской улице шли праздничные и нарядные процессии, монахи Заиконоспасского монастыря сдавали свои кельи внаем желающим зевакам. Правда, некоторые стеснялись получать за это деньги – брали чаем или же другим каким деликатесом.
А в одном из корпусов – из тех, что выходили на Никольскую, – действовал очень популярный магазин игрушек.
Впрочем, действовало здесь и учебное учреждение. Это была бурса все при той же академии, располагавшейся теперь в Сергиевом посаде. Нравы были довольно дикие. Один из бурсаков, историк церкви Н. П. Розанов, вспоминал: «Помню, например, как авдитор, т.е. старший ученик, слушавший выученный мною урок по греческой грамматике, воткнул мне в рот карандаш и в кровь расцарапал все небо за то, что я, по его мнению, нешироко открывал рот, и ему не было слышно всех слов, какие я произносил. Таска за волосы, битье по щекам, посылка на колени также были обычными способами воздействия со стороны начальствующих на учащихся. Особенным искусством таскать за волосы отличался наш смотритель Дионисий. Он имел сапоги на мягкой резиновой подошве и потому незаметно подходил сзади к задремавшему над книгой во время вечерних занятий ученику и начинал методически таскать его за волосы, начиная с затылка и все ближе и ближе пощипывая их по направлению ко лбу, добравшись до которого, он мгновенно хватал ученика за волосы всею рукою и ударял лбом о парту. „Учи, учи, мерзавец!“ – каким-то сладострастным шепотом внушал он прилежание одному ленивцу и потом незаметно подходил к другому для совершения такой же экзекуции, но с некоторыми, по-видимому, случайными вариациями. В минуты особого раздражения Дионисий отпускал тому или иному подвернувшемуся под руку ученику сильную пощечину или схватывал, и притом пребольно, как клещами, за ухо и драл его изо всей силы».
Ученики, однако же, терпели, ведь профессия священника в будущем обещала очень даже ощутимые блага.
Еще раз, уже после революции, монастырь, что называется, вошел в историю в 1922 году: здесь служил епископ Антонин, один из идеологов так называемой «живой», или же «обновленческой» церкви. Один из современников, В. Марцинковский вспоминал об этих службах: «Я был там вскоре после Пасхи. Присутствовали преимущественно мужчины. Служба шла на русском языке в переводе еп. Антонина. К служению он выходил из алтаря, уже в архиерейских ризах, отменив длинную церемонию облачения архиерея, что давало повод некоторым называть архиерейскую службу не Богослужением, а архиерееслужением. Видно было, с каким интересом прислушивались молящиеся к понятным русским словам, во многих из них как бы впервые открывая новые истины, которые оказывались очень близкими и важными (такие открытия особенно относились к кафизмам, стихирам, канонам, в которых и хорошо знающий церковнославянский язык не легко разберется)».
Время было смутное, невнятное. Обычный обыватель даже не предполагал, проснется он на следующий день в своей кровати или же в камере ЧК. А может, и вовсе поднимут на вилы опившиеся земледельцы из ближней деревни.
Но находились люди, верившие в то, что перемена власти – это к лучшему, что новые порядки дают новые, невиданные ранее возможности. К таким, разумеется, принадлежал и отец Антонин, стремившийся сделать церковную службу понятнее, проще, душевнее.
Тот же Марцинковский вспоминал об Антонине: «Евангелие он читал тоже по-русски, медленно, истово, с большим чувством; в это время он стоял на архиерейском возвышении, посреди церкви, лицом к народу. Вдруг раздается истерический визг «Господи! Какое кощунство!.. Спиной к алтарю Евангелие читает!»… Какая-то женщина не выносит подобного новшества; ее успокаивают, но она продолжает шуметь, нарушая благочиние – и прихожане выводят ее из церкви. Антонин продолжает читать, лишь раз обернувшись на крик, с огорчением на лице».
Да, епископ был подвижником, только верующим не хотелось перемен – их без того хватало в ту эпоху. Антонин вызывал лишь иронию и раздражение. И другой очевидец, москвич Н. П. Окунев, возмущался: «Кстати, об Антонине. Этот и себя разжаловал, то именовался „Митрополитом Московским“, а теперь подписывается и называется только „епископом“. Но при этом он считает себя главой выдуманной им самим „церкви возрождения“, а тот храм, в котором он представляет, зовет „кафедральным собором“ (это нижний храм бывшего Заиконоспасского монастыря, что на Никольской улице). Там, говорят, собирается в торжественных случаях человек по 200, и это, конечно, вся его паства. Так что зачем ему свой синод, свои викарные, а между тем, в его организации все это тоже имеется».
Впрочем, в скором времени в монастыре прекратились даже «обновленческие» службы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?