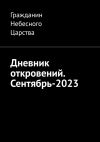Читать книгу "Не уйдешь далеко, господи… Рассказы"

Автор книги: Алексей Морозов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Не уйдешь далеко, господи…
Рассказы
Алексей Морозов
Фотограф А. Морозов
© Алексей Морозов, 2017
© А. Морозов, фотографии, 2017
ISBN 978-5-4485-9325-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Там, за окном
не совпадаешь по параметрам
ручной работы вечный брак
и бродишь по чужим фундаментам,
и ищешь где-то свой барак
там за окном, разбитым камешком,
вполне возможно, ждут тебя
любого, даже с рваным краешком,
на шее крестик теребя
© ам
По божьей воле
Илья Никодимыч недолго приглядывался к Яшке, но всякий раз – с пристрастием. Как видел, так взгляд оторвать уже не мог. Или не хотел, но более склонялся к первому, даря себе оправдания, в которых не было недостатка у людей его сословия. Многое прощал себе: и то, что жену в упор десять лет не видел, и то, что якобы мысли, посещавшие его, были не дурными, а, скорее, особенными, наделенными отчасти приятностями, отчасти сомнениями. Не очень хорошее в силу возраста самочувствие тоже давало о себе знать, и раздражительность в отношении домашних Илья Никодимыч малодушно списывал на краткие боли в правом боку и духоту. А тут сын Владимир еще заявил, что хочет уехать в город, и Илья Никодимыч чуть не огрел его за такие мысли подсвечником, который в тот момент решил переставить со стола на подоконник, но сдержался. Надежды на то, что его кровиночка, сынуля, мужик останется в отчем доме на хозяйстве, не осталось. Дочь в расчет не бралась, потому что иной судьбы, кроме как быть выданной замуж за кого-то слепого и при деньгах, явно не имела. Илья Никодимыч понимал, что, в принципе, сам не может представить сына на своем же месте – не подходило это ему, никак не подходило. Иностранные языки, которым обучила его мать, основы геометрии, географии, физики, истории и других наук вдруг превратили молчаливого подростка в человека решительного и целеустремленного. Он хотел поумнеть еще больше, а управлять усадьбой его не тянуло. Самое неприятное, что и мать оказалась на его стороне, сказав, что снабдит сына деньгами и парой писем, которые он должен будет передать ее крестному в Москве, то есть обеспечила сыну хоть какую-то крышу над головой на первых порах в большом городе
Все это расстроило Илью Никодимыча так сильно, что он стал мучиться мигренями, которые были следствием неумеренных ежевечерних возлияний. Он перестал разговаривать с сыном, с дочерью, обращать внимание на жену, а супружеское ложе презрел громко и величественно, сказав жене, что дети, зачатые на нем, получаются со странностями.
И тут вдруг Яшка. Двадцатилетний сын одного из крестьян, служившего конюхом у Ильи Никодимыча. Тут поднести, там подвалить, здесь подчистить – работа обычная и повседневная, но никто до Яшки не имел чести завладеть таким вниманием барина. Никто и никогда.
Найдя новый смысл в своем ужасном существовании, Илья Никодимыч воспрял духом и снова захотел жить. На что он надеялся, он и сам толком не понимал, но домашние и прислуга стали смотреть на него искоса, потому что поведением он, на их коллективный взгляд, двинулся в сторону легкого помешательства.
Не видя себя глазами других, Илья Никодимыч парил над землей, оставив на ней ничего не понимающих людей. Там, куда уносили его мягкие мечты, были только они с Яшкой, и занимались они там чем-то непонятным, но, безусловно, приятственным. Как только Илью Никодимыча начинало осенять, а перед глазами вставали картинки совместного с Яшкой разврата, он млел и чуть не плакал, а поначалу даже неистово крестился после, когда приходил в себя. Но время шло, мечты оставались мечтами, и стареющий барин сделал вывод, что то, что ему кажется, плохим быть не может. Возможно, только таким образом человек становится самим собой, испытывает то, что в настоящей жизни никогда не изведает, а то, что из фантазий не прихватишь сувениров, так то вовсе не беда, а состояние, которое вполне легко поправить. Надо только закрыться в комнате, окна которой выходят на конюшню, поплотнее задернуть занавесочки, не забыв оставить щелочку, через которую можно будет видеть Яшку, приспустить подштанники, да приготовить салфетку, рюмку водки и огурчик, чтобы после отпраздновать.
Он неоднократно задавал себе вопросы, ответы на которые так и не нашел. Воистину, почему вдруг какой-то молодой человек, слуга и уборщик, так сильно завладел вниманием своего работодателя? Ничего особенного в нем ведь не было, но в то же время, он был самым прекрасным. Ни особенных мускулов, ни сильно уж заразительного смеха, ни ясного взгляда, ничего такого, что воспевают поэты, в нем не было. Высокого роста, с прямой спиной, с непонятного цвета прической, он целыми сутками то выгонял лошадей на пастбище, то чистил их, выведя на солнышко, пучком колкой соломы, с трудом умещавшейся в его руке. В какой момент Илья Никодимыч почувствовал, что его сердце начинает при виде Яшки трепыхаться сильнее обычного, а после стремительно ухает куда-то в живот, одаряя внутренности теплом и желанием. Вспоминая эти забытые, но такие знакомые ощущения, сначала он очень пугался, бежал к иконам, пугая жену, падал на колени и вымаливал у Господа Бога ответов на свои скоромные вопросы, и прощения. После перестал, решив, что Богу знать о таких внутренних порывах вовсе не обязательно. Если он действительно Бог, значит, все знает сам. Если знает, что толку ему говорить об этом? Если допустил такое, получается, хотел, чтобы Илья Никодимыч испытал это в своей жизни? А если хотел, то зачем теперь отнимать? В искушение, что ли, дал? А зачем? Что хотел он доказать Илье Никодимычу? Удостовериться в том, что тот конченый грешник? Смысл? И Илья Никодимыч перестал молиться, хоть и продолжал верить в Бога на Пасху, Рождество и на родительские субботы.
Сын заявился во время обеда. Илья Никодимыч как раз намазывал кусок хлеба сливочным маслом, чтобы отправить его прямиком в рот, в дальнее плавание по алым волнам свежесваренного борща, аромат которого колом стоял во всем доме. На столе была только одна тарелка – жена и дети уже давно не садились за стол вместе с главой семейства, а ели кто что хотели, и тогда, когда хотели. Так что, увидев сына на пороге комнаты, Илья Никодимыч не предложил ему присесть и отведать – тот мог быть вполне уже сыт.
– Разреши войти? – вежливо попросил сын, не заходя вглубь комнаты. Илья Никодимыч кивнул. Его кивок был расценен правильно – сын сделал пару шагов вперед, чтобы оказаться в поле зрения отца, сидевшего спиной к входу.
– Что тебе нужно?
– Завтра я уезжаю, папа. Мы мало видимся, ты постоянно занят. Кажется, у меня не будет возможности попрощаться потом, поэтому я решил сейчас. Извини, я не знал, что ты обедаешь.
– Ничего страшного.
В душе у Ильи Никодимыча шевельнулась та, что считалась уснувшей навеки – отцовская любовь. Слабенько вздрогнула, и еще сильнее свернулась костлявым калачиком в самом дальнем уголке истерзанной Ильи Никодимыча души. Он вспомнил, как целовал своего новорожденного ребенка в малюсенькую попку и махонькие пяточки, как потрясал младенцем над кроватью, на которой утопала в перине измученная роженица, его жена. Роды были тяжелыми, ребенок запаздывал, повитуха испуганно советовала бечь к батюшке, будить и тащить его сюда для того, чтобы успел исповедать. Они тогда уже почти решились вызвать врача из города, хоть и понимали, что, скорее всего, опоздают, но все вдруг разрешилось хорошо, быстро и правильно, никто так и не понял, откуда были такие мучения.
– Мужика родила! Мужика! – плакал Илья Никодимыч, стоя на коленях около изголовья постели, понимая, что опасность миновала, и, веря в то, что теперь ему под силу Гималаи в рогалик свернуть. Тогда он любовался своим мальчиком, словно такого чуда никто не свете больше не видел, а держать его в руках вообще не держал. Придирчиво рассматривая малыша, молодой и симпатичный тогда Илья Никодимыч с удовольствием отмечал, что все у него получилось: пальчиков везде ровное и предсказуемое количество, голос громкий, резкий, тон начальственный, а мужское достоинство – вот оно, настоящее, в полной комплектации, на положенном ему месте и нормального размера. Да какое там нормального. Небывалого размера, а как же иначе!..
Все это было в прошлом. Теперь перед отцом стоял молодой мужчина, отдаленно напоминавший ему об их родстве.
– Говори, – разрешил Илья Никодимыч.
– Я буду краток, папа. Мне жаль.
– Чего же тебе жаль? – несмешливо спросил Илья Никодимыч. – Или кого?
– Жаль, что мы так мало разговаривали, – тихо произнес сын. – Я скучал, между прочим.
Отец скорбно склонил голову набок. Хотелось бы ему, конечно, обнять своего ребенка, ведь не на прогулку в поле идет. Все может быть теперь. Возможно, увидятся не скоро. Но борщ… он призывал, манил резковатым сладким запахом, а справа от тарелки с хлебом изумрудно поблескивал острыми короткими веточками только что вымытый укроп, а в середине тарелки, утонув краями в рыжих кружочках жира, белело девственное сметанное сердце.
– И мне жаль, – наконец, произнес он, понимая, что иногда отвечать надо вопреки, а не честно. Но сказав это, почувствовал, насколько фальшиво прозвучали его слова. Не то он хотел сказать, не то хотел услышать тот, кто стоял неподалеку.
Сын молчал. Илья Никодимыч смотрел в тарелку, не зная, как и о чем продолжать.
– Я поеду на рассвете, – сказал Владимир.
– На ком же ты поедешь? – встрепенулся Илья Никодимыч.
– Лошадь возьму. На станции оставлю, а потом пришли кого-то ее оттуда забрать.
– На лошади? А ты не забыл, как ездить-то верхом?
– Нет, я помню, конечно.
– Ну и ладно.
– Спасибо, папа.
– Не благодари. Истинная твоя благодарность будет для меня в другом, но ты решил по-своему, даже не посоветовавшись.
– Я бы не хотел, папа…
– Иди с богом.
Сын быстро покинул комнату. Илья Никодимыч поваландал ложкой в остывшем борще, а потом понял, что радости по этому поводу уже не испытывает.
Стоя у крыльца, он смотрел на Яшку, который ходил туда-сюда по двору, и вчитывался в себя. Исследуя свое внутреннее состояние, он пришел к выводу, что все не так уж и плохо. Сын, несомненно, огорчил, так как не оправдал. Но его будущее, совершенно чуждое Илье Никодимычу, это его будущее, и, если честно, не такое уж оно, возможно, и плохое, хоть и абсолютно бесполезное. Илья Никодимыч, как истинный обыватель, всегда свысока поглядывал на жену и сына, занимавшихся, по его мнению, полнейшей ерундой.
– Что за лай собачий?
– Это немецкий язык, папа.
– И зачем он?
– Это очень красивый язык.
– И зачем он тебе?
– Чтобы читать немецких поэтов на их родном языке.
– Да зачем тебе это надо, объясни?
Сын объяснить не мог, жена молча внимала их диалогу, а дочь, как и отец, не проникшаяся к Шиллеру симпатией, пустым взглядом смотрела на горизонт. Она не стремилась к такому, и, как ни старалась ее мать, каких только не приводила к ней учителей, все как один твердили о том, что девушка слишком невнимательная и не сильна в науках. Ни в каких. Не интересно ей до зевоты. И если уж у матери не получилось ее заинтересовать чем-то, а кто, как не мать, лучше знает своего ребенка, то они уж точно не смогут. Поэтому, может быть, остановиться на том, что уже есть, тем более что возраст ее скоро станет разрешенным для замужества?
И хоть кто-то из детей не спешил покидать дом, но в такие моменты Илья Никодимыч ненавидел свою семью. В его понятии все было просто: человек должен уметь считать, писать и читать. На родном языке и только свое, а позже, если надо будет, и чужое приложится. Без Шиллера, без всего этого непонятного бормотания, которым супруга и сын увлекаются, как он считал, без меры.
Сам же глава семейства неучем себя не считал. Он обожал гармонь, которая своими щенячьими звуками чертила в его душе неровные полоски, болевшие потом воспоминаниями о собственном детстве. И лучше этого вот поля да неглубокой чистой речки за домом не было для него ничего. И как бы стремительно и зазывно не раскручивались перед ним заморские глобусы, он не хотел никуда уезжать. Пахнущие сладким дымом пушистые кусты, под которыми накрыт стол – вот это счастье. А зимой – шепот студеного ветра в печной трубе, тихие белые дороги и огромное чернющее небо, побитое мелкими точками звездочек…
Яшка взял в руки метлу, стал подметать двор. Начал от забора. Поднял пыль, натянул ворот рубашки на нос, оставив на воле одни глаза. Подол рубашки задрался, даря взгляду Ильи Никодимыча темный от загара плоский живот.
Где-то в поле заклекотала какая-то птица. В разные стороны от Яшки с руганью брызнули драные куры. Метла с красивым «шшиих-шшиих» рисовала на земле изогнутые следы.
Забыв обо всем на свете, Илья Никодимыч погружался в тягучую пучину сладострастия. Проблемы остались где-то за пределами понимания. Все живы, все здоровы, у всех планы. И у него тоже. И лучше бы, чтобы поскорее.
– Яшк! – позвал он, щурясь на заходящее теплое солнце.
Конюх остановился, посмотрел в сторону хозяина.
– Дело у меня к тебе.
– А чо?
– Я к тебе завтра ночью приду, расскажу. Помойся как следует.
– А мыться-то зачем?
– А пыльно же. Смотри, нагнал тут.
– Это потому, что надо было травой тут все засадить, Илья Никодимыч. Я водой побрызгаю.
– Ты погоди про траву. Ты меня слышал?
– Слышал.
– Вот и мети дальше.
– Хорошо.
– Подметай лучше, чтобы чистота везде светилась.
Все для себя решив, Илья Никодимыч развернулся и зашел в дом. Прислушался, осмотрелся, по-хозяйски отметив, что ступени, ведущие на террасу, стали скрипеть.
Вслед ему музыкой с неизвестным мотивом бежало затихающее «шшиих-шшиих…».
Ночь угомонила всех обитателей огромного дома. Наработавшись за день, слуги ложились спать засветло, домашние, судя по оглушающей тишине, решили сделать то же самое.
Илья Никодимыч, перекрестившись, сел на край дивана у себя в кабинете. Он решил, что пойдет к Яшке сегодня, а не завтра, но позже, сведя риск встретить кого-то на пути. А дальше будь что будет.
Часы показывали половину второго ночи. Илья Никодимыч к этому времени уже раз пять переменил решение.
В два часа он стал потихоньку прикладываться к бутылке коньяка, которую жена берегла для лечения зимней простуды, и которую он благополучно свистнул сегодня из кухонного шкафа.
К трем часам пополуночи, основательно накачавшись алкоголем и смелостью, Илья Никодимыч стал медленно продвигаться к выходу из дома. Он шел мелкими шагами, держа в одной руке зажженную свечечку, а в другой бутылку. Глаза при этом у него были выпучены, взгляд выхватывал из плохо озаряемого слабым свечением пламени маршрута все его изгибы. Путь напрямую вел к исполнению желаний, но Илья Никодимыч все же трусил. Он испытывал страх быть отвергнутым, и, как следствие, испытать сильное чувство позорящей его беспомощности, но все равно упрямо шел через комнаты и коридоры, кляня на чем свет стоит скрипящие ступени террасы, до которых еще не добрался.
Где-то, ему показалось, хлопнули дверью, мягко и негромко. Илья Никодимыч заметался на ровном месте, прикладываясь то боком к стене, то натыкаясь на стулья или край комода. Создавая шум, он, тем не менее, прекрасно слышал, что какая-то не спящая сволочь, как нарочно, идет в его сторону. Мысли о том, что он тут хозяин, и объяснять никому ничего не обязан, в его голове не возникло. Страшась того, что любой сейчас сразу поймет, куда и к кому он направляется, Илья Никодимыч в два прыжка преодолел расстояние до входной двери, рванул в сторону защелку и, перепрыгнув через ступеньки, побежал, горячо задыхаясь, к конюшне.
Увидев открытую настежь дверь, он влетел внутрь пушечным ядром, и только потом остановился. Все, приплыли. Теперь отступать было некуда – он пришел, здрасьти. Прикрывая ладонью еле-еле выживший во время своего забега свечной огонек, он осторожно сделал пару шагов вперед. По обе стороны от него в денниках стояли лошади, которые никак на него не отреагировали. Комната, в которой обитал Яшка, была в противоположном конце конюшни, и Илья Никодимыч, поняв, во что ввязал сам себя, уже почти пожалел о принятом решении. Что он, кто он, куда его несет? Ну, появится он на пороге Яшкиной каморки, а потом-то что? Как он будет говорить слуге о том, что утоп в веснушках, которыми неравномерно усыпана Яшкина кожа, и о том, что он с какого-то настроения вдруг стал для Ильи Никодимыча ближе, чем кто-то еще? И что его хозяину просто хочется немножко ласки, от него хочется, от молодого и сильного, ласки трепетной, нежной и совсем короткой? И, главное, не женской?
Рука его легла за дощатую поверхность двери и осторожно ее оттолкнула.
– Папа, что ты здесь делаешь?..
Илья Никодимыч похолодел и медленно поднял руку со свечой вверх. Комнатка была крохотной, Яшка тут только ночевал, а для этого много места не надо. Свет тут же рассыпался дрожью по потолку и стенам.
Сначала Илья Никодимыч увидел сына. Сразу не узнал, пришлось вглядеться. Тот факт, что сын не одет, поначалу ускользнул от его внимания, а через пару секунд явился во всем великолепии.
За спиной быстро поднявшегося сына Илья Никодимыч узрел голого перепуганного Яшку, быстро убирающего с лица лохматую челку и неловко пытающегося подтянуть колени к подбородку.
– Это что это тут такое… – прошептал Илья Никодимыч, не в силах оторвать взгляд от конюха. Владимир вскочил на ноги и попытался попасть ногой в брючину. – Эт-то что же тут такое…
Он повторил это еще пару раз, а потом замолчал, пришпиленный увиденным, стараясь аккуратно расставить все по местам. Не сходилось, расползалась картина огромными прыгающими по комнатке тенями. Наконец-то справившись с брюками, сын снова открыл взгляду отца Яшку, который попытался было соскочить со своей кровати, но не стал это доделывать, а так и остался сидеть в углу, натянув на себя какую-то ветошь.
Резкий запах конюшни ударил в нос, до этого Илья Никодимыч его не ощущал. Они с сыном стояли друг напротив друга, не решаясь продолжать какие-то действия.
– Матери не говори, – угрожающе произнес сын, медленно накручивая рубашку одной рукой на кулак другой. – Она со мной Яшку отправляет, чтобы я не один там… боится. Мы уезжаем через час. Ты нас больше не увидишь.
Илья Никодимыч вспомнил про бутылку, что была в руке, поставил ее на стол, выдернул пробку и, отставив в сторону руку с источником света, стал пить, запрокинув голову, зажмурившись, обливаясь и давясь.
Яшка как сидел на пятой точке, так на ней и подполз к краю кровати. Быстро спустил с нее голые длинные ноги и, прижав к низу живота тряпку, служившую ему одеялом, быстро вышел за дверь. Илья Никодимыч уронил опустевшую бутылку. Сын наклонился, поднял ее и осторожно поставил на стол.
Илья Никодимыч проследил за его движениями. Какой-то чужой человек был рядом с ним и трогал его вещи. Он пожалел о том, что коньяка не осталось – он мог бы снова задрать голову и пить, пить, пить. Так он бы не должен был смотреть в глаза сыну, который чего-то от него ждал.
«Умереть бы сейчас», подумал Илья Никодимыч, и мысль эта была умиротворяющей. То, что нужно. Казалось, щелкни он пальцами, и свершится. Казалось, что все получится. И не будет тогда этого стыда, теплого и вязкого, плотно обхватившего со спины за плечи своими огромными мягкими ручищами.
Он вышел из комнатки и пошел к выходу. Шел на свет – июньская ночь была короткой, и даже маленькая свечка не могла затмить голубоватый прямоугольник дверного проема.
Вот он, выход.
Оказавшись на улице, он глубоко вздохнул и пошел к спавшему дому. Его накрыла сильная уверенность в том, что он все сделал правильно. Теперь бояться ему нечего, все решилось само собой. А он-то, дурак, волновался, потел, слов не находил…
И, подходя к дому, Илья Никодимыч широко улыбнулся. Искренне, по-детски и ни о чем не сожалея. Такой улыбкой, какие бывают тогда, когда громадная пустота кругом, когда отказывают все органы, когда продано все до последней самой крохотной пылинки, которую называют иногда надеждой.
Удар случился через две недели после отъезда сына. Илья Никодимыч был тогда, слава богу, в доме, а не на улице.
Вызванный врач сказал, что идеальными для него теперь будут две вещи. Внуки и покой. Но так как первое полностью исключает второе, то на все воля божья, но вообще-то сердце у него сильное. Поэтому опасаться нечего, а потом, глядишь, пациент даже в чем-то и восстановится.
Свадьба дочери состоялась осенью. Илья Никодимыч узнал только, что жених молод, не нищ и живет далеко от их имения. Фамилию не вспомнил, но, как сказал врач, такое вполне возможно. И Илье Никодимычу почему-то было все равно, что и как будет дальше. Как отрезало. Заправляла всем теперь его жена. Бывшая московская барышня прекрасного воспитания, влюбившаяся без памяти в молодого провинциала Илюшу, она бросила все и отправилась с ним в деревню, где и прожила более двадцати лет, все еще любя своего мужа, всегда разного, но всегда ей нужного.
Илья Никодимыч наблюдал за торжественными приготовлениями через открытое окно, лежа в супружеской спальне. Так и молодых благословлял, не поднимаясь. Они опустились на колени около постели, выслушали напутствие, поцеловали икону, как велела мать, и – в разгуляево. А он даже не улыбнулся, потому что не очень понимал, что происходит.
Он стал много думать. О том, о чем еще помнил. Это не так трудно было сделать, потому что много говорить он не мог, и большую часть времени находился в одиночестве. Он вдруг очень пожалел о том, что не может читать, хоть всегда считал чтение чем-то праздным и вовсе ненужным. Он вспоминал, как росли его дети, как с женой они собирали яблоки, а потом все вчетвером шли на речку, чтобы покормить уток. Вспоминал давнюю зиму, толстенькие ладные пирожки на белой тарелке и липкие ладошки маленькой дочери, которыми она обнимала его за шею.
А еще он скучал. Он скучал по прошлому так сильно, что начинал плакать, а потом переживал из-за того, что кто-то может заметить на наволочке мокрые следы. Все, что случилось, скручивало его память в тугую веревку, и иногда ему казалось, что как только он сможет встать с постели, он сразу покончит с этим. Ну, как же, как же можно теперь так жить, с такими мыслями, с таким-то прошлым и в таком вот нынешнем положении? Он себе не представлял, как не представлял и того, что у него хватит сил завершить свою жизнь самостоятельно. Другого выхода он почему-то не видел.
Владимир на свадьбу сестры не приехал, но написал матери письмо. В нем он рассказал, что учиться пока что не получается, но он дает уроки детям в небогатых семьях так же, как и она учила его когда-то; что московские родственники живут друг у друга на головах, и поэтому они с Яшей снимают комнатку у одной весьма немолодой и одинокой особы. Она берет с них мало денег, и часто просит уделить ей немного времени – у нее в целом мире никого нет, и общение ей только в радость. «Яша говорил, что как-то она рассказала ему о своей несчастной любви. Это было с ней в юности во Франции и закончилось весьма плачевно. Ее воспоминания горьки, но полны той самой силой, которая и держит ее, по ее же словам, на этом свете. Она помнит, и это не дает ей покоя. Но тем она и счастлива. У нее это было, ей есть, о чем тосковать. А сколько людей попросту не имеют прошлого, мама, ты думала об этом?
Теперь, когда я здесь, я много размышляю о том, что заставляет человека делать какие-то важные вещи, либо принимать ответственные решения. Вдумайся, мама. Возможно ли влечение одной человеческой души к другой, невзирая на их природные оболочки? Правильно ли это? Насколько это может быть вредно для тех, кто мучается этими вопросами, испытав это на себе, не спит ночами, не в силах разобраться? А бог? Что же бог, мама? Ты не особенно настаивала на нашем с сестрой религиозном воспитании; говорит ли это о том, что есть в содержимом веры нечто такое, что подвергается сомнению? Насколько плохо быть такими? Как же люди справляются с этим, и надо ли ломать это в себе, если я не приношу никакого вреда никому, кроме себя? Но я же даже этого не ощущаю, и я не знаю, насколько я прав, мама.
Сейчас, когда мы далеко от дома, и нас не отвлекает что-то, мы часто говорим и на эту тему. Яша очень изменился, город облагородил его не хуже весны, которая одевает в свежие наряды природу. Он бреется каждый день, стрижется в бане раз в месяц, куда мы регулярно ходим. Он купил себе пару новых рубашек и содержит их в чистоте и порядке. Иная, чем у нас дома, реальность словно смыла с него какой-то темный налет, остающийся на внутреннем облике человека после тяжелой физической работы. Наша хозяйка учит его грамоте, и он делает успехи. Немного позже я планирую немного обучить его некоторым точным наукам, либо же дать о них хоть какое-то представление – он на многое способен и тверд во многих своих решениях. Можно сказать, что он дополняет меня и мои стремления, окружая наше совместное проживание заботой, и увереннее меня стоит на земле.
Мама, передавай папе огромный привет, поцелуй его от меня. Сейчас я обучаю немецкому двух девочек, к которым очень нежно отношусь, и постоянно вспоминаю тебя. Ты бы им понравилась. Они обе обливаются к моему приходу ужасными духами, а одна из них совершенно серьезно мечтает стать писательницей. Скоро, я думаю, я смогу высылать вам деньги, которые помогут наладить ваше положение. А пока что я способен лишь на свое искреннее и душевное «люблю» от себя лично и от того, с кем, скорее всего, я буду счастлив, на что я очень сильно надеюсь».
Жена Ильи Никодимыча прочла ему всего лишь один абзац из этого письма. Он был наполнен тревогой, сожалением и добрыми пожеланиями здоровья всем тем, кто «умеет хранить чужие тайны в самых дальних и не доступных другим закоулках памяти. Там, где выживает только настоящее чувство, которое невозможно расценить с научной точки зрения, подержать в руках или навязать другому человеку. Мне кажется, мама, я почти в этом уверен, и я думаю, что не ошибаюсь… что это и есть любовь».
© ам
2014