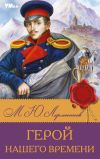Читать книгу "О душах живых и мертвых"

Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Алексей Никандрович Новиков
О душах живых и мертвых
Часть первая
Выстрел в сторону
Глава перваяУтром, как всегда, Андрей Александрович Краевский принимал посетителей и журналистов. В эти часы к редактору «Отечественных записок» ездили без приглашения.
Хозяин встречал гостей в обширном кабинете, сплошь заставленном книжными шкафами затейливого устройства. Огромный письменный стол в свою очередь свидетельствовал о самобытных вкусах хозяина: на столе громоздились полки и полочки, а искусная резьба ловко прикрывала множество потайных отделений. Корректуры и рукописи были разложены в образцовом порядке. Обилие рукописей наглядно говорило посетителю о том, что такой могучий поток поэзии и прозы мог хлынуть только в лучший из столичных журналов.
Андрей Александрович носил черный, чуть не до пят, сюртук вполне солидного, но тоже несколько экстраординарного покроя. Голова его была покрыта черной шелковой шапочкой, приличной более ученому мужу, чем журналисту.
В костюме редактора «Отечественных записок», как и во всей обстановке кабинета, чувствовалась полная независимость от общепринятых образцов, однако в этом не было ни малейшего намека на легкомыслие.
Злые языки утверждали, что покрой сюртука, шелковую шапочку и даже фасоны мебели Андрей Александрович заимствовал от князя Одоевского. Но Владимир Федорович Одоевский, известный своей ученостью, литературными и музыкальными талантами, а также неуемной страстью к изобретательству, оставался всего лишь вкладчиком «Отечественных записок», хотя бы и весьма почтенным. Андрей же Александрович, едва достигнув тридцати лет, уже метил в литературные генералы. Правда, был он еще не по-генеральски сухопар, зато в голосе его прорывались внушительные, почти басовые ноты, а на висках уже обозначилась серебристая проседь.
Восхождение Краевского по лестнице журнальной славы произошло стремительно и незаметно. Впрочем, были в этом восхождении и досадные срывы. Так, незадолго до смерти Пушкина он расчел, что пушкинскому журналу «Современник» долго не жить, как в силу общеполитической неблагоприятной обстановки, так и по неопытности поэта в хозяйственных делах. И хотя был тогда Андрей Александрович лицом мало приметным в литературном мире, он, объединившись с Одоевским, сделал Пушкину неожиданное предложение – оставить за собой только изящную словесность да «суд над книгами», то есть критику, а в остальном передать все руководство «Современником» ему, Краевскому, вместе с князем Одоевским.
Должно быть, погорячился тогда по молодости Андрей Александрович. Не таков был Пушкин, чтобы вручить судьбы «Современника» кому бы то ни было, даже самому Краевскому, несмотря на все его достоинства и очевидную скромность. Поэт предпочел биться в тисках безденежья и крепко держать руль журнала в собственных руках.
Но Пушкин был убит, и фамилия Краевского все-таки появилась на обложке осиротевшего «Современника» рядом с именами новых редакторов – Жуковского, Вяземского, Одоевского, Плетнева. Именитые друзья Пушкина никак не могли обойтись без помощи милейшего и усерднейшего Андрея Александровича. В свою очередь обложка «Современника» с фамилиями новых редакторов доставила неизъяснимое удовольствие Краевскому и смягчила ту искреннюю скорбь, которую всегда испытывал он при мысли о гибели приснопамятного поэта.
Прошло еще два года, и Андрей Александрович стал редактором-издателем крупнейшего журнала. Никто и не помнит теперь, какое жалкое существование влачили когда-то «Отечественные записки», с таким блеском возродившиеся в искусных руках Краевского.
На этот раз Андрей Александрович совсем не горячился и начал дело как раз вовремя. Даже самые простодушные читатели стали охладевать к «Библиотеке для чтения», которую издавал профессор Сенковский. Пустопорожнее зубоскальство профессора, гордившегося перед читателем полным отсутствием убеждений, давно набило оскомину. Хитрая личина не могла укрыть вполне определенных убеждений ученого редактора – его неизменной склонности к мракобесию.
А пушкинский «Современник» держался теперь только тем, что в нем от времени до времени публиковались драгоценные строки из наследия поэта.
В меру потрудившись в «Современнике», Андрей Александрович Краевский передал бразды правления трудолюбивому профессору Плетневу. Маститый ректор Петербургского университета, Петр Александрович Плетнев усердно наводнял «Современник» серой, но вполне благонамеренной скукой, и читатели, если в очередном номере не оказывалось пушкинских публикаций, оставляли книжки журнала неразрезанными.
Выходил в Петербурге еще один журнал – «Сын отечества», издаваемый Гречем. Но кто не знал, что Греча по справедливости величают Ванькой-каином русской литературы? От Николая Ивановича Греча даже тогда, когда он ссорился с неразлучным своим другом, Фаддеем Венедиктовичем Булгариным, за версту несло – по общеизвестной эпиграмме наступить на Булгарина опасался каждый чистоплотный человек.
К тому же в «Сыне отечества» подвизался Николай Полевой. Потерпевший крушение издатель «Московского телеграфа» перебежал ныне в услужение к Гречу и Булгарину и вещает на страницах «Сына отечества»: «Есть у нас писатели с истинным дарованием – Греч, Булгарин, Загоскин и… Гоголь!» Думает бывший московский романтик Полевой, что найдутся читатели, которые поверят в гений и Греча, и Булгарина, и Загоскина, если вместе с ними, хоть на последнем месте, помянуть Гоголя.
Как в зеркале, отражали все эти журналы российское безвременье. Единственно разве шеф жандармов граф Бенкендорф считал состояние петербургской журналистики превосходным: никаких с ней хлопот!
Но неужто перевелись честные люди на Руси? Именно в это время и с этой мыслью выступил на широкое поприще Андрей Александрович Краевский. «Отечественные записки» будут бороться за неподкупное русское искусство. «Отечественные записки» объединят всех, кто достоин высокого звания писателя и журналиста. Еще не все они изведены в империи Николая Павловича.
«Отечественные записки» выходят второй год, и книжки журнала никогда не запаздывают. Вот и сейчас на письменном столе редактора покоится пахнущая свежей типографской краской февральская книжка «Отечественных записок» за 1840 год. А Андрей Александрович уже готовит новый номер, читает корректуры и ловко перехватывает деньги…
Ох, деньги, деньги! И сколько же их надо, если Краевский издает еще «Литературную газету», а в ней тоже ведет непримиримый бой и с Сенковским, и с Гречем, и с Булгариным, и с Полевым…
Словом, Краевский приобрел репутацию опытного издателя, человека с большим размахом и непоколебимыми убеждениями.
Редактор «Отечественных записок» не знает отдыха ни днем, ни ночью. А по утрам, как всегда, принимает у себя пишущую братию.
Несмотря на хмурое февральское утро, Андрей Александрович находится в отменном расположении духа. Он оглядывает обстановку своего огромного кабинета, тонущего в полумраке, и рассеянно слушает гостя. Первым приехал сегодня Иван Иванович Панаев, свояк Краевского, молодой журналист, обладающий счастливой способностью казаться еще моложе своих лет. Панаев рассказывает последние новости и, исчерпав весь запас, умолкает. Да и какие могут быть новости в петербургском литературном болоте или в светских гостиных?
– Не судья я вашему светскому обществу, – перебивает Краевский, – увольте, Иван Иванович! Скажите лучше, что нового пишут из Москвы о Гоголе?
– А Гоголь, представьте, продолжает, правда при строжайшей тайне, чтение «Мертвых душ». Старик Аксаков на днях опять сюда о том писал, и тоже, конечно, по секрету.
– Жив не буду, а те «Мертвые души» достану! – воскликнул Андрей Александрович. – С ума можно сойти от одной мысли, что московские разбойники перехватят…
– А вы бы сами закинули удочку, Андрей Александрович.
– Писал, всем надежным людям в Москву писал – нет ответа! А Гоголь – надобно же его повадки знать! – угрем из рук уйдет… – И раскинул Андрей Александрович руки так, будто хотел схватить ускользающую добычу.
– Пишут из Москвы, – подзадорил Панаев, – что Николай Васильевич уже несколько глав прочел избранным счастливцам.
– Да ведь вы, Иван Иванович, будучи в Москве, сами на тех чтениях присутствовали?
– Имел честь. В том же богоспасаемом семействе Аксаковых… Однако же все, что знаю, давно вам рассказывал: в некий губернский город приезжает некто Чичиков…
– Так, так, помню… именно Чичиков.
– …и, остановясь в гостинице, делает визиты местным чиновникам… Картинность изложения и слог… ну как бы вам это сказать… воистину достойны Гоголя. Воскрес автор «Ревизора» и после долголетнего молчания вознесся на недосягаемую высоту.
– А суть-то этого вознесения какова?
– Увы, столько же знаю, сколько и вы, Андрей Александрович. Прочел Гоголь, что одно предприятие Чичикова, или, как говорят в провинции, пассаж, привело в совершенное недоумение почти весь город. А после того свернул Николай Васильевич свою тетрадку да положил се в карман… Тут начались вопли восторга, и все Аксаковы сияли так, будто сами, собственным своим семейством, сочинили «Мертвые души». И на том я, Андрей Александрович, из Москвы уехал…
Краевский сидел в глубокой задумчивости, уже не слушая незадачливого свояка, уехавшего от продолжения «Мертвых душ»… Андрей Александрович хорошо помнил, что Гоголь, когда приезжал в Петербург, читал кое-что из «Мертвых душ» Жуковскому. Слухами о «Мертвых душах» полнились все литературные закоулки, а он, издатель «Отечественных записок», еще не имел ни одной строки из поэмы ни в одном из потаенных ящиков своего письменного стола.
– Кстати, – вспомнил Панаев, – Одоевский хвалился мне вчера, что получил письмо от Гоголя: он готовит повесть для «Отечественных записок»…
– Повесть?! – вскипел Краевский. – На черта мне его повесть, когда Россия ждет «Мертвые души»! Да и нет у него никакой повести и быть не может, коли сидит над своей поэмой. Мастак он водить за нос, да меня не проведет! – И долго корил коварного Гоголя нетерпеливый редактор.
Панаев подошел к окну.
Из окна видны Измайловский мост и занесенная снегом набережная реки Фонтанки. Куда-то идет, четко отбивая шаг, рота Измайловского лейб-гвардии полка. Слышится глухая барабанная дробь. Несмотря на ранний час, навстречу гвардейцам неуверенно движется подгулявший мастеровой. Он нелепо размахивает покрасневшими от стужи руками и, по-видимому, пытается что-то петь. Колючий ветер сердито треплет его рваный зипунишко и, кажется, собирается сбить с ног загулявшего до времени рабочего человека.
– Эх, масленица! Наша русская масленица! – с тоской говорит Иван Иванович и, махнув рукой, возвращается к покинутому креслу. – А чем же и жить на Руси честным людям? Ей-богу, скучно… Вот завести бы нам в журнале обзоры европейской жизни и мне бы по этому случаю махнуть в Париж, а?
Иван Иванович глянул на свои модные брюки. Неведомый художник создал это трико, пустив его в дымчато-палевый цвет. Другой искусник дал им парижский крой, игриво обтянув ляжки заказчика. Полюбовался на себя Иван Иванович и еще раз повторил:
– Право, Андрей Александрович, катнуть бы мне в Париж…
Краевский снисходительно улыбнулся.
– Помилуйте, и без Парижа дела хватит! Один Секретный комитет по крестьянским делам чего стоит! Если бы можно было предать гласности это событие первостепенной государственной важности… Разумеется, комитет, вновь созданный по высочайшему соизволению государя императора, не допустит никаких поспешных крайностей, однако милость, дарованная России…
– Милость! – перебил Панаев. – Право, Андрей Александрович, с ней лучше поторопиться, чем ожидать всеобщего истребления помещиков.
Как ни привык Краевский к неожиданным суждениям свояка, на этот раз он положительно опешил.
– Однако вы, Иван Иванович, сами впадаете в легкомысленную и предосудительную крайность.
– Я? При чем же тут я? – удивился Иван Иванович. – Вы бы поездили, Андрей Александрович, по России, тогда бы иначе заговорили…
– Да тише вы! – перепугался Краевский.
– Нет, сударь, коли о Секретном комитете заговорили, так извольте слушать. Когда поехал я прошлым летом в Казанскую губернию, сам перетрухнул. Представьте, управляющий имением выезжает в поля не иначе как с конной охраной… Вот они, смиренные-то мужички, какого страху навели! А помещики, отправляясь в дальний путь, маскируются под купцов или мещан. Ей-богу! И возводят на ночь в усадьбах баррикады. Даю честное слово, баррикады! А ведь это Тетюши! Что же в просвещенных губерниях творится?
В губерниях действительно творилось неладное. Неурожай поразил все Поволжье и многие другие места. Помещики бежали из насиженных гнезд. Иных мужики выгоняли из дедовых вотчин, пуская красного петуха. Власти растерялись. В двенадцати губерниях против голодных мужиков действовали воинские команды. Но и войска не хватало. Положение оказалось настолько грозным, что император Николай Павлович вынужден был искать всех возможных мер успокоения. Непокорных секли в деревнях, в Петербурге заседал Секретный комитет.
Об этом-то комитете и хотел было обстоятельно поговорить редактор «Отечественных записок», но Панаев обнаружил неожиданный поворот мысли.
– Кстати, – вдруг оживился он, – не завернуть ли нам по случаю масленицы на блины к Палкину? Идея! – продолжал он. – И Белинского прихватим!
Андрей Александрович посмотрел на свояка с недоумением.
– Виссариона Григорьевича – в ресторан? Не представляю…
– Уговорю, ей-богу, уговорю! – увлекался все больше Иван Иванович. – Для пользы русской словесности, хочет он или не хочет, затащу Виссариона к Палкину!
– Сомневаюсь!
– Пари! – решительно протянул руку Панаев.
– Никогда не держу пари. – уклонился Краевский. – С меня довольно споров о статьях Виссариона Григорьевича. Все еще о них шумят?
– Шумят, как всегда, шумят почитатели Виссариона. А январская книжка «Отечественных записок», в которой явился он с таким разнообразием идей, до сих пор остается злобой дня. Признаться, горячие головы изрядно его честят, о чем я, Андрей Александрович, не раз предупреждал.
– Очень хорошо, – откликнулся Краевский и даже потер руки, – без диспутации нет жизни журналу. За что же именно и почему ругают?
– А все за то же. Не дает покоя прежде всего злополучная статья «Менцель – критик Гёте». То поклонялись Белинскому как кумиру, то готовы повергнуть собственного идола во прах. Да и я, сколько ни слушаю, не могу взять в толк: зачем он написал эту статью? А некоторые приписывают ее вашему влиянию, Андрей Александрович!
– Чересчур лестно для меня, – улыбнулся Краевский. – Попробуй повлиять на Виссариона Григорьевича! Хотел бы видеть такого человека… Впрочем, неужто публике до сих пор невдомек, что Белинский согласился работать в «Отечественных записках» и с тем в Петербург переехал, чтобы вся его работа была, как он сам заявил, без всякого ущерба для его литературной совести? Не вы ли, Иван Иванович, были посредником в этом соглашении джентльменов?
– Очень хорошо помню! Не забыл я и того, что в свое время вы, Андрей Александрович, именовали Белинского мальчишкой и крикуном…
– Каюсь, каюсь! Но я же зову его ныне и спасителем журнала…
– А если из одной крайности ударяетесь в другую?
Разговор стал живо интересовать Андрея Александровича. Он поправил шелковую шапочку.
– Я никогда не высказываю Белинскому своего мнения о его статьях, – ни одобрения, ни порицания. Я умею уважать свободу мысли!
– А мне тычут этого самого «Менцеля» и, стуча кулаком по столу, допрашивают: «Неужто все это мог написать Белинский?»
– Ох, эти горячие головы! – перебил Андрей Александрович. – Никак не хотят отдать автору справедливости: ведь блестящая, полная мыслей статья!
– Кто будет спорить! – воскликнул Панаев. – Но именно мысли эти, изложенные с таким блеском, и возбуждают ярость. Не соглашаются пылкие умы насчет разумно-сущего. Как это у них, философов, выходит? Учу, учу эту премудрость, а постигнуть не могу, и память не держит…
Иван Иванович встал, нашел на письменном столе январскую книжку «Отечественных записок» и стал быстро ее листать.
– А! Вот то самое место, где философская собака зарыта! – И он прочел, глубокомысленно наморщив лоб: – «Все, что есть, то необходимо, разумно и действительно».
– Ну? – спросил Краевский. – Автор воспроизводит известное положение Гегеля.
– Гегель-то, конечно, Гегель… «А как же нам, спрашивают, на наши российские безобразия смотреть? Неужто они тоже необходимы и разумны?» И опять тычут в те строки, где Белинский проповедует, что истинное искусство должно примирять нас с действительностью, а не восстанавливать против нее.
– Таков непреложный философский вывод, – охотно подтвердил Краевский.
– А мне говорят: «К черту эту философию, если зовет лукавая ведьма к примирению с нашим российским непотребством! Пусть ваш автор той блудливой старушонке куры строит, а нас увольте!»
– Увольте и меня, почтеннейший Иван Иванович, от подобных выражений!
– А я, Андрей Александрович, еще смягчаю выражения. Молодежь, которая восстает ныне на Белинского, не признает изящных иносказаний.
Краевский потянулся к книжке журнала и, взяв ее из рук Панаева, поставил на полях читанной страницы аккуратную галочку.
– Очень любопытно, очень… – сказал он. – Не понимают или не хотят понять выводов, вытекающих для искусства из определенной идеи.
– А пристали ли те выводы, хотя бы и сверхфилософские, нашему либеральному журналу? – спросил Панаев.
– Но разве не свобода мнений написана на нашем знамени? – вопросом на вопрос отвечал Краевский. – Продолжайте, однако, редакции необходимо собрать все отзывы.
– Извольте. Тем охотнее буду продолжать, что по случаю масленицы наша журнальная братия, очевидно, более склонна к блинам, чем к философии. Признаюсь, я не охоч передавать нападки на Белинского в присутствии любопытных… И так действуют как красное на быка многие мысли Виссариона Григорьевича. А перечитав злополучного «Менцеля», громоподобно кричат: «Неужто это Белинский, написавший когда-то «Литературные мечтания»? Неужто это Белинский, провозгласивший явление Гоголя?» Ему ли, мол, проповедовать созерцательность и примирение? Ну, и прочее и прочее, и все непременно на таком фортиссимо, что я бегу прочь, а потом страдаю мигренью.
– Да, – Краевский вздохнул, – не хотят понять, что Виссарион Григорьевич, еще будучи в Москве, изменил свои мнения в сторону умеренности. Неужто с годами не может умягчиться у критика характер?
– Сильно сомневаюсь, Андрей Александрович. Виссарион разве что в могиле смирится. А как он разделал в той же книжке Полевого! И подписи под статьей нет, а все знают автора, и все опять в один голос заявляют: «Вот где отозвался прежний Белинский!» И находчив же он: перепечатал ехидную характеристику, данную раскаявшемуся Полевому Булгариным. Выходит, Полевого да Булгариным же по голове, а Гречу теперь их мирить! Воображаю, сколько у них конфузу! Но Булгарин-то хорошо дело понимает. Как-то встретился мне на улице: «Почтеннейший, говорит, это не вы ли привезли из Москвы бульдога Белинского, чтобы нас травить?» Этот понимает, что ни ему, ни его подручным спуску от Виссариона не будет. У него была и всегда будет бульдожья хватка на врагов. Вот вам и созерцатель! Одной рукой пишет о разумной действительности и примирении с ней, а другой раздает полновесные оплеухи охранителям наших устоев.
– От этого «Отечественные записки» никак не проиграют, – довольный, перебил Краевский. – Клянусь, я и здесь никак не собираюсь стеснять Белинского.
– А все-таки не понимаю я, зачем ему эти теории? Не доведет его Гегель до добра. Вы бы послушали, как они в Москве гегелианские обедни пели! Чуть меня до горячки не довели. «Бесконечное в конечном… Субстанция и абсолют…» Только бегством и спасся из этого философского монастыря!
– Вот вам урок, Иван Иванович, не углубляйтесь в Гегеля! – пошутил Краевский.
– Боже меня упаси! – простодушно отмахнулся Панаев. – Я от этой неметчины, как черт от ладана, бегу, не даю и сейчас Белинскому слова молвить. «Пас! – кричу. – Пас, батенька! А коли желаете, священнодействуйте без меня…» Но, право же, советую крепко подумать, Андрей Александрович! Я всей душой симпатизирую Белинскому, но должен предостеречь: эти статьи вводят в великое смущение многих читателей…
– А у меня в столе лежит новая статья о немецкой философии. И автор вам известен: Михаил Александрович Бакунин.
– Ну, этот при Гегеле в должности московского пророка ходит. Престранный, впрочем, пророк – с девственным румянцем на щеках… Есть по этому поводу щекотливый анекдот. Рассказать, а?
– Вам бы Поль де Кока читать! Стыдитесь, почтеннейший! Ведь вы теперь женатый человек!
– Не отрекусь от блаженства… А анекдот о Бакунине, право, презабавный. В своем роде тоже философия…
– Пусть она и останется при вас, – решительно сказал Краевский, – а мы предпочтем философскую статью Бакунина. Образцовая статья… Впрочем, до Гегеля он все еще не добрался… Жду продолжения. Только сей московский гегельянец столько же щедр на посулы, сколько туг на исполнение. Таковы, видно, все наши философы, исключая Белинского… И вот вам мое твердое слово, Иван Иванович, всегда буду гордиться тем, что именно нам – и только нам – удалось заполучить в Петербург Виссариона Григорьевича. Пусть невежды бранят его философские трактаты! Весь просвещенный мир читает ныне Гегеля, как магометане Коран. Мы удовлетворяем похвальную жажду знания… А идея гармонического примирения с существующими порядками – разумею, в высоком философском смысле – рождена самой жизнью… Довольно напрасных жертв и беспочвенных мечтаний! Пора и нам, русским, найти твердые основы для наших верований и стремлений.
– А я этого все равно никогда не пойму! – разгорячился Панаев, гордившийся своими либеральными, хотя и недавно приобретенными, мыслями. – Что же это выходит? И квартальный надзиратель и жандармы – тоже для гармонии?
Краевский безнадежно махнул рукой.
– Нет, Иван Иванович, вы в философы решительно не годитесь!
– И за то благодарю создателя… Однако к Палкину на блины обязательно катнем. А потом, Андрей Александрович, учинить бы что-нибудь такое-этакое по холостяцкой части…
Краевский беспокойно оглянулся.
– Не терплю, Иван Иванович, этих пошлостей! Пора бы о том знать…
– Эх вы, философ! – рассмеялся Панаев. – А коли все существующее разумно, почему бы пренебрегать и запретными утехами? Да где вам!.. Ну, я пойду к Анне Яковлевне. Как она?
– Анна Яковлевна мудро правит жизнью. А ваша Авдотья Яковлевна как?
– Авдотья Яковлевна тоже правит жизнью, – Панаев вздохнул, – но правит диктаторски, не дает мне никакого спуску, игры воображения вовсе не признает. А впрочем, цветет…
– Она у вас умница, – наставительно сказал Краевский. – Передайте ей мой почтительный привет.
Иван Иванович пошел было из кабинета и на ходу еще раз хотел полюбоваться дымчато-палевыми брюками, сшитыми по последней парижской моде, но двери распахнулись и казачок торопливо объявил:
– Михаил Юрьевич Лермонтов!