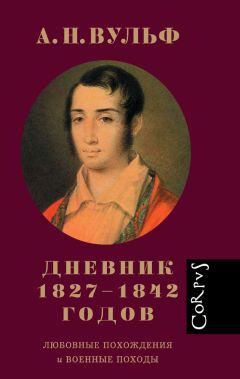
Автор книги: Алексей Вульф
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Считаю не лишним обратить ваше внимание вообще на положение имения г. Вульфа, и если по дознанию вашему окажется, что крестьяне действительно отягощены повинностями, то об оказавшемся прошу вас донести г. начальнику губернии со всею подробностью и откровенностью.[35]35
Цит. по: Журавлев Н. В. M. Е. Салтыков-Щедрин в Твери. 1860–1862. Калинин, 1961. С. 125.
[Закрыть]
Д. С. Львов признал, что барщина у Вульфа действительно отяготительна. Но M. Е. Салтыков к этому времени был уже в отставке, и губернское правление, защищая интересы помещика, хотя и не решилось выслать военную экзекуцию в поместья Вульфа (времена уже были не те), но признало доклад Д. С. Львова “не основательным”. Сам же Вульф жаловался в Сенат на “бездействие местных властей”,[36]36
Документы, написанные M. Е. Салтыковым-Щедриным в защиту крестьян в период его службы тверским вице-губернатором (1860–1862 гг.). С. 139.
[Закрыть] и после долгого рассмотрения Сенат своим определением от 18 апреля 1864 года решил взыскивать с крестьян в пользу помещика по 12 рублей с тягла за невыполнение работ в марте—апреле 1861 года.[37]37
Журавлев Н. В. M. Е. Салтыков-Щедрин в Твери. С. 125.
[Закрыть] Совершенно очевидно, что рассуждать о правах других людей и участвовать в реализации этих прав – вещи совершенно различные. Вульф, подобно многим своим современникам, оказался неподготовленным к тому, чтобы поступаться своими сословными правами.
И в этом отношении он был самым обычным, самым рядовым человеком. И как каждый рядовой человек, он осознавал жизнь только тогда отчетливо и полно, когда она была предварительно пропущена через фильтры литературы. Не освоенной литературой жизни он как бы просто не замечал и не умел о ней говорить. Может быть, это и объясняет тот факт, что в дневнике мы находим массу цитат и реминисценций. Правда, круг цитируемых авторов невелик, но зато частотность цитат исключительно высока. Вульф смотрит на жизнь во многом глазами современной литературы. И если она научилась говорить о любви, то и Вульф много и точно об этом говорит. Если же какие-то явления жизни еще не освоены литературой (например, смерть), то и Вульф свои впечатления от картин смерти еще не умеет передавать.
Такая зависимость массового сознания от художественных открытий эпохи – вполне обычное дело, и мы можем найти ее не только в дневнике Вульфа, хотя здесь она проявилась со всей очевидностью и полнотой. Но, понимая ординарный характер дневника Вульфа, мы должны с еще большим вниманием прочесть его: ведь мы встречаемся здесь не только с художественной элитой и интеллектуальными вершинами, но и с обычными людьми в их повседневной жизни. Мы узнаем, как жили поместные дворяне первой половины XIX века, дворяне, у которых плохо шли дела на гражданской и военной службе, у которых не ладилось хозяйство, у которых не хватало денег, чтобы жить по столицам, и потому они были вынуждены проводить скучные дни в своих старицких и опочецких имениях. Разумеется, перед нами не такие уж “темные” и незамысловатые скотинины XIX века, это не коробочки и ноздревы Гоголя: им свойственны духовные запросы и сложная душевная жизнь. В среде этих тверских дворян яркой звездой мелькнул Пушкин, навсегда осветив их будничную жизнь, заронив в сердца любовь, оставив их имена литературе.
Дневник Вульфа тем и интересен, что с его страниц на нас смотрит рядовой-не-рядовой человек, который вроде бы и как все, “негений”, и который тем не менее шагнул чуть дальше других “негениев”, сумев выразить их ощущения и жизнь. И признаем, что это всегда будет интересовать и привлекать к себе читателей.
Е. Строганова, М. Строганов
Дневник А. H. Вульфа
1827–1842
1827
10 августа (Тригорское)Я родился 17-го декабря 1805 года.
Мой отец Николай Иванович Вульф, отставленный коллежским асессором, жил по обычаю большей части русских дворян у отца своего Ивана Петровича Вульфа в тверской деревне1, не имея никакого постоянного занятия. Потеряв его очень рано (в 1813 году), я мало об нем помню, но сколько слышал, все знавшие его любили в нем человека с редкою добротою сердца и с тою любезностью в обращении, которая привлекала всех к нему; чувствительность его души видна была в нежной привязанности к своему семейству: он был равно почтительным сыном, как и нежным братом; любя своих детей, он был и добрым супругом2. Я всегда буду жалеть, что лишился его в тех летах, когда еще не мог ни узнать, ни оценить его. Знакомый в лучшем кругу тогдашнего общества обеих столиц, он имел и образование, общее нашему высокому дворянству того времени, то есть он знал французский язык, следственно, всё, что на нем хорошего было написано. Я сам помню его декламирующего трагедии Расина. Вот всё, что я знаю об моем отце.
Мать моя была дочерью Александра Максимовича Вындомского, человека с умом и образованностью, приобретенною им самим собою. Имев большое состояние, долго он был в большом свете, но наконец удалился и жил в своей деревне в Псковской губернии, где, занимаясь разными проектами, потерял он большую часть своего состояния. У него-то провел я первые лета моего детства; он меня очень любил, и естественно, ибо я был старшим сыном его единственной дочери (он имел еще одну дочь, вышедшую замуж за Ганнибала против его воли; она вскоре умерла, оставив одну дочь и сына); к тому же он мне хотел дать отличное воспитание совершенно в своем роде, не такое, как вообще у нас в России тогда давали. У меня не было ни мадамы-француженки, ни немца-дядьки, но зато приходский священник заставлял меня еще шести лет твердить: mensa, mensae, etc.3. Кажется, что если бы мой дед долее жил, то бы из меня вышло что-нибудь дельное. Но оставим возможности и будем благодарить судьбу за настоящее. Роковой 813-й год похитил и его!
Положение моей матери было тогда весьма затруднительно. Потеряв мужа и отца в течение нескольких месяцев, получила она в управление расстроенное имение, которое надобно было привести в порядок и заняться воспитанием пятерых детей (две обязанности, из которых каждая почти выше сил женщины), которым должно было дать воспитание, приличное их состоянию. Нас осталось пятеро: три брата и две сестры, из коих одна, Анна, старее меня, прочие, Михаил, Евпраксия и Валериан, – моложе меня. Мать моя приняла на себя труд быть моею наставницею. Живя уединенно в своей деревне, ей оставалось довольно времени от других занятий, дабы посвятить оное на воспитание своих детей. Но, к несчастью, не имея ни нрава, свойственного к таким занятиям (ибо сколько надобно иметь терпения при наставлении на трудный путь занятий? Даже у детей, одаренных природою особенными способностями, сухие занятия первоначальными науками отбивают охоту от учения. Сколько надобно здесь искусства, чтобы превозмочь природное отвращение от труда и заставить любить умственные занятия! У самых людей с созревшими понятиями только многолетний прилежный труд рождает любовь к наукам), – ни знаний, к тому необходимых, ее благое намерение принесло мало пользы. Признано, сколько способ (метода) учения может затруднять и облегчать занятия, особенно в те лета, когда еще мы не можем рассуждать. Что же может выйти хорошего, когда мы вместо постепенного, систематического учения занимаемся разными предметами на выдержку, как на счастье берут лотерейные нумера? Так было и со мною. Я учился, учился и только, без отдыха, без пользы. Оттого не осталось у меня ни одного приятного впечатления детских лет; я терял охоту от учения, ибо не видал никакой пользы от оного; чем сегодня, бояся наказания, я набивал голову, то завтра я забывал. Не раз должен был я выучить французскую грамматику наизусть от листа до листа, и, несмотря на это, я бы назвал дверь прилагательным именем4. Но главною потерею от сего образа воспитания было то, что я привык видеть в моей матери не что иное, как строгого и неумолимого учителя, находившего всякий мой поступок дурным и не знавшего ни одного одобрительного слова. Мы испытали, что на животных гораздо скорее действуют кроткие меры, нежели насильственные; неужели же к людям, существам, одаренным духовными способностями в несравненно высшей степени, нельзя применить сего правила? Но наши отцы об этом не думали, полагая, что страх может то же произвести, что и любовь. Грубая, сожаления достойная ошибка! К несчастью, есть еще много людей, которые держатся таких мнений, кажется, не оттого, чтобы они признавали оные неопровергаемыми или единственно спасительными, но более потому, что они согласны с их характерами властолюбивыми и своенравными.
Что ж было плодом всего этого? То, что уже один голос моей матери наводил на меня трепет. Я не был спокоен, когда ее знал вблизи. И сколь пагубное влияние имеет такое обращение с детьми на нравственность их! Не смея произнести слова в присутствии грозных своих родителей, привыкают они скрывать свои мысли; убегая их, они естественно попадаются в общество слуг, скопище всех пороков, где потухает последний луч сыновней любви, пока собственный наш рассудок не приведет нас опять на истинный путь.
Странно, с каким легкомыслием отказываются у нас матери (я говорю о высшем классе) от воспитания своих детей; им довольно того, что могли их на свет произвести, а прочее их мало заботит. Они не чувствуют, что лишают себя чистейших наслаждений, не исполняя долга, возложенного на них самою природою, и отдавая детей своих на произвол нянек; оттолкнув их таким образом от себя, они винят детей в неблагодарности, не находя в них любви к себе. Мы везде видим, как преступления против природы наказуемы бывают своими собственными следствиями; так и здесь: в те лета, когда страсти начинают в людях ослабевать и они, вследствие физических причин, начинают искать покоя, тогда, пресытясь суетными наслаждениями рассеянной жизни, ищут они утешения в кругу своего семейства. Но что ж они там находят? Вместо детской любви холодное почтение и чаще равнодушие, если не что-нибудь худшее, и, не сознаваясь в собственной вине своего несчастия, ропщут они на судьбу и на детей. Вот что мы видим всякий день, если заглянем в домашнюю жизнь наших бояр, где мы найдем и причины нашей дурной нравственности и невежества.
Итак, первыми моими успехами в науках обязан я моей матери. Но в 1817 году она вступила во второй брак с Иваном Сафоновичем Осиповым, что было причиною переезду нашему в Петербург, где меня в следующем году отдали в Горный корпус5. Итак, на 13-м году я сделал первый шаг за порог моего родительского дома. Меня поручили одному чиновнику, служившему при корпусе, у которого я и жил. Я здесь остался ненадолго, ибо в следующем (1819) году случай меня перенес в Дерпт 6, к вреду ли моему или к пользе – это покажет будущее. Это учебное заведение должно причислить к одному разряду со всеми кадетскими корпусами, про которых можно сказать, что они лучше, нежели ничего, но не более. Все они далеки от того, чтобы приносить ту пользу, которую от них ожидают, ибо за очень необширные познания, которые там приобретают воспитанники, слишком много они теряют в нравственном отношении, чтобы можно было назвать первое прибылью.
Спартанское воспитание замечательно только тем, что оно доказывает силу великого гения, его создавшего, и до какой степени люди могут предаваться одной идее, даже если она в противоречии со всеми наклонностями человека. История доказала, что безнаказанно человек не может противиться вечным законам естества природы; страсти человеческие, разорвав узы, так долго их связывавшие, не находили уже преград своему неистовству. И Спарта, прежде знаменитая своими добродетелями, стала столь же славна своими пороками. Это естественно: когда законы ослабели и грубые спартанцы узнали наслаждения образованных народов, то что могло выйти иное из людей, не знавших святейших и благороднейших связей человечества? Не знав ни имени отца, ни супруги, ни сына, могли ли они быть хорошими гражданами? Прежде они заключали все сии священные имена в одном имени отечества, но с разрушением сей идеи они потеряли всё святое, ибо их вера, бывшая не что иное, как гражданское постановление, не могла быть опорою. Люди соединились в общества для того, чтобы обезопасить собственность и права каждого члена от насилия, стараясь при том как можно более сохранить первобытной своей свободы; итак, общество у них было средством, а не целью, в Спарте же было это навыворот. Если общественное воспитание и в самой Спарте не было соответственно назначению человека, то сколь вредно должно оное быть у нас, где оно не столь тесной связи с гражданскими постановлениями и где так мало занимаются уменьшением зла, неразлучного с сим постановлением?
Нравственное образование необходимо для человека, который должен сделаться полезным гражданином; могут ли же оное приобрести воспитанники наших кадетских корпусов, брошенные туда отцами своими в самом нежном возрасте (не имея способа дать им другого воспитания), тогда когда им столь нужна подпора и любовь своих родителей? Но чего достойны те отцы, которые для того удаляют от себя детей своих, чтобы избавиться от бремени их воспитания? Конечно, необходимы общественные заведения для образования офицеров, а особливо для морской службы, но не должно туда принимать детей; только молодые люди, окончившие первоначальное воспитание, общее всякому образованному человеку, которое они могли получить или дома, или в гимназиях, к тому правительством устроенных, – сии воспитанники должны бы были быть в таких летах, дабы могли понимать обязанности, на себя принимаемые, избирая себе состояние, которому они думают себя способными. Разумеется, что тут должно уничтожить варварский обычай телесных наказаний, недостойный образованных людей, истребляющий понятие о чести, столь необходимой для всякого чувствующего свое личное достоинство7.
<Приписка от 8 июня 1828>Надобно побывать самому в таком корпусе, чтобы иметь понятие об нем. Несколько сот молодых людей всех возрастов от семи до двадцати лет заперты в одно строение, в котором некоторые из них проводят более десятка лет; в нем какой-то особенный мир: полуказарма, полумонастырь, где соединены пороки обоих. Нет разврата чувственности, изобретенного сластолюбием Катона8 и утонченного греками, подробно поименованного в “Кормчей книге”9, которого не случалось бы там, и нет казармы, где бы более встречалось грубости, невежества и буйства, как в таком училище русского дворянства! Всем порокам открыт вход сюда, тогда когда не принято ни одной меры для истребления оных. Телесные наказания нельзя к таким причислить, ибо они наказывают, а не предупреждают проступок. Принимаемые без всякого разбора воспитанники приносят с собою очень часто все пороки, которые мы встречаем в молодых людях, в праздности вскормленных в кругу своих дворовых людей, у коих они уже успели всё перенять, и передают их всем своим товарищам. Таким образом ежедневно в продолжение нескольких десятков лет собираются пороки, пока они не сольются в одно целое и составят род обычая, закона, освященного временем (всегда сильною причиною) и общим примером. Тогда уже ничто не может помочь, никакие меры – исправить такое заведение. Воздух, заключенный в этих стенах, самые стены заражены; только с истреблением всего, как бы постигнутого моровою язвою, можно искоренить зло. Зная сие, ясно, отчего новые училища такого рода сначала несколько соответствуют своей цели и потом так скоро упадают. Многие подумают, что здесь всё увеличено, слишком резко описано: нимало! Всякий бывший в корпусе согласится со мною. К тому же причины зла основаны на природе вещей: возьмите несколько человек со всех концов земли, всех степеней образованности, всех исповеданий веры, исключите их из остального мира, подчинив одному образу жизни. Что выйдет? Одинакие занятия, одинакая цель жизни, радости, печали и вообще всё, что они будут чувствовать, касающееся их всех, а не одного из них, даст им всем одну отличительную черту, один характер, общий всем, но составленный из личности каждого (таково было начало каждой народности). И не будет ли этот характер тем хуже, чем порочнее члены, составившие общество? Примеры сего мы видим в колониях, монастырях, университетах, разбойничьих шайках и даже в некоторых гражданских сословиях, где они сближаются с кастами древних.
Взглянув на учебную часть корпусов кадетских, мы найдем в них немного более утешительного. У нас еще не знают или не хотят знать, что хорошим офицером может быть только образованный, а образованным офицером – только образованный человек. Преимущественно перед всеми другими науками, и исключительно, занимаются преподаванием математики. Впрочем, я не думаю, чтобы и самый Лаплас был бы хорошим генералом. Конечно, офицеру необходимы познания математические, но чтобы сделать их единственными, это не может ни в каком случае быть полезным; даже человеку, посвящающему себя единственно наукам математическим, необходимы сведения – по крайней мере исторические – о предметах знаний, с ними в связи находящихся; например, математик должен быть и логиком и пр. Круг познаний офицера так велик и оные так разнообразны, что, право, у него нет времени лишнего, чтобы он мог его посвящать исчислениям высшей математики, ему ненужной (я не говорю здесь об артиллеристах и инженерных офицерах, которым, разумеется, высшая математика необходима). На исторические, географические науки, столь необходимые, обращают мало внимания, даже и на знания отечественного языка. Также совсем не заботятся о том, чтобы приохотить молодых людей к ученью, отчего те и думают только о том, как бы скорее выйти в офицеры и бросить книги, полагая, что, достигнув эполет, они уже всё нужное знают, не подозревая, что по сию пору их только приготовляли к настоящему ученью, что им только показали путь, по которому они теперь должны сами, без помощи других вперед идти.
Кажется, гораздо полезнее было бы обратить внимание на состояние уездных и губернских училищ, преобразовать их так, чтобы они в состоянии были приготовлять воспитанников своих для вступления как в университет, так и военные академии, кои заменили бы корпуса…
16 сентябряВчера обедал я у Пушкина в селе его матери10, недавно бывшем еще месте его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе (другие уверяют, что он приехал от того, что проигрался).
По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим его столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали Montesquieu11 с Bibliothéque de campagne12 и “Журналом Петра I”13, виден был также Alfieri14, ежемесячники Карамзина15 и изъяснение снов16, скрывшееся в полдюжине альманахов; наконец две тетради в черном сафьяне остановили мое внимание на себе: мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного, заключенного в них, особливо когда на бол́ьшей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Естественно, что я думал видеть летописи какой-нибудь ложи; но Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, окончил все мои предположения, сказав мне, что она была счетною книгой такого общества17, а теперь пишет он в ней стихи; в другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет – как Пушкин говорит – неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь18. Вот историческая основа этого сочинения. Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр; рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги; он хотел мне показать “Годунова” с собственноручными его величества поправками. Высокому цензору не понравились шутки старого монаха с харчевницею19. В “Стеньке Разине” не прошли стихи, где он говорит воеводе астраханскому, хотевшему у него взять соболью шубу: “Возьми с плеч шубу, да чтобы не было шуму”20. Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его “Графа Нулина”: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп21.
Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: “Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову”22.
Играя на биллиарде, сказал Пушкин: “Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей “Истории”, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову – пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря”23.









































