Читать книгу "Ратоборцы"
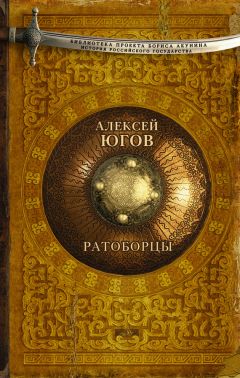
Автор книги: Алексей Югов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
И скакали баскаки и численники татарские, исчисляя и взимая дань-выход и с плуга, и с дыма, и тамгу со всего продаваемого и устанавливая ямские станы от Днепра до Китайского моря и Каракорума.
Только чернцов, попов да игумнов не исчисляли. «С них, – так гласили ханские грамоты, – не надобе нам ни дань, ни тамга, ни поплужное, ни ям, ни подводы, ни воин, ни корм. Но пусть молятся за нас богу своему без вражды, с правым сердцем».
Не страшившиеся никого на земле – от океана до океана, – татарские ханы и сам великий хан татарский боялись затронуть богов даже и побежденного племени и народа.
И едва ли не всех богов забирали в свою божницу.
Итак, для монголов произрастали посеянные на Волыни и на Киевщине хлеба. Для Орды в лесах Севера гнездился соболь и горностай. Для нее гремели, со всею мощностью, шерстобитни и сукновальни Фландрии, превращая в драгоценное сукно корнваллийскую шерсть – наитончайшее руно с пастбищ Йоркшира и Бостона.
Для Орды трудился и червь шелковичный в Китае и шумели ткацкие станы дамасских и византийских шелкопрядилен, изготовлявших пурпуры и виссоны царских багряниц. Для нее, долгорукой и ненасытной, отягощались плодами своими в оазисах Африки и Аравии и финикийская пальма, и древо банана.
Для стола хозяев Поволжского улуса, из Индийского царства, откуп – дань – доставлялся бережно, с неслыханным тщанием: за сохранность сладчайшего груза головою отвечал караван-баши! – амврозии равный плод, услада языка, рай гортани, – плод, именуемый «манго».
Для Орды – для нее – рдели винограды Лангедока, Шампани, Венгрии и Тавриды и точился в точилах сок, и столетьями созревали и янтарели нектару подобные вина и в боярских, и в княжеских, и в королевских, и в панских подвалах и погребах.
Для монголов – ленивых на все, кроме битвы, – текли изобильные рыбою реки. Для Орды струилося вымя в тучных неисчислимых стадах на пастбищах покоренных народов.
Все – чужое, награбленное, нахищенное!.. А что же было свое?
Свое, татарское, было многовековое родовое сцепленье кочевых забайкальских орд под властью князьков и старейшин – табунодержцев и скотоводов. Свой был кумыс, овечья и верблюжья шерсть, шаманы, заунывная песня, домбра, стрелы и луки и бескрайние пастбища. И если чего и недоставало всем этим бесчисленным князькам и старейшинам, так это чтобы весь мир превратился в одно беспредельное пастбище. А уж если где невозможно пасти татарские табуны, стада и отары – там чтобы обитали одни только данники и рабы. Но сперва надо было, чтобы в этих бескрайних степях распыленные, едва слыхавшие о существовании друг друга, бесчисленные племенные комочки были сбиты кровавым пестом в одно чудовищное государственное образование!
Свое, татарское, был гений монгола Темучжина, наименованного потом – Чингиз-хан, – гений военный и государственный, – Темучжина – вожака разбойничьей шайки на притоках Амура, Темучжина, который к возрасту мужа уже с полным правом именовался «Потрясатель вселенной».
Человек этот – дед хана Батыя – поклялся, еще за Байкалом, перед лицом всех первых своих сподвижников:
– Народ, который среди всевозможных опасностей сопровождал своей преданностью каждое мое движение, я хочу возвысить над всем, что движется на земле.
И эту клятву исполнил!
Своя была у монголов неразрывная кровавая круговая порука, пронизывающая всю Орду: от великого хана – императора через ханов, нойонов, батырей до последнего рядового добытчика.
Страшная круговая порука подданных и повелителя с первобытной и дикой силой, свойственной кочевым ордам, племенам-скотоводам, изъявлялась при избрании хана в императоры всех монголо-татарских улусов и стойбищ, где бы ни кочевали, где бы ни располагались они.
Хана с его женою, его старшею хатунью, сажали на войлок. Клали перед ним саблю и говорили:
– Мы хотим, просим и приказываем, чтобы ты владел всеми нами!
– Если вы хотите, – отвечал хан, – чтобы я владел вами, то готов ли каждый из вас исполнить то, что я ему прикажу, приходить, когда позову, идти, куда пошлю, убивать, кого велю?
– Готовы!
– Если так, то впредь слово уст моих да будет мечом моим!
Вельможи и воины говорили:
– Возведи очи свои к небу и познай бога. Затем обрати их на войлок, на коем сидишь. Если ты будешь хорошо править государством, если будешь щедр, если водворишь правосудие и будешь чтить вельмож своих по достоинству, то весь свет покорится твоей воле и бог даст тебе все, чего только сердце твое пожелает. Если станешь делать противное, то будешь злосчастен и отвержен и столь нищ, что не будет у тебя и войлока, на котором сидишь.
Сказав это, они подымали на войлоке хана и ханшу и торжественно провозглашали их императором и императрицей всех татар, всех монголов.
Своей была – неслыханная для европейцев – лютая дисциплина, покоившаяся и в самой битве на той же круговой монгольской поруке.
За одного оказавшегося в десятке труса убивали весь десяток. Если десяток не выручал своего, попавшего в плен, убивали весь десяток.
Если с поля битвы бежала сотня, расстреливали из нее каждого десятого.
Нахмуренная бровь десятника – ун-агаси – где уж там хана! – была для воина страшнее смерти, ибо сплошь и рядом это и означало смерть, но только не доблестную, а позорную.
Потерявшего армию полководца одевали в женское платье и предавали глумленью. А затем багадур, коему еще недавно беспрекословно повиновались десятки туменов, сотни тысяч волчьих сердец, покорно склонял свою шею для шнурка посланного ханом давителя, хотя бы это был простой овчар…
Однако по другую сторону воина, в подспорье к простой, но и страшной системе кар и взысканий, высилась простая же в своем основанье – грабеж и дележ, – но многосложная система наград и поощрений.
Сотников, кто отличался, хан делал тысячниками, одарял их серебряною посудою, множеством коней, рабами, рабынями, отдавал им дочерей и жен побежденных. Тысячников же делал темниками и награждал их в десятикратном размере против первых. Сотник имел серебряную дощечку-пайцзу, тысячник – вызолоченную, темник же – золотую, с львиной головой.
Едва только объявлялась война, как букаул – начальник гвардии Батыя, верховный распорядитель двора – тотчас по взятии большого вражьего города прибывал на побоище и, как верховный судья, примирял дерущихся из-за добычи ханов, нойонов, батырей, присуждая одному то, другому другое…
Да еще своя была неисчислимая монгольская лошадь – бойкая, крепконогая, злая, с толстым хвостом, – лошадь, которую не надо было кормить, – напротив, она сама не только несла, подобно черному урагану, полумиллионную орду, но и кормила ее – и молоком своим, и мясом, и живой своей конской кровью – в пустынях, в крайности.
Из-под толщи аршинного снега эта лошадь выбивала копытом прошлогоднюю траву.
У простого воина было не менее двух поводных, сменных лошадей. Ун-агаси имел их десяток, а не возбранялось и более. Начиная же с гус-агаси – сотника – количество лошадей исчислялось уже табунами.
И своею конницей подавляли.
На Западе, в Европе, как гласит древнее монгольское преданье, вождь татаро-монголов нашел трех незаменимых союзников.
Когда Батый перевалил через Карпатский хребет и вторгся во владения короля венгерского Бэлы, то принес жертву демонам, обитавшим в некоем войлочном идоле, которого хан повсюду возил с собой. Хан спросил идола: остановиться ему или двинуться дальше? И демон, обитавший в том идоле, будто бы отвечал: «Ступай смело! Ибо впереди тебя, в станы врагов, я посылаю трех духов, и они уготовают тебе путь. Первый дух – дух раздоров, второй дух – неверия в свои силы, третий – дух страха».
Услышав это предсказание, Батый двинулся в глубь Мадьярии.
А сколь ревностно эти нечистых три и губительных духа служили татарам, то изведали на себе неисчислимые народы земные и государи.
Сам папа римский, «наместник Господа на земле» – Иннокентий IV, «государь государей», смиренно принял мерзкий и глумливый татарский ответ на свое посольство, принял от какого-то второстепенного хана, который единственно тем наглым ответом и сохранил свое имя от забвенья:
«Ведай это ты, папа: слышащий непреложное наше установленье да сидит на собственной земле, воде и отчине, а силу пусть отдает тому, кто сохраняет лицо всей земли… Ты, папа, приходи к нам своею собственною персоною („Tu, papa, propriam personam ad nos venias“) и предстань пред того, кто сохраняет лицо всей земли. Если же ты не придешь, то мы не знаем, что из этого будет, бог весть!.. Повеленье сие посылаем через руки Айбега и Саргиса. Писано месяца июля 20 дня, в области замка Ситиэнса».
Другой посол Иннокентия, из ордена миноритов, Иоанн де Плано-Карпини, прибывший к хозяину Поволжского улуса чуть позднее Даниила, сильно и горько сетовал на обиды и утесненья, коим подвергали его – и у Батыя, и в ставке самого императора, за Байкалом, в Каракоруме.
Заставили преклонить колена не только перед самим Батыем, но и перед битакчи[20]20
Начальник канцелярии Батыя.
[Закрыть], объявлявшим ритуал ханского приема.
Шаманы заставили пройти меж двумя огнями, подгибая головы под ярмом – веревкою, натянутой меж двумя копьями.
«Говорили мы нашу речь, стоя на коленях, а потом подали грамоту Святейшего отца.
Пищи нам не давали никакой, кроме небольшого количества пшена на блюде, да и то лишь в первую ночь нашего приезда».
Так сетовал горько брат Иоанн на монголов. Однако худшее ожидало его, легата «наместника Божия на земле», еще далее – за Байкалом, у императора Куюка.
Не давая аудиенции, его, Иоанна Карпини, и сопутствовавшего ему Бенедикта, доминиканца, протомили более месяца.
«Целый месяц терпели мы такой голод и жажду, что едва могли жить. Ибо запас, даваемый на четыре дни, был явно недостаточен и для одного дня. К счастью, Бог послал нам на помощь одного руса, по имени Кузьма, золотых дел мастера, которого император очень любил. Кузьма показывал нам только что сделанный его руками императорский престол, прежде чем поставили его на место, а также императорскую печать, им же сделанную» – так писал Иоанн де Плано-Карпини.
Русский пленный гравер и резчик по слоновой кости, некий Кузьма, в течение целого месяца содержал на своем иждивении посольство римского папы в Большой орде.
От Батыя, с берегов Волги, королю Франции, Людовику IX Святому, через посла его Рюисбрэка велено было сказать, что ни горы, ни моря не защитят короля франков от десницы Батыя и что когда подойдет очередь короля, то властелин Золотой орды вычерпает шапками своих воинов океан, сроет саблями горы, буде понадобится, а до короля таки доберется.
Однако очередь до Людовика не дошла. Зато с неуклонной неотвратимостью Батый исполнил свою угрозу, собственноручно начертанную им в письме к венгерскому королю:
«Я – Батый, наместник Небесного Царя, который дал мне власть возвысить тех, кто мне покорится, и убивать тех, кто окажет мне сопротивление. Я удивляюсь, что ты, Бэла, такой ничтожный король Венгрии, не ответил ни на одно из тридцати моих посланий.
Я узнал, что ты принял куманов[21]21
Половцев.
[Закрыть], моих рабов. Я приказываю тебе не держать их более в твоем королевстве. Со своими шатрами они еще могут спастись бегством, но ты, у которого имеются дома, дворцы и города, – каким образом ты сможешь скрыться бегством от меня?!»
Бэла IV долго со своими баронами смеялся над этим посланием монгола.
А вскоре золотистого шелка огромный шатер короля венгерского, одного из могущественнейших католических государей, кинутый Бэлою в бегстве, посол Иннокентия Карпини увидел у Батыя на Волге…
Между тем стоило «наместнику Христа на земле» Иннокентию воззвать от всего сердца ко всем католическим народам, и, быть может, тысячи и тысячи честных и бесстрашных людей, по крайней мере из числа славянских народов, обращенных в католичество, ринулись бы подкрепить истекавшую кровью Россию.
Еще ведь и тогда, при Иннокентии IV, страшной силой были крестовые походы в руках Рима!
Однако не было сказано такое слово, не было дано мановенье!..
И вот и светлейшие герцоги и князья, не говоря уже о послах – папских, королевских и прочих, – принуждены были проходить меж двумя кострами, под веревкою, окуриваемые дымом из кадильниц кудесничавших шаманов.
«И мнозии князи Рустии, с бояры своими, идяху сквозь огнь и поклоняхуся солнцу, и огню, и идолам их».
Один Михаила Черниговский отринул это. Тщетно повелевал Батый, тщетно, по его просьбе, Александр Ярославич Невский, принужденный в то время бывать у Батыя и у сына его Сартака, умолял свойственника своего, князя Михаила Всеволодича, не гневить хана и хотя бы пройти меж кострами, ибо, убеждал Александр Ярославич, то не в поклоненье делается, но ради якобы волшебного очищения всех приходящих от злого умысла против хана.
Тщетно!..
Тогда и священник, прибывший с князем Черниговским, присоединился к мольбам, и бояре стали говорить, что если даже сие и в поклоненье творится, то пусть грех его на них ляжет.
Князь не слушал их, и попросил священника причастить его, и стал готовиться к смерти.
И смерть не замедлила!
Разъяренный хан послал на князя палача своего, и тот, будто буйвол, повалил Михаила на землю и, разодрав светлые одежды его, пинками в сердце тяжко обутых ног убил князя… А потом обезглавили…
Пред такого-то человека с часу на час, но, быть может, и через месяц, если вздумают потомить, поглумиться, – ибо целиком был в их власти, – надлежало предстать Даниилу.
3
Протянув на маленький, перламутром выложенный восьмиугольный столик левую, обнаженную по локоть руку – руку могучую и как будто резцом Лизимаха изваянную, Даниил предоставил отделывать жемчужно-розовые миндалины ее ногтей ножничному отроку Феде, а правой рукой перелистывал большую, в кожаном переплете книгу, лежавшую перед ним на откосом и узком стольце, наподобие налоя.
От кожаного переплета, настывшего на морозе, от самых листов пахло еще улицею, снегами и веяло легкой прохладой, и это особенно было приятно в жарко натопленной комнате, о чем не преминул позаботиться Андрей-дворский, едва только успели прибыть.
Кстати молвить, ордынское отопленье – посредством деревянно-глиняных труб, отводящих жаркий воздух из печи вдоль стен, – отопленье это дворский весьма одобрил: «Не худо бы и нам такое, Данило Романович!» – но решительно и гневно воспротивился, когда истопник принес вместо дров целый пестерь верблюжьего кизяка. Дворский счел это за обиду и поношенье, выгнал истопника, пошел сам к векилю – смотрителю караван-сарая, где отведены были им покои, и посулами и угрозами: «Я ведь и до самого хана дойду!» – добился-таки, что навозные кирпичи убрали и привезли дров.
Зато одобрил Андрей Иванович, что стены покоев были почти сплошь увешаны яркими керманшахскими коврами, а также коврами застланы и полы:
– А это добро у них! Лепо!.. Да и с полу не дует… Хоромы нам добрые достались, Данило Романович: прежде нас тут масульманский архиерей стоял – к хану Беркею приезжал: в Мухомедову веру его звать. И хан Берка приклонился! А ведь Батыю – родной брат!.. А и тот што думает? Конечно, всего милее, достойнее – наша вера, православная… Но… – дворский развел руками. – Но я, княже, тако мыслю: хан Батый – стольких земель обладатель!.. И не зазорно ему каким-то тряпишным идолам кланяться? Уж я бы на его месте лутче бы к Мухомеду приклонился… право…
Ковры, изукрашавшие стену, причинили, однако, немало и хлопот дворскому: вместе с Федей, русоголовым, остриженным в кружок, тихим, безответным отроком, он под каждый ковер заглянул, да еще и простукал: «А нету ли где потаенных слуховых продухов?»
– А то ведь, князь, татары – они любят шибко за коврами подслушивать!
– И откуда ты узнать мог? – сказал князь, изумляясь его осведомленности. – В Татарах ты не бывал…
Дворский лукаво прищурился.
– А как же, Данило Романович? – возразил он. – А когда у Куремсы были! Оно, правда, пролетом, проездом, но, однако, в той Орде у меня такой дружок завелся – и не говори!.. Когда бы не будь он из поганых… Я и то ему говорил: «А што, Урдюй, женка-то у тебя, видать, не праздна ходит, на сносех, – когда бы ты веру нашу принял, я бы в кумовья к тебе – с радостью…» Он, этот Урдюй, – толмач: с русского языку на свой перекладывает и обратно… Он многое мне про их норов-обычай порассказал!..
Эти беседы с дворским немало отвлекали князя от суровых раздумий…
Удивлялся было, с какой расторопностью и упорством Андрей-дворский устроил покои, отведенные князю, на тот самый образ и вид, что был привычен ему в Холме!
Первым делом приказал своим слугам и татарским рабам, обслуживавшим жилой этаж караван-сарая, вынести вон различные безделушки из нефрита и бронзы, украшавшие комнату: изображение некоей китайской девки-плясовицы, кумирню с миниатюрными колокольчиками и какого-то лысого, головастого уродца, едущего на быке. О последнем изображении дворский сказал:
– Ну к чему было такую кикимору изваяти? Какое в том человеку утешенье? А, видать, художник делал!..
И прискорбно прищелкнул языком.
Затем внес в комнату привезенный из Руси налоец для книг, свещники, свечи и свечные съемцы-щипцы, и все это, вдвоем с Федей, расположили так, как стояло оно все в рабочей холмской комнате князя.
В переднем углу, на легком кипарисовом кивоте, поставил икону-складень: Деисус и святый Данило Столпник.
Затем, спросясь князя, сбегал за попом в русский конец Сарая, и отслужил тот краткий молебен, и все углы окадил ладаном.
Не менее поражала и забавляла князя и та быстрота, с которой дворский, не знавший татарского языка, вынужденный прибегать то к содействию приставленного к ним толмача, то к добровольным переводчикам из татар, половцев или русских, освоился, однако, в Орде.
Возвращаясь после каждого своего пробега по столице Волжского улуса, дворский и воевода князя Галицкого, словно из большой торбы, высыпал перед ним, улучив подходящее мгновенье, разные разности про Орду. И мелочное, частное, а порою забавное перемежалось в его рассказах иногда с такими наблюденьями и сведеньями, которые – так считал князь – могли весьма и весьма пригодиться даже ему: «Если жив буду!»
– Сей – в великой силе у хана! – пояснял дворский, упомянув кого-либо из багадуров. – Ну, а Бирюй-хан – сему уже веревка около шеи вьется! Уже более месяца к Батыю не зван! Ханова лица не видит. Печальный ходит!.. Ну, а до чего же, Данило Романович, настырный народ сии татары! Такая назола… все подарки клянчат!.. От хана – и до слуги!.. Ну, прямо не отвяжешься!.. Которому и сунешь что – иной раз сущую безделицу: абы отстал! – а глядишь: довольнешенек. А на иного зыкнешь: «Что, мол, я тебе, пуговицу от жупана либо от шаровар своих оторву да отдам?! Чудак-человек!.. Погоди, говорю, как дело свое справим у хана, тогда и тебе будет!..» Так вот, Данило Романович, и воюю с ними: тому посулишь, того пригрозишь!.. Ох, Орда!.. Ох, Орда!.. Одно слово – орда!..
И, повздыхав, посетовав, оглядывал комнату князя или еще вспоминал что-либо недоделанное и сызнова мчался – добывать, грозить, сулить, добиваться.
Даже и Андрея-дворского, который немало перевидал и на Руси и на Западе преизобильных и всяким великолепьем изукрашенных городов, Андрея, который недолюбливал похвалить чужое, на этот раз поразила многообразная, хотя и нагроможденная роскошь Батыевой столицы, и протяженность, и многолюдство ее.
– Это есть действительно град! – говорил он. – Улицы, дома – что тебе былой Киев наш!.. Конечно, Киев – посветлее!.. А на улицах, княже, на базарах такой галман стоит! Будто в нашем Галиче: все языки перемешалися… не разберибери!.. Столпотворение вавилонское!
Сами ордынцы, внешностью своею, весьма не приглянулись дворскому.
– Лики нечеловеческие! – воскликнул он и даже зажмурился, покачнул головой. – Ротасты, челюстасты, утконосы, а глаза – как точно бритвой скупенько кто резанул… едва-едва мизикает ими!.. А видят глазами своими дале-еко! – тут же восклицал, поражаясь, дворский. – И якобы оттого далеко видят, что соли не кладут в яство. А кто, говорят, солоно любит кушать, у того глаза не вострые и стреляет худо… Не знаю, то верно или нет?.. Но лицом, Данило Романович, и здешни – все на один болван: точно бы все из одной плашки тесаны – в один голос, в один волос, в один миг, в один лик!.. Я было взялся, попутно, того батыря пошукать, который к нам в Дороговско был послан от хана, – думаю: по халату нашему, что я ему подарил, да и по шапке нашей дареной должен я его признать! Ну, где там! В одного вклепался, в другого, да и бросил: все на одно лицо!.. А и всякий-каждый главизну как-то по-чудному бреют: за лево ухо косичку плетут. Смех!..
К татаркам дворский отнесся благосклоннее:
– Женщины – те у них поприглядне будут. Которые даже и на русский погляд – леповидны. А все же против нашей русской женщины альни сравнить!
Дворский махнул рукой.
– И все ихние бабы, – продолжал он, – в шароварах должны ходить, како мужской полк! То понять можно: Чагоныз повелел всему народу на коне обучиться… И всю жизнь – на коне… с ребенком – и то на коне. Тогда в шароварах удобнее. Но пошто на головы взгромождают такое строенье – не возьму в толк! – ни тебе клобук архиерейский… да что клобук!.. Более приравнять можно: акы ушат кверху дном опрокинут и полотном обтянут… Сие ни к чему, я считаю…
Хвалил семейную чистоту и целомудрие жен татарских:
– Мужнину честь хранят! – Нахмурясь, добавлял: – Жен – и по три и по четыре имеют: кто сколько сдюжит прокормить. То во стыд не ставят. А наложница коли заимела ребенка, то уж стала в полном чине жена. И если ханенок от таковые посадницы, то может и на ихный престол взойти…
Осуждал татарскую пляску:
– Черного своего молока напьются кобыльего – кумыза, сделаются пьяны, сейчас – плясать! Гусли, сопели, бубны… А пляска у них неладная, Данило Романович!.. Дерг, дерг… якобы кукла-живуля… срамота, бесстудьство одно!.. То ли дело – наш колымыец гопака спляшет али киевлянин!..
И сызнова начинал о городе:
– Чудно изукрашен их град! Улицы – широки. Инде торцами кладены. Хоть бы и не татарам в таком граде жить! Только улицы градские не чисто содержат!..
Тут Андрей-дворский понизил голос и с некоторою опаскою сообщил:
– К примеру молвить: некий грек пленный устроил им водометы. Дивно, окаянный, измечтал: воду по трубам – колесами, шатунами – прямо из Волги подает, за несколько верст, – конской тягой. Ходит конь округ колеса… глаза у него завязаны… Ладно. Кажись бы, у Волги хватит воды на все! А почему же в домах даже и руки обмыть нечем?.. А и не моют!.. Осалит за обедом руки – тотчас их о голенища, об шубу отрет! И рыгают – не приведи господь!.. И того у них нету, чтобы чашку ополоснуть!.. Одно слово – варвы!..
За немалую, надо полагать, мзду первый битакчи выдал дворскому грамоту и пайцзу, с которыми можно было невозбранно посещать любой из кварталов Сарая.
И тогда такого насмотрелся галицкий воевода, о чем не смог промолчать перед князем, едва только возвратился к нему: пусть знает, пусть ведает Данило Романович, как волынские и галицкие его гинут у проклятых, и нет им заступника; пускай хоть словом своим заступит и оградит своих-то, когда позовут к Батыю!
И начал было рассказывать дворский:
– Рязанским, суздальским, ростовским, а и киевлянам пленным, – тем куда легче, не то что нашим галичанам несчастным! Ихние-то князи: Ондрей Ярославич, Олександр Ярославич, а то и сам Ярослав Всеволодич – сей вот намедни проехал через здешни места к великому хану, в Каракорум, – ихние-то князья ведь по всяко дело когда не один, ино другой наезжают в Орду…
Князь молча слушал, а сам перелистывал в это время манускрипт, в котором, по его повелению, монахи, работавшие в его скрипториях, и толковники-греки, руководимые обоими Кириллами – и печатедержцем и митрополитом, – собрали, переписали в выдержках все, что только можно было прочесть о русских и о славянах в писаниях древних авторов.
Здесь, в этой книге, на белоснежном цареградском пергаменте, средним уставом, с заглавными буквами, изуроченными киноварью и золотом, списано было все о славянах и о народе русском, именовавшемся у древних – «анты». Обширный, пытливый ум и сердца многих древних мыслителей, да и хронографов-летописцев, и захватывала и потрясала, наполняла то гневом и ужасом, то упованьями и надеждой судьба этих антов, или русов, что то же, – народа, загадочного и для римлян, и арабов, и греков, обладавшего всем севером, всей срединой Балканского полуострова, всеми землями от Карпат и Дуная до Тмутаракани, и до великой пучины морской, именуемой Каспий, и до Урала, уходящего в Страну Мрака.
Кто только не писал о них, о его карпаторусах, о галичанах, волынянах и о киевлянах, – начиная от Геродота, Плиния и Тацита!..
Вот хронограф византийский свидетельствует об ответе русского князя Лавриты аварскому хану, который требовал дани:
«Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который подчинил бы себе силу нашу? Нет! И мы в том уверены, пока существует на свете война и мечи!»
И вторит ему ученый араб Масуди:
«Словяне – народ столь могущественный и страшный, что если бы не делились на множество разветвлений, недружно меж собою живущих, то не померялся бы с ними ни один народ в мире!»
И все ж таки: «Вся греческая империя ословянилась!» – в тревоге восклицает император-историк.
«Словяне научились вести войну лучше, чем римляне!» – одержимый тем же страхом, взывает хронограф эфесский.
«Словяне и анты любят свободу, не склонны к рабству. Сами же взятых в плен не обращают в рабов», – заключает римский стратег.
Сколько раз, припадая к фолианту сему, точно тот сказочный исполин к груди своей матери-земли, Геи, вдыхал в себя князь в часы душевного мрака, в годы чужеземных нашествий неизреченную силу древних чужестранных повествований о бессмертном своем народе!
Сколько раз сопутствовала ему книга сия на съезды его с врагами, только что замиренными, и за столом мирных совещаний решала нелицеприятным древним словом своим жесточайшие пограничные споры!..
…В словах дворского вновь и вновь послышалось Даниилу дорогое, но и заповедное имя – Александр. Князь вслушался.
Андрей же дворский, заметя сие, подступил поближе и обрадованно проговорил:
– Как же, Данило Романович. Я, стало быть, иду себе… Гляжу – впереди меня идут двое. Одеянье, речь – наши, русские. Бояре, видать, и бояре великие! Говор, слышу, новгородский либо суздальский. Идут вольготно. Я пообогнал их. Ну ведь как тут не спросить? «Чьи вы, говорю, будете, господа бояре? Которого князя?»
Дворский слегка вытянул шею и закончил радостным шепотом:
– Самого-то Ярослава Всеволодича оказалися ближни бояре! Оставлены здесь при Олександре Ярославиче – помогать ему. И сам Олександр Ярославич тут!..
Дворский с торжествующим и лукавым выраженьем лица ожидал, что отмолвит на это радостное, он знал, сообщенье повелитель его и господин.
И князь отмолвил:
– Вот что, Андрей Иванович, я своею рукою сниму с тебя пайцзу, да и пропуск твой отыму и под замок велю замкнуть, дабы не мог ты по Орде более бегать! – так, хмурясь, хотя и не повышая голоса, отвечал князь.
Воевода оторопел.
Но тотчас же, привыкший с полуслова понимать недоговоренное владыкой своим, он схватился за щеку и, покачивая сокрушенно и виновато головою, начал просить у князя прощенья за свое «самочинство и самостремительность»:
– Княже мой, господине мой! Данило Романович, батюшко! Вот с места мне не сойти, коли еще что промолвил с нима! Токмо оббежал их, опередил, да и спрашиваю: чьи, мол, вы? Даже и за ручку меж собой не поздравствовались!
– Ну-ну, добре!.. – желая прервать его оправдания, ответил князь.
Однако воеводе еще хотелось изъяснить некоторые обстоятельства этой встречи.
– Данило Романович! – сказал он. – Я ведь их обоих еще ранее заприметил. Один-то боярин – именем Соногур. И якобы не из русских: жидкоусый! А на другого – на того ведь как обратил я внимание? Вижу, посреди пленных наших, обнищавших, между русского народа нашего, галицкого, ходит чей-то боярин, и расспрашивает, и нагинается к ним, и пособие подает… И до того мне больно стало сие и радостно!.. Ведь, Данило Романович!.. – воскликнул, прослезясь, дворский. – Ведь против наших-то, галицких, и рязанским людям, и суздальским…
– Перестань! – вдруг оборвал его князь окриком, каким еще ни разу не оскорблен был слух «великого дворского». – Хватит! Довольно молвил!
И, оборотившись к ножничному отроку, приказал:
– Кончай…
Федя ускорил бережное движение своих тонких пальцев, вооруженных маленькими ножницами с напильником…
Они думают, мыслил князь, что он тогда ничего не увидел, при въезде в Орду, потому что ехал потупя взор свой в гриву коня! Видел, все видел он и слышал, что творилось по обе стороны их дороги, переметанной гулкими, залубеневшими от мороза сугробами!
Полуголые, в отрепьях, босые, с ногами, обернутыми от стужи в мешковину, в дерюгу, галичане, волынцы его протягивали за подаяньем ко всем проезжавшим обмороженные, беспалые или же вздувшиеся гнойными пузырями руки.
А у иных и руки не было, тянули к стремени всадников трясущуюся, побагровевшую от стужи и от воспаленья, гноящуюся култыгу.
Но когда бы и очами не видел, то разве до гробовой доски забудет он песню той помешавшейся девушки-полонянки – там, на снегу, в толпе?!
Где бы ни услыхал он эти с детства знакомые и таким светом, такою полудетскою, полудевическою гордостью напоенные слова, – он тотчас признал бы, что поет их «девча» откуда-либо из-под Синеводска.
В таких же изветшавших, черствых от грязи и от мороза лохмотьях, как все прочие вкруг нее, изможденная голодом и стужей, юная, но уже с запавшими в костистые орбиты глазами, с космами седых волос, которые, однако, даже и в безумии своем не забыла она взамен былой и непременной для ее девического убора низанки лелиток повязать первой подвернувшейся грязной тряпицей, – стояла на сугробе потерявшая рассудок девушка-галичанка, с босыми ногами, завернутыми в ремки, и пела, пела, как будто желая, чтобы услышал ее там, у Карпат, «милейкий» ее:
Кобысь мя видев рано в неделю,
Як станет мати мене вберати:
Ой, на ноженьки жовти чоботки,
А на лядвоньки кованый пояс,
А на пальцы сребни перстенци,
На головоньку перлову тканку…[22]22
Когда б в воскресенье ты увидел меня рано,Как станет матерь меня убирати:Ой, на ноженьках желтые чеботки,На бедрах кованый пояс,На пальцах серебряны перстенечки,На головоньке жемчужная тканка…
[Закрыть]
И, откидывая голову, кривлялась, горделиво приподымала в грязных лохмотьях плечо, поправляла надо лбом узкую тряпицу, заменившую ей навеки венок и лелитки, и непристойно ругалась…
Поодаль же, также на снегу, на клочке почерневшей соломы, сидел слепоокий, с деревянною чашкою и, время от времени приоткрывая белесые незрячие бельма, ибо выколоты были зеницы очей его татарами за побег, тоже еле слышным голосом пел – заунывно, однообразно – одно и то же:
Не вижу неба, земли.
Не вижу хлеба, воды.









































