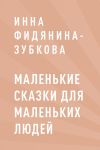Читать книгу "Страшненькие сказочки на ночь"

Автор книги: Алена Муравлянская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Страшненькие сказочки на ночь
Алена Муравлянская
Редактор Ольга Чеботарева
Иллюстратор Тинн Сулиен
© Алена Муравлянская, 2017
© Тинн Сулиен, иллюстрации, 2017
ISBN 978-5-4483-7854-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Один мой друг пишет книгу, ничего не придумывая: внимательно смотрит по сторонам и переносит на бумагу бесчисленные тонкости отношений, возникающих у людей друг с другом или с миром вокруг. С его точки зрения, моя книга может показаться сборником страшилок, придуманных историй, сказок – ведь именно так и называется, «Страшненькие сказочки на ночь». Легкое чтиво, одним словом.
…Но знаете, настоящего в этой книге куда больше, чем придуманного. Как отличить одно от другого? Легко.
Когда будете читать, то поймете, что внутри отзывается только оно, настоящее.
P.S. Читайте книгу на ночь, лучше вслух – это самый лучший способ получить от нее самое большое и страшное удовольствие;)
* * *
Говорят, если подойти к зеркалу в сумерках и глядеть в него, не отрываясь, изображение начнет искажаться и пугать вас. Если не останавливаться и продолжать смотреть, то в какой-то момент все успокоится. А потом в зеркале отразитесь такой вы, каким стали бы, если бы с вами случилась вещь, которую вы больше всего боитесь.
Говорят, страшнее всего увидеть в этот момент свое привычное лицо.
Кладбищенская сказочка
Мамочка, здесь, под землей, всегда тихо. В могиле даже уютнее, чем наверху – ничего не слышно, можно дремать, смотреть сны, такие яркие, что после них долго не можешь прийти в себя: ошарашенно смотришь на темноту вокруг и думаешь – как я здесь оказалась? А сон медленно-медленно, как леденец во рту, тает, оставляет привкус чувств, забытых, сочных, живых.
Большинство не любит подниматься наверх. Лично я считаю, что это нестрашно и даже волнительно. Можно целый день в году провести под небом, погулять по кладбищу, поговорить с такими же, как ты, высунувшими нос на поверхность. Даже на живых можно посмотреть! На переломе октября с ноябрем уже холодно, они редко бывают у нас подолгу, поэтому каждый живой – долгожданный гость: на него смотрят, перешептываются (будет что вспомнить!) а он не видит, но ежится, будто чувствует взгляды, уходит быстро, суетясь.
Вот бы однажды увидеть тебя, мамочка.
Для меня подниматься к серому тусклому небу – радость, но мало кто это делает, потому что приходится возвращаться. К закату солнца тебя начинает медленно и неотвратимо тащить назад, и ты беспомощно возвращаешься к своей могиле и погружаешься в плотную ледяную землю, по капельке, неторопливо. И такое ощущение, как будто снова умираешь – пронзительно одиноко, тоскливо и холодно. Мне кажется, что день наверху стоит того, чтобы снова умереть к закату, но большинство так не считает. Поэтому нас, гуляющих наверху, совсем немного. И мы, конечно, стараемся держаться вместе. В одиночестве гулять по кладбищу жутковато.
Некоторые могилы совсем пустые. Говорят, что те, кто в них лежат, как-то просто взяли и приняли свою смерть, смирились с ней и исчезли. Куда – непонятно. Я знаю точно, что их тела лежат в земле, а сами они где-то далеко-далеко. Такие, как я, им немного завидуют – мы-то как раз смириться со своей смертью не можем, поэтому и остались тут. Не знаю, как другие, но я изо всех сил стараюсь… и все не могу принять это как данность. Ну как, как могло получиться, что этот человек, который навел на меня оружие, взял и выстрелил? Мне очень грустно, мамочка, что тебе пришлось это увидеть. Может быть, если бы мы могли хотя бы раз встретиться и поговорить, если бы ты пришла и успокоила бы меня, сказала: «Оленька, хватит уже цепляться за старое, впереди столько нового», как ты всегда мне говорила, может, тогда я бы улетела отсюда облачком.
Но…
Но ничего, мамочка, мне еще повезло. В земле много таких, которые вообще не понимают, что умерли. Их слышно еще издалека – когда таких вносят на кладбище, никто из живых и не слышит, что покойник заходится криком от ужаса: «Почему вы положили меня в гроб, почему вы принесли сюда, почему опускаете в землю, не надо, родненькие, я же живой, пожалуйста!».
Но его слышим только мы, и мы ничего не можем сделать – таким даже не объяснишь, что с ними случилось. Это надо понять самому. Бывает, они годами кричат: подходишь к могиле и слышишь это надрывное, надсадное: «Помогите, я не хочу здесь быть!». Почти все новенькие через это проходят, но кто-то осознает быстро – как я, а кто-то – не понимает никогда.
Иногда мы, те, кто просыпается к последнему дню октября, не сговариваясь, подходим к оградке и смотрим наружу. Пейзаж меняется. Несколько лет назад здесь был лес, теперь – большая дорога с гудящими машинами, и с каждым годом она все шире и все больше, и все ближе к нам. Ходят шепотки, что однажды дорога займет и кладбище. Наверное, рано или поздно, так и будет. Но что случится с нами тогда, мамочка? Будем ли мы подниматься наверх из закатанных под асфальт могил? Будем ли дремать под шорох тяжелых шин самосвалов?
Наверное, это будет немного похоже на шелест дождя. Помнишь, мамочка, в детстве я всегда засыпала под звуки дождя, как… как убитая.
Я очень скучаю по тебе, мамочка. Если бы я могла с тобой поговорить! И каждый год, поднимаясь наверх, я отчаянно мечтаю, что меня будешь ждать ты. И ты сможешь утешить меня, убедить смириться и не цепляться за прошлое, поддержать. И я знаю, что тогда точно что-то переломится, пойдет иначе, и я, может быть, смогу уйти отсюда, но…
Но из твоей могилы по-прежнему не доносится ни звука.
И я обреченно возвращаюсь в соседнюю – свою.
Ты знаешь, у мертвых тяжелый взгляд…
Ты знаешь, у мертвых тяжелый взгляд.
Ты понимаешь это, когда парень напротив
утыкается в тебя своими мутными глазами, молчит,
и двери осторожно открываются и осторожно закрываются,
а он все смотрит. И ты перебираешь все варианты —
упрямо не отводить глаза – а вдруг он псих какой-то и кинется,
или смотреть в пол, пока он не уйдет, и пусть себе одерживает победу
в этом дурацком соревновании, и когда ты решаешь все-таки не смотреть,
то понимаешь, что место напротив тебя пустует, а поезд как раз остановился
в темном тоннеле – как будто остановка по требованию для тех, кто умеет сходить через закрытые двери.
Или когда ты пьешь чай у друга, вечером ли, готовясь спать на гостевом диванчике,
или днем, заскочив по делам и оставшись на бутерброды, и друг выходит на минутку,
а тебе кажется, что в этой комнате все равно есть кто-то второй, и этот второй тоже пьет
свой невидимый чай, жует бутерброд и рассматривает тебя – слишком внимательно, чтобы это было вежливым. Но в комнате пусто, и пока ты стараешься отделаться от этого странного чувства, оборачиваешься и видишь портрет, черно-белую фотографию, советскую такую, с которой на тебя смотрит незнакомец с прозрачными глазами. А, это дедушка, поясняет друг, мы даже немного похожи, и ты вежливо киваешь, и стараешься найти для себя угол, чтобы дедушкин взгляд не доходил до тебя, но не выходит: в конце концов, он здесь дома, а ты – в гостях, так что приходится считаться с его вниманием.
Или когда идешь по гулкому пустому коридору своей новостройки, и понимаешь, что кто-то идет за тобой – спускается по лестнице, заходит в лифт, шагает до квартиры, и даже если чужих шагов не слышно, ты точно это знаешь, и держишь в кулаке тяжелую связку ключей – на всякий случай. И вот ты закрываешь дверь дома изнутри, чуть быстрее, чем обычно, и знаешь, что этот кто-то сейчас стоит снаружи и смотрит на тебя сквозь дверь, и через час, и через два, и через три он не уйдет. И ладно бы ты жил в старинном доме, где эти мертвые такие же жильцы, но в новостройке-то откуда? Но ты не знаешь, что, по статистике, на стройках несчастных случаев как раз по человеку – на дом, на этот новый дом до неба, а в коридорах очень-очень скучно…
Или когда в своей прихожей ты смотришь в спальню, где внуки как раз готовятся ко сну – ну как готовятся, да не готовятся, а бесятся, кидаются подушками. Ты думаешь, что было бы так здорово сводить их в парк, в тот парк, где они гуляли еще маленькими, настолько, что не помнят, и найти тот тополь до небес, который был твоим в детстве, и торжественно сказать им: «Теперь он ваш, смотрите, какие широкие ветки, можно не бояться упасть». Надо пойти в выходные, решаешь ты, а внуки с воплями сцепились друг с другом за одеяло, немного похожие на тебя, особенно старший. И тут он как раз становится необычайно серьезным, ловит твой взгляд, подходит к двери и закрывает ее перед твоим носом.
И ты слышишь снаружи, как он говорит брату в комнате:
давай спать с закрытой,
а то мне кажется,
что ночью в прихожей
все время
кто-то стоит
и смотрит.

* * *
Говорят, между 3 и 4 часа утра наступает момент, когда стихают все звуки в доме. Если поймать такой момент, уйти на кухню и окликнуть умершего друга вслух, он отзовется из соседней комнаты. Оставайтесь на своем месте и разговаривайте о чем угодно, но не говорите двух вещей. Во-первых, не напоминайте ему, что он умер. А, во-вторых, никогда не предлагайте чая.
Потому что тогда он придет за ним на кухню.
Складбище
Все лето, пока родители были на работе, Игнат проводил на складе у бабушки. Летняя продлёнка отменилась из-за ремонта школы, маленький город он излазил за неделю, а сидеть один дома Игнат наотрез отказался. И, бабушка, повздыхав, согласилась брать его с собой на службу.
Склад стоял среди рабочих пристроек, старых заколоченных зданий и подсобных помещений. Позади него был пустырь. Склад возвышался над соседними зданиями – бетонная коробка с узкими окнами и одной-единственной дверью: металлической, крашеной багряной краской, с тяжелым навесным замком. На двери белой краской кто-то небрежными крупными буквами вывел «Склад».
В складе хранились вещи для железнодорожников – через город проходила магистраль, на которой трудились почти все. Бабушка работала кладовщиком. Каждое утро она зажигала свет над единственным столом, заваленным бумагами, бланками учета, приходными и расходными ордерами. Стол стоял особняком у самой двери в пятне желтого тусклого света. Во всем остальном складе царила темнота. Верхнее освещение почему-то всегда не работало, поэтому нужные ящики искали с большим тяжелым фонарем, обычно висящем на бабушкином поясе.
Игнат приходил на склад утром и радостно кидался в заманчивую темноту – словно в воду нырял.
Склад состоял из огромных стеллажей, на которых стояли, лежали, громоздились сокровища. Коробки с радиодеталями, микросхемами, диодными лампами. Ящики с запасным стеклом для семафоров – тяжелые прозрачные блины из стекла, красные, зеленые, синие… Металлическая посуда. В дальнем углу горой была навалена зимняя униформа, тяжелые тулупы – это гору Игнат покорял с разбегу и частенько засыпал на ее вершине. В одной из коробок Игнат нашел сотню длинных белых стеариновых свечей. С ними путешествия по складу становились еще интереснее. Провода, приборы, датчики – в мерцающем свете все выглядело настоящим кладом.
Игнат не уставал открывать каждый ящик и с тихим восторгом изучать очередную находку. Иногда он относил ее к бабушке – та коротко объясняла, зачем это нужно, не отрываясь от бумаг. Она все время что-то оформляла, пальцы у нее были синими от подтекающей ручки и фиолетовой бумаги-копирки… Иногда бабушка отрывалась, чтобы погладить очередного кота. На складе всегда жил какой-то усатый-полосатый, которого бабушка приносила для борьбы с крысами. Коты иногда менялись, и Игнат даже не знал, почему: то ли не справлялись с противником и были изгнаны, то ли погибали смертью храбрых в войне с каким-нибудь крысиным королем. Иногда Игнату казалось, что все бабушкины коты до сих пор живут на складе. Он замечал то рыжий хвост, то белый бок – коты проскальзывали мимо в темноту, выныривая из нее и погружаясь обратно, словно возникали на секунду из другого мира.
Некоторые верхние стеллажи были пустыми. В них Игнат забирался, словно юнга на мачту, по соседним шкафам, устраивался в пыли, разворачивал выданную бабушкой шоколадку и начинал наблюдать.
Он быстро понял, что на складе, кроме него, бабушки и невидимых, но всегда слышных крыс, есть и другая жизнь.
В углу за полками, на которых стояли самые скучные сокровища – смотанные в катушки телефонные провода – было место тени. Дважды в день, ровно в двенадцать и в половине четвертого, из угла выходила тень. Полупрозрачный серый человек в пальто, с зонтом, с портфелем под мышкой, с длинным лицом в очках с толстой роговой оправой. На несколько секунд он замирал, озирался, потом досадливо морщился, словно зашел не в ту дверь, и уходил обратно в угол, в стену. Это повторялось без изменений, и сначала Игнат хотел помочь заблудившемуся человеку, но тот его не замечал. Поэтому Игнат пожал плечами и раз в неделю на всякий случай заглядывал в угол, чтобы проверить, не пропал ли теневой человек. Но тот был точен, как часы.
За наваленными в кучу тулупами была особая стена. Если к ней прислониться, то было слышно радио. Оно негромко играло какие-то марши и старые романсы, а еще там передавали сообщения про войну. С обратной стороны стены был пустырь – Игнат излазил его в поисках источника звука. Но понял, что радио играет где-то внутри стены, а не за ней. Слушать радио было интересно, но иногда трансляции о победах под какими-то городами прерывались шипением, словно кто-то резко выкручивал ручку настройки.
Бабушка припасала для Игната шоколадки, печенье, чипсы: все, на что ворчали родители. Выдавала экономно, понемногу, так, что Игнат растягивал угощение надолго. В середине дня бабушка разворачивала обед, грела его на старенькой плитке, на которой сверху всегда громоздилась куча бумаг. Раскладывала по тарелкам – красивым, белым, расписанным цветами, легоньким, почти невесомым. Игнат знал, что они старинные, поэтому держал их бережно, боясь разбить.
На обед всегда были разные блюда: котлетки, запеканки, пироги. Бабушка, как и Игнат, не любила гарниры, поэтому разрешала оставлять на тарелках недоеденную картошку или вареные овощи. Игнат иногда тайком стряхивал их в свернутую кульком бумагу и относил к дальней стене склада: в ней было отверстие-нора, которое выглядело бесконечным туннелем в темноту. Игнат специально светил туда бабушкиным фонарем, но конца так и не увидел, а с обратной стороны стены дыры, конечно, не было. Игнат оставлял остатки обеда у норы и отворачивался ровно на пять секунд. А когда поворачивался обратно, еды уже не было, а вместо бумажного кулька лежало цветное стеклышко. Если повернуться раньше или позже, то ничего не происходило. А стеклышки Игнат собирал и рассматривал сквозь них людей: их лица забавно искажались, у кого-то появлялись две головы, у кого-то отрастали лишние глаза или рты. Игнат не знал, что это значит, но наблюдать за людьми сквозь стеклышки любил. Правда, большую часть времени он проводил с бабушкой, а она сквозь стеклышки выглядела как обычно, никаких странностей.
А под нижним стеллажом, рядом с алюминиевыми баками, жила масса. Игнат хотел придумать ей имя, но не смог. Масса состояла из складок кожи, вполне человеческой на вид, у нее была одна короткая деформированная ручка с тремя пальцами. Масса всегда боязливо колыхалась, когда Игнат заглядывал к ней в гости, поэтому он старался делать это пореже.
* * *
В конце лета Игнат заболел. Неделю он лежал дома с больным горлом и не мог говорить – сипел, как старый кран. Потом собрался с силами и выдал матери:
– Ма-ам.
– Да, Игнат?
– Мам, мне уже получше. Можно, когда поправлюсь…
– Поедешь с нами на дачу. Там накупаешься, ягод поешь.
– Ну да. А можно я потом к бабушке пойду?
– Куда?
– Ну, на склад. К бабушке.
– К какой бабушке, Игнат?
Мама нахмурилась. Ее родители жили в Мурманске, муж был детдомовским и своих родителей никогда не знал. Но сын спрашивал с абсолютно честными глазами… Выслушав Игната, она побледнела и бросилась к супругу.
* * *
Когда Игнат выздоровел, родители привели его к складу. За время болезни тропинка к нему заросла травой, словно по ней никто не ходил. Склад был закрыт, навесной замок покрылся толстым слоем пыли. К белой надписи на двери кто-то мелом сделал кривую приписку. Теперь она гласила – «Складбище».
Родители почти не сердились на него, только с облегчением отчитали за фантазерство. Лета оставалось всего ничего, на следующей неделе уже сентябрь, начинаются занятия в третьем классе, и Игнат больше не будет шариться по пустырям и выдумывать сказки.
* * *
В последний день лета Игната отправили за хлебом. Задумчиво грызя свежую буханку, он прошел мимо пустыря, на котором стоял склад. Постоял минутку. И свернул на знакомую тропинку.
В окнах склада не горел свет, замок по-прежнему висел на двери. Игнат тоскливо вздохнул. Посидел на пороге, обхватив колени руками. Положил пакет с хлебом на землю, поднял руку и постучал в дверь.
Секунду ничего не происходило.
Потом дужка замка медленно и со скрипом стала выворачиваться наружу. Замок с лязгом упал вниз. Дверь тихонько отворилась. Из темноты навстречу Игнату вышла бабушка, улыбнулась ему и отступила в сторону.
– Пришел наконец-то? Соскучился?
– Привет, ба. Ага.
– Ну проходи…
И Игнат со счастливой улыбкой шагнул внутрь.
Не забывай меня
– Так вот, Петька, я впервые в детстве их увидал. Совсем малой был, к бабке родители на лето сдали, в колхоз. Ну, ты-то их, колхозов, считай, не застал, да оно и к лучшему.
– Да не, Евгений Васильевич, какие там колхозы. Да и городской я, деды в соседнем подъезде всегда жили.
– Ну, в городе тоже этих хватает… Но слушай сначала. Сдали меня в колхоз, а дед с бабкой работают с утра до вечера, спины гнут на поле. Ну а я малой, что мне, дома сидеть? А в паре километров от колхоза – деревня заброшенная. Ну, когда народ в колхоз съехался, видать, тогда ее и оставили. Детям-то самое оно, по старым домам полазить. Сокровища искали, с революции закопанные, как сейчас помню. Вы, Петька, сокровища в детстве искали?
– Искали. Только не с революции, а такие, из книжек, клады. Или тарелки инопланетные зарытые.
– Не-е, у нас-то такие истории были! Мол, помещик такой-то, перед тем как его расстреляли, в барский дом запрятал золотишко. Или поп крест золотой под церковью зарыл. А деревня старая была, лет сто ей было, не меньше.
Так вот, полезли мы с мальчишками туда. Больше, конечно, по домам побродить, чтобы было потом что у костра пересказывать. Рассыпались по деревне, перекрикиваемся, ходим по развалинам. Половицы скрипучие, жуть! Идешь, и будто кто-то в спину шепчет, ух. А если лаз в подвал открыт – так вообще история! Ползешь там в грязи, дово-ольный! А если найдешь осколок какой от тарелки, так и все, героем ходишь – отрыл старинную крынку!
Иду я по деревне и смотрю – поодаль, в кустах, домишко старый стоит. Большой такой, с флигелем, наличники резные… А вокруг – сад яблоневый, висят яблочки, наливные, боками светят. Я зырк по сторонам – мои друзья разбежались кто куда, а в дом этот никто не пошел. Ну я и ломанулся. Иду – холодает. Ну, думаю, в тень сада зашел. Руками по плечам потер, попрыгал на месте, согрелся и внутрь. Захожу – дом красивый такой! Окна огромные, краска даже на месте, зеленая… Дверь забита крест-накрест. Я и так в нее, и так – не, не открывается. Обошел вокруг дома, вернулся ко входу, пнул со злости ногой в дверь, вдруг откроется. Куда там!
Только слышу голос: «Молодой человек, вы ножки-то поберегите!». Оборачиваюсь – а там бабка на скамейке у дома сидит!
– Местная?
– Да куда там… Деревню давно забросили… Никаких бабок быть не должно. А сидит. В черном платочке такая, с клюкой, смотрит на меня. Сама в чем-то темном, балахонистом, строгая.
Я струхнул, признать. Говорю: «Бабушка, а вы кто?».
А она отвечает: «Агафия Павловна я, звать меня так…». И смотрит. Глаза молодые, черные. У стариков-то они выцветают, как вода, а эта смотрит пристально прямо в лицо мне и будто ждет чего-то.
Потом спрашивает: «А вас как звать?». «Женька», – отвечаю. «А что же вы тут шалите, по домам чужим лазаете, Евгений?», – и строго так, как учителка в школе. Тут я совсем испугался, говорю: «Так, Агафья Павловна, это ж не чужой дом. Ничейный он, заброшенный… Не живет там никто».
А она мне: «Как же не живет, Евгений? Я тут живу…».
Ох, думаю, во дела. Заброшенная деревня, а в ней старушка жива-здорова. А ребята даже не предупредили. Понятно, почему они в этот дом не полезли. Ну, я решил неловкость сгладить и говорю: «А не скучно вам тут? Нет же никого? Вы бы в колхоз. Там люди, я вас с бабушкой познакомлю, она хорошая».
А она смотрит на меня, глаз не отводя, улыбается грустно так и говорит: «Хороший вы мальчик. Не могу я в колхоз, Евгений. Забыли меня здесь».
– Забыли? Прямо так и сказала?
– Прямо так и сказала. Я сначала не понял, говорю: «Агафья Павловна, как так… забыли? Когда же…» Ну, подумал, мало ли, приезжали сюда туристы, бабушку оставили случайно. А она мне отвечает: «В тридцать втором году, Евгений. Когда уезжали, оставили меня здесь…. С собой не позвали».
– А дело когда было?
– А дело, Петька, было в 71-м.
– Э-э-э. Так она 40 лет там прожила?
– Вот и я так сначала подумал. Говорю: «Бабушка… Вы тут что, сорок лет живете?». А она мне: «Я, Евгений, тут дольше живу. Сколько себя помню. Помню, как внуки мои сюда переехали, в году 1914-м, да и я с ними…».
Да ты лицо-то такое не строй! Я тоже быстро прикинул, сколько ей лет должно быть, и думаю – старушка-то совсем путается. Мне мать рассказывала, что у стариков расстройство памяти случается, вот и Агафья Павловна, наверное, тоже… Расстроилась. К врачам бы ее надо. Я делаю шаг к ней и говорю: «Может быть, вы со мной пойдете?». Ну я же пионер был, сам понимаешь, старшим надо помогать.
А она мне говорит грустно так: «Как же я пойду, Евгений. Медальон-то мой меж половиц упал, прямиком в погреб, да там в землю и врос. Забыли его. Забыли меня».
– А вы что?
– А я стою, молчу, руками себя растираю – похолодало, как будто осень наступила, меня аж в дрожь бросило.
А она и продолжает: «Вы, Евгений, не бойтесь. Случается такое. Вы, когда уходить будете, ветку с креста уберите, буду вам крайне признательна». С какого-такого креста, спрашиваю. А на кладбище – отвечает.
Тут нервы мои и не выдержали. Бросился прочь, а она вслед мне что-то говорит, да только я не слышу. Прибежал к ребятам, рассказал им, все рванули к дому и не нашли там никого. А на обратной дороге смотрю – и правда, кладбище старое-деревенское. Зашли туда, все могилы обошли. И нашли ее: «Агафья Павловна Меренская, 1918 года смерти». Крест старый, во мхе весь. И ветка на него упала дубовая, тяжелая…. Молча убрали, да как дали деру до колхоза. Взрослым ничего не рассказали…
– А потом?
– А потом на войне был. Дело было близ Кабула. Я тогда уже не первый год служил, думал, ко всему привык.
Зашли мы в городок разрушенный. Маленький совсем, после обстрела камня на камне не осталось, дома хлипенькие были. Идем, смотрим, вдруг остался кто живой из местных. Пошел я школу осмотреть – здание большое. Разделились, я давай на школьный двор и вижу – девчушка ко мне бежит. Смуглая, в платочке ярком, в обносках каких-то.
Я тогда не сразу осознал, что понимаю-то ее, словно она на русском тараторит, хотя говорила она на этом… пушту или как там его. «Дяденька, говорит, дяденька!», – и прижимается ко мне.
«Зовут тебя как», – спрашиваю. «Ацак, – говорит. – Ацак меня звать», – и за руку хватает. «Ты одна здесь, Ацак?», – говорю. «Мама с папой мои тут!», – отвечает. Обрадовался, думаю, есть кто-то живой: «Покажешь?» Она кивает и тянет меня с собой. Ну пошли. Доходим до дома – смотрю, тихо. Окна все выбиты, крыша провалилась, нежилой дом. Смотрю на Ацак, а она говорит: «Там, в подвале укрылись!» и в дом убегает. Ну я ребятам в рацию доложил, дождался подкрепления и пошли – мало ли, кто там, в подвале…
Спускаемся – вонь жуткая. И тела лежат. Мужчины, женщины… и Ацак. Рана на голове, словно в упор стреляли. И лежат здесь неделю, не меньше. Раздулись уже… Ну я нос зажал, бойцам отбой даю, вышел выдохнуть. Сижу на камне, и вижу – она рядом стоит. «Возьмите меня с собой, дяденька», – говорит. – «Не хочу здесь оставаться. Возьмите…» – «Да как же я возьму тебя?» – «А вы платок мне с головы снимите и заберите. Необязательно тело целиком перевозить, можно хотя бы одну вещь взять. А я уже в ней с вами поеду! Не забывайте меня тут!». «А их», – спрашиваю? Потому что за ней люди стоят поодаль – и те, из подвала, и другие… «Они сказали, что хотя бы меня…». И смотрят все они на меня – и Ацак смотрит, и прочие. И холодно, словно не солнце сверху шпарит, а снег идет…
– Взяли ее?
– Куда там… Думал взять, к дому пришел, а он горит. Один из наших не выдержал, запалил, мол, как погребальный костер. Он потом совсем крышей поехал, в госпиталь его отправили…
– А еще… еще вы их видели?
– Забытых? Видел… пару раз. В квартирах старых видел, когда после армии жилье снимал. Умрет хозяин, родственники его там… забудут, он и мается. Вроде как надо мертвых с собой забирать, как мне один из них сказал. Умный был, профессор какой-то. Только толку с этого профессорства – умер один, семья квартиру по комнатам попилила и в ход пустила. Я как раз одну комнатушку у них снимал, разговаривали с ним по вечерам. Говорил, мол, надо с собой своих мертвых позвать, взять какую-то вещь их – чтобы они, так сказать, переехали вместе с ней. Раньше кладбища переносили, если уж приходилось деревню оставлять, бросить мертвого никак нельзя было, а сейчас – нет. Да им и вещи хватит, хотя бы одной… Петька?
– Да, Евгений Васильевич?
– Ты это… когда нас спасатели найдут. Ты не перебивай меня, знаю, что найдут. Похоронить меня, конечно, похоронят. Только я боюсь, что если вещи тут, в пещере останутся, то и я… останусь. Не забывай меня тут, Петька. Ты… книжку записную мою возьми. С собой. Прям щас вот в кармашек положи, на.
– Хорошо, Евгений Васильевич. Я вас тут ни за что не забуду! И дневник ваш у меня, никуда не денется… Только вы нос тоже не вешайте. Похоронят – не похоронят, это еще бабка надвое сказала.
– Ну, добро, добро… Петька?
– Что, Евгений Васильевич?
– Ты сходи ко входу, проверь? А то мне чудится, звуки, словно люди какие-то там. А вдруг нашли нас?
– Ой, Евгений Васильевич… Холодно так, я только пригрелся. Ладно. Схожу сейчас. Вы это… Вы только меня дождитесь, ладно?
– Дождусь. Дождусь… Иди… Ты, Петька, не переживай. Я теперь всегда с тобой буду. Главное, не забывай меня тут.
Не забывай меня.