Текст книги "Нума Руместан"
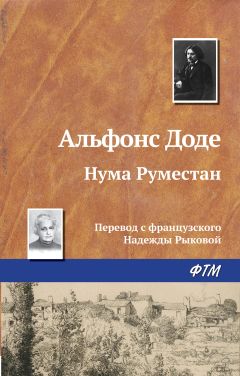
Автор книги: Альфонс Додэ
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
V. Вальмажур
Весь путь от Апса до горы Корду занимает не более двух часов, особенно когда ветер дует в спину. Карета катилась легко: в нее впряжены были две старые камаргские лошадки, а сзади подгонял мистраль – он встряхивал ее, подталкивал, то делал глубокие вмятины в ее кожаном верхе, то раздувал его, словно парус. Здесь он не рычал, как вокруг городского вала и под сводами амфитеатра. Здесь он свободно, без всяких преград мчался по необъятной, бугристой равнине, где отдельные хуторки, уединенные фермы, серые среди пышного букета зелени, казались случайно занесенными сюда домами из какой-то развеянной бурей деревни. Он клубами дыма поднимался к нему, темными, быстро тающими полосами проносился по волнующимся высоким хлебам, овевал масличные рощи, где от его дуновенья отливала серебром листва, внезапными резкими порывами поднимал светлые облака пыли, хрустевшей под колесами, клонил к земле тесные ряды кипарисов и испанского камыша с длинными шелестящими листьями, которые создают иллюзию, будто у обочины дороги журчит ручей. Когда же он, словно запыхавшись, на минуту стихал, тотчас же вступал в свои права тяжкий летний зной, африканский зной, поднимавшийся с раскаленной земли, но его очень скоро рассеивал тот же здоровый, бодрящий вихрь, несущий свою блаженную свежесть до самого горизонта, до невысоких сероватых, тусклых холмов, окаймляющих провансальские дали и сверкающих волшебными переливами красок в часы заката.
Навстречу им попадалось не очень много народу. Иногда проезжали тяжелые дроги с каменоломен, тащившие глыбы тесаного камня, ослепительно белого в солнечном свете, проходила старая крестьянка из Виль де Бо, согнувшаяся под тяжестью объемистого тюка с ароматическими травами, появлялся нищенствующий монах в капюшоне, с сумой на спине, длинными четками на поясе, свисавшими вдоль бедер, с лоснившейся, словно камешек в русле Дурансы, потной крепкой головой. А то встречалась таратайка, до отказа набитая женщинами и девушками, возвращавшимися из паломничества в Сент-Бом или Нотр-Дам-де-Люмьер, нарядные платья, черные очи, взбитые прически, развевающиеся по ветру яркие банты. И вокруг всего этого, вокруг тяжкого труда, вокруг нищеты, вокруг суеверий мистраль создавал некий ореол здоровья и благодушия! Он подхватывал и уносил вдаль все эти «Но! Тпру!», громкие крики возчиков, звон бубенцов, звон синих стеклянных колец, которыми украшались лошади, тягучее, монотонное подвывание нищего монаха, звонкие псалмы паломников и, наконец, народную песенку, которую Руместан, развеселившийся на вольном воздухе родины, принялся распевать во весь голос, сопровождая свое исполнение широкими плавными жестами, и при этом так работал руками, что они высовывались наружу из дверец кареты:
Солнце яркое Прованса!
Твой дружек, шалун…
Вдруг он резко оборвал пение.
– Э, Меникль, Меникль!
– Что прикажете?
– Что это там за хибарка, на том берегу Роны?
– Это, господин Нума, башенка королевы Жанны.
– Ах, да, правда!.. Припоминаю… Бедная башенка! Она до того развалилась, что ее уже больше не называют башней!
И он стал рассказывать Ортанс историю королевской башни – эту провансальскую легенду он знал досконально… Развалившаяся, побуревшая башня на высоком холме относилась еще к эпохе сарацинского вторжения, но все же она была моложе аббатства, чьи развалины виднелись неподалеку от нее: это был кусок наполовину обвалившейся стены с длинным рядом узких оконниц, за которыми синело небо, и широким, суживающимся кверху порталом. Нума показывал своей спутнице тропинку на каменистом спуске, по которой в дни былые монахи спускались к пруду, сверкавшему, как серебряная чаша, ловить карпов и угрей к столу настоятеля. Мимоходом он заметил, что монахи, чревоугодливые отшельники, любили селиться в местах, где природа пощедрее: помыслами они «возносились горе», но это не мешало им спускаться на землю, чтобы взимать десятину с природы и с населения окружающих деревень… Ах, провансальское средневековье, блаженное время труверов и Судов любви!.. Теперь терновник прорастал между плитами, по которым некогда влачили шлейфы всевозможные Стефаньеты и Азалансы, а по ночам белохвостые орланы и совы ухали там, где пели трубадуры. Но разве не витал надо всем этим светлым ландшафтом альпийских предгорий легкий аромат игривого изящества, итальянского жеманства, напоминавший легкое дрожание струн лютни или виолы, тающее в прозрачном воздухе?
Нума загорался вдохновением, забывая, что его слушает только свояченица да синяя кучерская ливрея Меникля. После шаблонных речей на банкетах и на заседаниях научных обществ ему так приятно было отдаться одной из тех искусных блестящих импровизаций, которые делали его достойным потомком веселых трубадуров Прованса!
– А вот и Вальмажур! – объявил кучер и, нагнувшись, показал кончиком кнута куда-то наверх.
Они съехали с большой дороги и петляли теперь по склонам горы Корду, по узкой дороге, скользкой из-за росших на ней кустиков лаванды; они ехали прямо по ним, и из-под колес струился приторный запах. На полпути до вершины горы, на небольшом плато у подножия черной, выщербленной башни ярусами лепились крыши фермы. Тут жили Вальмажуры на протяжении многих лет в том месте, где когда-то высился замок, название которого стало их фамилией. Кто знает? Быть может, эти крестьяне происходили от властителей Вальмажура, состоявших в родстве с графами Прованскими и с домом Бо[14]14
Графы Прованские (род каталонского происхождения) некоторое время владели Провансом. Они долго боролись за власть (1142–1162) с домом Бо – феодальными властителями города Оранжа, род которых возник в IX веке и угас в 1530 году.
[Закрыть]. Это предположение, довольно легкомысленно высказанное Руместаном, пришлось как нельзя более по вкусу Ортанс: таким образом легко объяснялась благородная осанка тамбуринщика.
Они обменивались этими соображениями, сидя в коляске, а Меникль у себя на козлах слушал и недоумевал. Фамилия Вальмажур была здесь очень распространена: были Вальмажуры верхние и Вальмажуры нижние, смотря по тому, обитали они в долине или на горе. «Выходит, они все из знатных господ!..» Лукавый провансалец не стал, однако, высказывать своих сомнений. Пока их карета медленно поднималась среди оголенного, но величественного ландшафта, вдохновенные речи Руместана перенесли девушку в самый настоящий исторический роман, в красочное сновидение о минувших веках. И когда Ортанс заметила наверху крестьянку, сидевшую вполоборота к ним на контрфорсе у подножия руин и разглядывавшую подъезжающих из-под приставленной к главам ладони, она представила себе, что это принцесса в остроконечном головном уборе, сидящая на своей башне в такой именно позе, в какой принцесс изображали на картинках.
Впечатление это не сразу рассеялось даже после того, как прибывшие, выйдя из кареты, очутились лицом к лицу с сестрой тамбуринщика, занятой плетением ивовых корзинок для шелковичных червей. Она не встала, хотя Меникль еще издали крикнул ей: «Эй, Одиберта! Тут гости к твоему брату». На ее тонком, правильном лице, удлиненном и зеленовато-смуглом, как маслина на ветке, не изобразилось ни радости, ни удивления; оно сохраняло сосредоточенность, сдвинувшую ее густые черные брови, как-то очень прочно соединившую их в одну прямую линию под упрямым лбом. Руместан, слегка смущенный этой сдержанностью, представился:
– Нума Руместан… Депутат…
– Я вас хорошо знаю, – серьезно сказала она и, положив работу рядом с собой, добавила – Заходите… Брат сейчас придет.
Теперь, когда хозяйка замка стояла перед ними, она выглядела уже менее внушительно. Она была очень мала ростом, коротконога. Да и ходила она неуклюже, вразвалку, а между тем головка у нее была изящная, ей очень шли арльский чепчик и широкая кисейная косынка с голубоватыми складками. Гости вошли в дом. Внутри это крестьянское жилье имело величественный вид: оно прислонилось к развалинам древней башни; над входной дверью, защищенной от москитов навесом из тростника, потрескивавшего на солнце, и широкой полотняной сеткой, был высечен на камне рыцарский герб. В бывшее караульное помещение замка с белыми стенами, сводчатым потолком и высоким старинным камином свет проникал только сквозь позеленевшие стекла да сквозь прозрачную занавеску, висевшую в дверном проеме.
В полумраке можно было разглядеть похожее на саркофаг корыто для теста, на котором были вырезаны цветы и колосья, а над ним большую, редкого плетенья корзину с мавританскими бубенчиками – в таких корзинах на всех провансальских фермах сохраняется, не черствея, хлеб. Убранство просторной комнаты довершали картинки духовно-нравственного содержания, изображавшие святых Марфу, Марию и Тараска, старинная лампа красной меди, висевшая на белом деревянном блоке, который покрыл красивой резьбой какой-нибудь пастух, сосуды для соля и для муки по обе стороны камина да морская раковина, в которую трубят, сзывая скот, – ее перламутр мягко поблескивал на вышитой дорожке, покрывавшей каминную доску. Середину комнаты занимали длинный стол, скамьи и табуреты. С потолка свисали гирлянды луковиц, черные от мух, которые начинали жужжать всякий раз, как приподнималась занавеска у двери.
– Отдыхайте, сударь… и вы, барышня. Вы с нами разделите «большую закуску».
«Большая закуска» – это послеполуденная трапеза провансальских крестьян. Ее подают прямо на поле, на месте работы, под деревом, под стогом сена, в канаве. Но Вальмажур с отцом работали совсем близко, на своем участке, и потому возвращались закусывать домой. Стол был уже накрыт; на нем стояли глиняные глубокие тарелки с маринованными маслинами и салатом-латуком, щедро политым оливковым маслом. Руместану показалось, что в плетеном кузовке, куда ставятся бутылки и стаканы, стоят сосуды с вином.
– Значит, у вас тут есть виноградник? – любезно спросил он, желая приручить маленькую дикарку.
При слове виноградник она подпрыгнула, словно козочка, ужаленная гадюкой, и в голосе ее зазвенела ярость. Виноградник! Да, как раз! Много у них осталось от виноградника!.. Из пяти полос им удалось сохранить только одну, самую маленькую, и к тому же ее надо поливать шесть месяцев в году. Да еще водой из крана, за которую приходится невесть сколько платить. А кто виноват? Красные свиньи, красные злодеи и их безбожная республика, обрушившая на страну все муки ада.
Она все больше и больше распалялась, глаза ее становились черней от ненависти, готовой хотя бы и на убийство, хорошенькое личико искажала судорога, рот кривился, сдвинутые брови сошлись на лбу. Забавнее всего было то, что приступ ярости совсем не мешал ей заниматься делом: она зажигала огонь, варила отцу и брату кофе, вставала, нагибалась, брала в руки то мехи для раздуванья огня, то кофейник, то зажженные сухие побеги виноградной лозы на растопку, которыми она потрясала как факелом фурий. И вдруг успокоилась:
– А вот и брат…
Холщовая занавеска отодвинулась, и на пороге в полосе яркого света возникла статная фигура Вальмажура, а за ним шел старичок с бритым лицом, высушенным, морщинистым и черным, словно подгнившая виноградная лоза. Появление важных гостей смутило отца и сына не больше, чем Одиберту, и после первых же приветствий они уселись за стол, на котором, кроме угощения, выставленного их хозяйкой, была расставлена снедь, принесенная из кареты и вызвавшая радостный огонек в глазах Вальмажура-старшего. Руместан, донельзя пораженный тем, что не произвел никакого впечатления на простых крестьян, заговорил об успехе молодого тамбуринщика на воскресном празднестве в античном амфитеатре. Это-то уж доставит удовольствие старику отцу.
– Конечно, конечно… – проворчал старик, поддевая острием ножа маслины. – Но я в свое время тоже получал призы за игру. – Рот его кривился в ехидной улыбочке совсем так же, как только что в приступе ярости губы его дочери. Крестьянка, впрочем, совсем успокоилась и сидела теперь почти на полу – на камне очага – с тарелкой на коленях: будучи хозяйкой и притом полновластной, она все же следовала провансальскому обычаю, не разрешающему женщинам садиться за стол вместе с мужчинами. Но, сидя в этой униженной позе, она внимательно прислушивалась к разговору за столом и качала головой при упоминании о празднестве в амфитеатре. Она не была поклонницей тамбурина, ни-ни!.. Мать ее померла от этого – так ей папашина музыка кровь портила… Это ремесло для бражников, от работы настоящей оно отрывает, и в конце-то концов овчинка не стоит выделки.
– Ну, так вот, пусть он приедет в Париж… – сказал Руместан. – Ручаюсь, что там он своим тамбурином заработает кучу денег.
Наивная крестьянка не поверила, тогда он попытался растолковать ей, что такое прихоти парижской моды и как дорого оплачивает их столица. Он рассказал ей об успехе, который в свое время выпал на долю дядюшки Матюрена[15]15
Дядюшка Матюрен (умер в 1859 г.) – пользовавшийся широкой известностью во всей Бретани слепой вольщик; в 1847 году был приглашен в Париж и с успехом выступал в театре Амбипо-Комии в спектакле «Хутор среди дрока» (пьеса драматурга Фредерика Сулье).
[Закрыть], бретонского волынщика, выступавшего в комедии «Хутор среди дрока». А ведь какая разница между бретонской волынкой, этим резким, грубым инструментом, только к тому и приспособленным, чтобы под него плясали эскимосы на берегу Ледовитого океана, и провансальским тамбурином с его легкостью и изяществом! Парижанки голову потеряют, все захотят танцевать фарандолу… Тут вмешалась Ортанс, а тамбуринщик, слушая их, рассеянно улыбался и с победоносным видом деревенского льва поглаживал темные усы.
– Ну, а все-таки, как вы полагаете, сколько он сможет заработать своей музыкой?
Руместан подумал. Трудно сказать… Сто пятьдесят – двести франков…
– В месяц? – просияв от восторга, спросил отец.
– Да нет же, в день!..
Крестьяне вздрогнули и переглянулись. Если бы с ними говорил не «муссю Нума», депутат, член генерального совета, они решили бы, что это шутка, галежада[16]16
Шутка, насмешка (провансальск.).
[Закрыть]. Но говорил Нума, а его слова можно принимать всерьез. Двести франков в день!.. Черт побери!.. Сам музыкант готов был ехать куда угодно. Но сестра, более осторожная, хотела, чтобы Нума подписал им бумагу. Опустив глаза, чтобы ее не выдал их жадный блеск, она с лицемерной степенностью обсуждала вопрос. Беда в том, что Вальмажур – чтоб его! – очень уж необходим в доме! На нем лежит все хозяйство: он и пашет и ухаживает за лозами, – у отца-то сил нет. Как они без него обойдутся? Да и он без них наверняка затоскует в Париже. А деньги, двести франков в день, – что он с ними станет делать в таком большом городе?.. И когда она заговаривала о деньгах, которые не она будет хранить, которые ей не удастся спрятать на самое дно комода, голос ее приобретал какую-то особую жесткость.
– Ну что ж, – сказал Руместан, – поезжайте вместе с ним в Париж.
– А как же дом?
– Сдайте его внаем, продайте… Когда вернетесь, купите другой, еще лучше…
Тут он осекся, так как Ортанс бросила на него тревожный взгляд. Словно раскаиваясь в том, что смутил покой этих добрых людей, он добавил:
– В конце-то концов деньги в жизни еще не все… Здесь вы счастливы…
– Ну да, счастливы!.. – живо перебила Одиберта. – Живется-то нам нелегко. Не то, что в былые времена.
Тут она опять начала ныть: обнищание страны, исчезновение виноградников, плантаций марены, уменьшение добычи киновари… В самую жару выбивайся из сил, работай не покладая рук… Правда, в будущем можно рассчитывать на наследство от кузена Пюифурка, который уже лет тридцать как перебрался в Алжир и ведет там хозяйство, но этот Алжир в Африке, уж больно далеко… И вдруг, боясь, что она охладила «муссю Нуму», и считая, что его полезно подхлестнуть, ловкая молодая особа сказала брату певучим, по-кошачьи ласковым голосом:
– Чтэ, Вальмажур, ты нам не сыграешь какой-нибудь мотивчик? Доставь удовольствие милой барышне!
Хитрая лисичка не ошиблась. Один удар палочки, одна жемчужная трель, и Руместан снова был заворожен. Парень играл перед домом, опершись о каменную кладку старого колодца, над которым поднималась железная дуга для блока, увитая зеленью дикого инжира, которая живописно обрамляла его стройную фигуру и темное от загара лицо. Голые до локтя руки, расстегнутый ворот, запыленная рабочая одежда – таким он казался еще горделивее и благороднее, чем в амфитеатре, где праздничное платье придавало его изяществу нарочитую тщательность. Старинные мотивы, исполняемые на народном инструменте, звучали особенно поэтично среди природы, в ее безмолвии и безлюдии пробуждали позлащенные солнцем камни развалин от их векового сна, взмывали, как жаворонки, над величавыми холмами, сероватыми от лаванды или пятнистыми от колосящихся хлебов, от иссушенных виноградников, от широколистных шелковичных рощ, отбрасывавших уже не такую густую и более длинную тень.
Ветер стих. Солнце, склонявшееся к западу, пламенело теперь над лиловой цепью Альпин, наполняло ущелье между скалами призрачными озерами расплавленного порфира и золота, омывало горизонт переливчатым сиянием, похожим на струны огромной огненной лиры, и струны эти звучали, звучали неумолчным пеньем цикад и певучей дробью тамбурина.
Сидя на парапете старой башни, прислонясь к стволу небольшой колонны, за которой пряталось скрюченное, узловатое гранатовое деревце, Ортанс слушала в полном упоении, и романтические грезы кружили ее головку, полную услышанных в дороге преданий. Она видела, как старый замок встает из развалин, как снова гордо поднимаются его башни, округляются арки переходов, как под сводами галерей прохаживаются красавицы в длинных корсажах, видела, что цвет лица у них матовый и что его не портит загар. И уже она сама становится принцессой де Бо, с красивым именем, словно из требника, а музыкант, играющий ей, тоже принц, последний в роде Вальмажуров, переодетый в крестьянское платье. «Вот и песне конец», – как говорится в хрониках Судов любви, и, сломав над головой веточку гранатового дерева, с которой свисает тяжелый ярко-красный цветок, она протягивает его музыканту в награду за исполнение, а тот галантно подвешивает его к ремешку тамбурина.
VI. Министр!
После поездки на гору Корду прошло три месяца.
В Версале только что открылась сессия парламента под беспрерывным ноябрьским дождем, который словно соединяет бассейны Версальского парка с низким, обложенным тучами небом, погружает обе палаты в унылую сырость и мрак, но отнюдь не охлаждает политических страстей. Сессия будет носить бурный характер. Поезда с депутатами и сенаторами следуют один за другим, встречаются, свистят, гудят, выпускают угрожающие клубы дыма, словно и они заразились враждебными чувствами, коварными замыслами, которые они привозят сюда под низвергающимися с неба потоками дождя. В вагонах, заглушая шум колес, не смолкают споры, ведущиеся с не меньшей желчностью, с не меньшей яростью, что и на трибуне. Больше всех шумит и суетится Руместан. После начала сессии он произнес уже две речи. Он выступает в комиссиях, говорит в кулуарах, на вокзале, в буфете, от его голоса дрожит стеклянная крыша в фотографических ателье, где собираются правые группировки. Всюду только и видишь очертания его мощной фигуры, находящейся в непрерывном движении, его крупную беспокойную голову, его широкие плечи, которые так и ходят, так и напрягаются на страх правительству: ведь Руместан занят «сваливанием» по всем правилам кабинета министров и проявляет при этом всю свою ловкость и силу борца-южанина. Ах, лазурное небо, тамбурины, цикады, вся лучезарная декорация летних каникул, как она далека! С ней покончено, она убрана со сцены! Нума и не вспоминает о ней – он кружится в вихре своей бурной двойной жизни – адвоката и политического деятеля. Дело в том, что по примеру своего старого учителя Санье он, став членом Палаты парламентской, не отказался и от Палаты судебной, и каждый вечер, от шести до восьми, у дверей его кабинета на улице Скриба толпится народ.
Этот кабинет можно принять за канцелярию посольства. В качестве первого секретаря и правой руки лидера выступает его советчик и друг Межан, отличный адвокат по гражданским делам, уроженец Юга, как все вообще окружение Нумы, но Юга севенского, каменистого, в котором больше Испании, чем Италии; в повадке и говоре его людей много осторожной сдержанности и здравого смысла Санчо Пансы. Коренастый, плотный и уже лысый, с желтым цветом лица неутомимых работяг, Межан один, без посторонней помощи справляется с секретарской работой, приводит в порядок папки с делами, подготовляет материал для речей Нумы, стараясь подкреплять фактами звонкие фразы своего друга, своего – как утверждают осведомленные люди – будущего шурина. Два других секретаря, де Рошмор и де Лаппара, – это просто молодые стажеры, находящиеся в близком родстве с именитым дворянством провинции: они у Руместана только для рекламы, они как бы проходят у него стаж политического ученичества.
Лаппара, высокий красавец с длинными стройными ногами, румяным лицом и темно-рыжей бородкой, сын старого маркиза де Лаппара, главы монархистов бордоской провинции, являет собой яркий образец этого Юга креолов, хвастунов, авантюристов, которые обожают драться на дуэли и тайком уводить из дому благородных девиц. Он провел в Париже пять лет, профукал в клубе сто тысяч франков, заплатил долг чести материнскими бриллиантами, – за пять лет он в совершенстве овладел бульварным жаргоном, приобрел тон и манеры, принятые у парижской золотой молодежи. Полная противоположность ему – виконт Шарлексис де Рошмор, земляк Нумы и тоже воспитанник монастыря Успенья божьей матери; он окончил юридический факультет в провинции под надзором мамаши и аббата и от этого домашнего воспитания сохранил известное простосердечие и робость семинариста, к которым не очень – то подходила бороденка на манер Людовика XIII; все вместе взятое придавало ему вид хитреца и вместе с тем простофили.
Высокий и стройный Лаппара старается посвятить этого юного Пурсоньяка в тайны парижской жизни. Он учит его, как нужно одеваться, что шикарно, а что не шикарно, как держать голову, как делать презрительную гримасу, как садиться и сразу же вытягивать ноги, чтобы брюки не пузырились на коленях. Ему очень хотелось бы отучить его от наивной веры в людей и в установления, вытравить из него вкус к канцелярщине, из-за которого он рискует превратиться просто в исполнительного чиновника. Но, увы! Виконту нравится писанина, и когда Руместан не берет его с собой в Палату или в суд, как, например, сегодня, он может часами сидеть за длинным столом для секретарей рядом с кабинетом патрона и переписывать набело черновики. А бордосец подкатил к окну мягкий табурет, сунул в рот сигару, вытянул ноги и в медленно наползающих сумерках сквозь завесу дождя, сквозь дымок, поднимающийся от свеженастланного асфальта, обозревает длинный ряд выстроившихся друг за другом экипажей с торчащими справа от кучера кнутами, экипажей, которые привезли гостей к г-же Руместан: сегодня четверг, ее приемный день.
Народу-то сколько! И это еще не конец, подъезжают все новые и новые экипажи. Лаппара, гордящийся тем, что знает ливреи всех знатных и богатых домов Парижа, перечисляет вслух вновь прибывших:
– Герцогиня де Сан-Доннино… Маркиз де Бельгард… Черт побери! И Моконсели тут!.. Что же это значит?
Обернувшись к худой и долговязой личности, которая сушит у камина свои вязаные перчатки, свои цветные, не по сезону, брюки, предусмотрительно закрученные у щиколоток, чтобы не соприкасаться с ботинками из толстого сукна, он спрашивает:
– Вам что-нибудь известно, Бомпар?
– Чтэ-нбудь?.. Кнэчно!..
Бомпар – мамелюк Руместана, является чем-то вроде четвертого секретаря, выполняющего всякие «внешние поручения»: он бегает за новостями, славит по всему Парижу своего патрона. Судя по наружному виду Бомпара, эти занятия его не обогащают, но Нума тут ни при чем. Раз в день он соглашается перекусить, изредка принимает пол-луидора, – больше ничего не удается всучить этому странному паразиту. Чем и как он живет, остается загадкой даже для самых близких ему людей. Но спросить у него, не знает ли он чего-нибудь, усомниться в его воображении – значит проявить полнейшую наивность.
– Да, господа… И кое-чтэ очень серьезное…
– Что же именно?
– Только что было покушение на маршала!..
Минутное недоумение. Молодые люди переглядываются, смотрят на Бомпара; потом Лаппара, еще больше вытянувшись на своем табурете, спокойно спрашивает:
– Ну, а как ваш асфальт, друг мой? Как с ним обстоит дело?
– Бог с ним, с асфальтом… У меня на примете есть дельце получше…
Не слишком удивленный слабостью эффекта, произведенного его рассказом о покушении на маршала[17]17
То есть на Мак-Магона, в то время президента республики.
[Закрыть], он начинает повествовать о своем новом замысле. О, это замечательное дело, и до чего простое! Речь идет о том, чтобы заграбастать все сто тысяч франков, которые швейцарское правительство ежегодно выделяет на премирование лучших стрелков в тирах швейцарской федерации. В молодости Бомпар метко стрелял жаворонков. Теперь ему надо напрактиковаться, и он до конца жизни будет обеспечен ежегодной рентой в сто тысяч франков. И какой легкий заработок! Обойти всю Швейцарию, кантон за кантоном, с ружьем за плечами…
Этот сновидец наяву тотчас воодушевился, пустился в пространные описания, он уже влезал на ледники, сходил в долины, по течению горных рек, рушил лавины перед потрясенными молодыми людьми. Из всех выдумок, рождавшихся в его исступленном мозгу, эта была самая необычайная, но он говорил о ней с полной убежденностью, глаза его лихорадочно блестели, от внутреннего жара на его лбу, изрытом глубокими морщинами, словно проступали шишки.
Внезапное появление Межана, вернувшегося из суда, прервало эти бредовые речи.
– Чрезвычайной важности новость!.. – произнес он, отдуваясь и бросая портфель на стол. – Министерство пало.
– Что вы говорите?
– Руместан берет портфель министра народного просвещения.
– Я так и знал, – заявил Бомпар и, уловив недоверчивые усмешки, поспешил добавить: – Знал, господа, знал… Я там был… Я только сейчас оттуда.
– Что же вы не сказали?
– А зачем?.. Мне же никогда не верят… А все из-за моего аццента, – сказал он с наивной покорностью судьбе. Комизма этой фразы никто не заметил, – слишком велико было изумление.
Руместан – министр!
– Ну, ребята, и хитрец же наш патрон!.. – повторил великан Лаппара; он сидел на легком табурете и, задрав ноги к потолку, пофыркивал. – Как это он ловко все проделал!
Рошмор с негодованием выпрямился.
– Какая тут хитрость, дорогой мой!.. У Руместана совесть чиста… Он летит по прямой, как ядро.
– Во-первых, мой мальчик, теперь ядер нет. Есть снаряды. А снаряд делает вот что.
Кончиком ботинка он описал траекторию.
– Пустозвон!
– Простофиля!
– Господа!.. Господа!..
А Межан в это время думал, какой все же удивительный человек этот Руместан, какая это сложная натура. Даже люди, постоянно общающиеся с ним, судят о нем различно: «Хитрец». «Человек с чистой совестью».
Оба эти мнения имели сторонников среди самой широкой публики. Он-то знал Руместана лучше, чем кто-нибудь другой, и ему было хорошо известно, что легкомыслие и лень смягчали в Руместане темперамент честолюбца, что он был и лучше и хуже своей репутации. Но правда ли это – насчет министерского портфеля?.. Межану захотелось проверить слух; он окинул беглым взглядом свою фигуру в зеркале – все ли в порядке – и, перейдя через площадку лестницы, прошел к г-же Руместан.
Еще в передней, где с шубами на руках ждали лакеи, слышался гул голосов, приглушенный высокими потолками и богатой обивкой стен. Обычно Розали принимала в маленькой гостиной, обставленной на манер зимнего сада легкой мебелью, изящными столиками, в гостиной, куда дневной свет просачивался сквозь блестящую листву растений, расставленных у окон. Это создавало интимность, которой было вполне достаточно для нее, парижской буржуазии, держащейся в тени великого человека, не имеющей личного честолюбия и слывущей за пределами тесного круга лиц, которые хорошо знали ее истинную немаловажную роль славной, но заурядной женщиной. Сегодня, однако, обе гостиные были переполнены шумной толпой гостей. То и дело входили новые посетители – весь круг близких и не очень близких друзей, знакомых и даже таких, которых Розали не могла бы назвать по имени.
Одетая в темное шелковое платье с лиловатым отливом, красиво облегавшее ее стройную фигурку и подчеркивавшее гармоничное изящество всего ее существа, она держалась очень просто и встречала каждого с ровной, чуть горделивой улыбкой, с тем холодком, о котором в свое время говорила тетушка Порталь. Заметно было, что успехи мужа отнюдь не ослепляют ее, в ней скорее сквозило некоторое удивление и даже беспокойство; впрочем, ни в чем определенном это не выражалось.
Она переходила от одной кучки гостей к другой, а тем временем во втором этаже парижского дома быстро сгущались сумерки, слуги вносили лампы, зажигали канделябры, и гостиная, где переливался пышный атлас диванов и кресел и горели самоцветами узоры восточных ковров, принимала праздничный вид.
– Ах, господин Межан!..
Розали на минутку оставила гостей и подошла к нему, радуясь, что нашла в этой светской толпе человека по – настоящему близкого. Они отлично понимали друг друга. Поостывший южанин и расшевелившаяся парижанка о многом судили и многое видели одинаково, им удавалось как-то уравновешивать в Нуме и находившие на него порой приступы слабости и его неистовые порывы.
– Я пришел удостовериться, верен ли слух… Теперь сомнения нет… – промолвил он, указывая на гостиные, полные народа.
Она подала ему полученную от мужа депешу и, понизив голос, спросила:
– Что вы на это скажете?
– Дело нелегкое, но ведь вы будете при нем.
– И вы тоже… – сказала она и, пожав ему руки, пошла навстречу новым посетителям.
А посетители все прибывали и прибывали, и никто не уходил. Все ждали лидера, хотели непосредственно от него узнать все подробности заседания, узнать, как он все перевернул одним движением плеча. Среди вновь прибывших кое-кто уже принес отзвуки того, что происходило в Палате, передавал обрывки речей. Вокруг рассказчиков собирались кружки приятно возбужденных гостей. Особенно страстное любопытство проявляли женщины. Их хорошенькие личики под большими шляпами, входившими в моду этой зимой, загорались легким румянцем, розоватым лихорадочным пламенем, какое можно видеть в Монте-Карло на щеках женщин, делающих ставки в трант-в-карант[18]18
Трант-в-карант – азартная карточная игра.
[Закрыть]. Может быть, к политике их располагали именно эти шляпы с длинными страусовыми перьями, похожие на те, что носили в эпоху Фронды?[19]19
Фронда (1648–1653) – мятеж крупных феодалов против королевского абсолютизма, поднятый в начале царствования малолетнего Людовика XIV.
[Закрыть] Во всяком случае, дамы проявляли необычайную политическую осведомленность и, перебивая друг друга, нетерпеливо размахивая муфточками, они так и сыпали принятыми у депутатов словечками и прославляли лидера. И все без исключения восхищались им:
– Какой человек! Какой человек!
В углу гостиной старик Бешю, профессор Коллеж де Франс[20]20
Коллеж де Франс – старейшее среднее учебное заведение Франции, основанное в Париже в 1530 году.
[Закрыть], невероятный урод, у которого на лице заметен был только нос, огромный нос ученого, привыкший зарываться в книги, воспользовался успехом Руместана как предлогом для рассуждения на свою излюбленную тему: слабость современного мира объясняется тем, что в нем придается слишком большое значение женщинам и детям. Невежество и тряпки, капризы и легкомыслие.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































