Текст книги "Малыш"
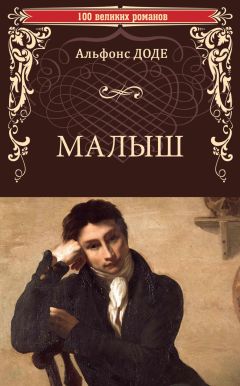
Автор книги: Альфонс Додэ
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава XI
Мой добрый друг, учитель фехтования
В этот день, 18 февраля, дети не могли играть на дворе, так как за ночь выпало много снега. Тотчас же по окончании утреннего урока их всех собрали в зале, где, защищенные от дурной погоды, они должны были провести все рекреационное время в ожидании дальнейших занятий.
Надзор за ними был поручен мне.
«Залом» назывался у нас бывший гимнастический зал Морского училища. Представьте себе четыре высокие, голые стены с маленькими решетчатыми окнами; кое-где в стенах наполовину уже выдернутые крюки, остатки больших лестниц, а посредине потолка прикрепленное веревкой к самой большой балке огромное железное кольцо.
Детям, по-видимому, очень нравилось играть здесь. Они шумно бегали по залу, поднимая столбы пыли; некоторые пробовали достать кольцо; другие, повиснув на нем на руках, громко визжали; пятеро или шестеро – более спокойного темперамента – жевали у окна хлеб, посматривая на покрывавший улицы снег и на людей, лопатами бросавших его на телеги.
Но я не слышал всей этой шумной возни.
Один, в углу, я со слезами на глазах читал только что полученное письмо, и если бы в этот момент дети разнесли весь коллеж, я ничего не заметил бы… Письмо было от Жака, и на нем виднелся штемпель Парижа… Да, Парижа!!! Вот его содержание:
«Дорогой Даниэль!
Мое письмо, конечно, удивит тебя. Ты и не подозревал, не правда ли, что вот уже две недели, как я в Париже. Я покинул Лион, никому ничего не сказав. Безрассудный поступок, – но что поделаешь. Я слишком скучал в этом отвратительном городе, особенно после твоего отъезда…
Я приехал сюда с тридцатью франками в кармане и с пятью или шестью письмами от сен-низьерского священника. К счастью, провидение сразу взяло меня под свое покровительство и направило к одному старому маркизу, к которому я и поступил в качестве секретаря. Мы приводим в порядок его мемуары; я пишу под его диктовку и получаю за это сто франков в месяц. Как видишь, это не очень блестяще, но я все-таки надеюсь, что время от времени буду иметь возможность посылать кое-что домой…
Ах, мой дорогой Даниэль, что за прелестный город Париж! Здесь, по крайней мере, нет этих вечных туманов; конечно, иногда идет дождь, но это маленький веселый дождь вместе с солнцем. Я нигде такого не видел! В результате я совершенно переменился; представь себе, я больше не плачу – нечто совершенно невероятное!..»
На этой фразе я был прерван глухим шумом проезжавшего под окнами экипажа. Карета остановилась у подъезда коллежа, и я услышал, как дети во все горло закричали: «Супрефект! Супрефект![21]21
Суперфект – термин, обозначающий во Франции одновременно и функцию (чиновник высокого уровня, служащий под руководством префекта), и звание члена корпуса префектов.
[Закрыть]».
Визит господина супрефекта предвещал, несомненно, нечто из ряда вон выходящее. Обычно он приезжал в Сарландский коллеж один или два раза в год, и это всегда было целым событием. Но в данную минуту единственно, что меня интересовало и что было для меня важнее сарландского супрефекта и всего Сарланда вообще, – это письмо моего брата Жака. А потому, в то время как развеселившиеся ученики толпились у окна, чтобы посмотреть на выходящего из кареты супрефекта, я вернулся в свой угол и продолжал читать:
«…Сообщаю тебе, мой дорогой Даниэль, что наш отец сейчас в Бретани, где он скупает сидр по поручению одной фирмы. Узнав, что я состою секретарем маркиза, он пожелал продать ему несколько бочонков этого сидра, но, к сожалению, маркиз ничего не пьет, кроме вина, и притом только испанского! Я написал об этом отцу, и, знаешь, что он мне ответил? – Свое неизменное: “Жак, ты осел!” Но я не придаю этому значения, мой дорогой Даниэль, так как знаю, что в глубине души он очень любит меня.
Что касается мамы, то ты ведь знаешь, что она теперь совсем одна. Тебе следовало бы ей написать: она жалуется на твое молчание.
Забыл сказать одну вещь, которая, конечно, обрадует тебя: у меня комната в Латинском квартале[22]22
Традиционный студенческий квартал в 5-м и 6-м округах Парижа на левом берегу Сены вокруг университета Сорбонна.
[Закрыть]… в Латинском квартале!.. Подумай только!.. Настоящая комната поэта, как ее описывают в романах, с маленьким окном и видом на море крыш… Кровать моя не широка, но если понадобится, мы отлично уместимся на ней вдвоем. В углу стоит рабочий стол, на котором будет очень удобно писать стихи. Я уверен, что если бы ты все это увидел, то тебе захотелось бы как можно скорей ко мне приехать. Мне тоже очень хотелось бы, чтобы ты был здесь со мной, и я не ручаюсь за то, что в один прекрасный день не вызову тебя сюда.
А пока что люби меня по-прежнему и не слишком переутомляйся, чтобы не захворать.
Целую тебя,
Твой брат Жак».
Добрый Жак! Какую сладостную боль причинил он мне своим письмом! Я и смеялся, и плакал в одно и то же время. Моя жизнь за последние месяцы – пунш, бильярд, кафе «Барбет» – все это казалось мне теперь отвратительным сном, и я сказал себе: «Довольно! Кончено! Теперь я буду работать, буду таким же мужественным, как Жак!»
В эту минуту прозвучал колокол. Мои ученики построились в ряды. Все они оживленно болтали о супрефекте и указывали друг другу на стоявшую у подъезда карету. Я передал их с рук на руки преподавателям и, освободившись от них, бросился бегом по лестнице. Мне так хотелось поскорее остаться одному в своей комнате с письмом моего Жака!
– Господин Даниэль! Вас ждут в кабинете директора.
У директора?.. Для чего понадобился я директору?.. Швейцар смотрел на меня как-то странно. Вдруг я вспомнил о супрефекте.
– Господин супрефект тоже наверху? – спросил я.
– Да, – ответил швейцар.
Сердце мое забилось надеждой, и я стал поспешно подниматься по лестнице, шагая через четыре ступеньки.
Бывают дни, когда точно сходишь с ума. Услыхав, что супрефект ждет меня у директора, – знаете ли вы, что я вообразил?.. Я вообразил, что он обратил на меня внимание в день раздачи наград и приехал теперь в коллеж специально для того, чтобы предложить мне быть его секретарем! Мне казалось это вполне естественным. Письмо Жака с его рассказами о старом маркизе, очевидно, помутило мой рассудок.
Как бы то ни было, но по мере того как я поднимался по лестнице, моя уверенность все возрастала: секретарь супрефекта! Я не помнил себя от радости…
На повороте коридора я встретил Рожэ. Он был очень бледен и взглянул на меня с таким видом, точно хотел мне что-то сказать. Но я не остановился: у супрефекта не было времени ждать меня!
Когда я подходил к дверям кабинета, сердце мое сильно билось. Секретарь супрефекта! Я должен был на секунду остановиться, чтобы перевести дух. Я поправил галстук, пригладил рукой волосы и тихонько повернул ручку двери.
Если б я знал, что меня ожидало!..
Супрефект стоял, небрежно облокотившись на мраморную доску камина, и улыбался в светло-русую бороду. Директор, в халате, с бархатной шапочкой в руках, стоял возле него в подобострастной позе. Срочно вызванный Вио скромно держался в стороне.
Как только я вошел, супрефект промолвил, указывая на меня:
– Так вот тот господин, который обольщает наших горничных.
Он произнес эту фразу звонким, насмешливым голосом, не переставая улыбаться. Я сначала подумал, что он шутит, и ничего не ответил, но супрефект не шутил и после минутного молчания, все еще улыбаясь, продолжал:
– Ведь я имею честь говорить с господином Даниэлем Эйсетом, не правда ли? С господином Даниэлем Эйсетом, соблазнителем горничной моей жены.
Я не знал, о чем шла речь, но, услыхав слово «горничная», которое мне вторично бросали в лицо, почувствовал, что краснею от стыда, и воскликнул с искренним негодованием:
– Горничную… я!.. Я никогда не соблазнял никакой горничной.
Искра презрения сверкнула из-под очков директора, и я услыхал, как ключи зазвенели в углу: «Какая наглость!»
Супрефект продолжал улыбаться. Он взял с каминной доски маленький сверток бумаг, который я сначала не заметил, и, небрежно помахивая им, повернулся ко мне:
– Сударь, – сказал он, – вот веские доказательства вашей вины: письма, найденные у этой особы. Правда, они без подписи, и горничная не пожелала никого назвать… Но дело в том, что в этих письмах часто упоминается коллеж, и, на ваше несчастье, господин Вио узнал ваш почерк и ваш стиль…
Тут ключи свирепо зазвенели, а супрефект все с той же улыбкой прибавил:
– В Сарландском коллеже не так уж много поэтов! – При этих словах у меня мелькнула ужасная мысль…
Мне захотелось поближе взглянуть на эти бумаги, и я бросился к супрефекту. Испугавшись скандала, директор хотел было остановить меня, но супрефект спокойно протянул мне пачку.
– Взгляните! – сказал он мне. – Боже мой! Мои письма к Сесили!..
…Они все, все были здесь, с первого, начавшегося восклицанием: «О, Сесиль! Порою на утесе диком…» до последнего благодарственного гимна: «ангелу, согласившемуся провести ночь на земле…». И подумать, что все эти красивые цветы любовной риторики я бросал под ноги какой-то горничной!.. Подумать, что эта особа, занимающая такое высокое положение, такое… и прочее, и прочее, каждое утро мыла грязные калоши жены супрефекта!.. Можете себе представить мое бешенство, мое смущенье!
– Ну, что вы на это скажете, господин Дон-Жуан? – насмешливо спросил супрефект после минутного молчания. – Это ваши письма? Да или нет?
Вместо ответа я опустил голову. Одно слово могло бы меня спасти. Но я не произнес этого слова. Я готов был все перенести, чтобы не выдать Рожэ… Заметьте, что во все время этой катастрофы Малыш ни на минуту не заподозрил своего друга в нечестности. Увидав свои письма, он подумал: «Рожэ, вероятно, ленился их переписывать; он предпочитал сыграть за это время партию на бильярде и отсылал мои»… Как он был наивен, этот Малыш!
Увидев, что я не желаю отвечать, супрефект спрятал письма в карман и, повернувшись к директору и его помощнику, сказал:
– Теперь, господа, вы сами знаете, как вы должны поступить.
В ответ на эти слова ключи господина Вио мрачно зазвенели, а директор, кланяясь чуть не до земли, сказал, что господина Эйсета следовало бы немедленно выгнать из училища, но что, во избежание скандала, он оставит его здесь еще на неделю, – ровно на столько, сколько нужно для того, чтобы найти нового воспитателя.
При этом страшном слове «выгнать» все мое мужество покинуло меня. Я молча поклонился и быстро вышел из кабинета. Едва я очутился один в коридоре, как слезы брызнули у меня из глаз, и я стремглав бросился в свою комнату, заглушая платком рыданья.
Рожэ ждал меня там, он казался очень встревоженным и большими шагами расхаживал по комнате.
Увидав меня, он тотчас же подошел ко мне.
– Господин Даниэль, – проговорил он, вопросительно взглядывая на меня.
Ничего не отвечая, я тяжело опустился на стул.
– Слезы?! Бросьте ваше ребячество!.. – продолжал грубым тоном учитель фехтования, – Все это ни к чему!.. Да ну, скорей же!.. Что там такое произошло?
Тогда я подробно рассказал ему об ужасной сцене в кабинете.
По мере того как я говорил, лицо Рожэ прояснялось; он уже не смотрел на меня с прежним высокомерием, и когда узнал, что я согласился быть выгнанным, чтобы не выдать его, он протянул мне обе руки и просто сказал:
– Даниэль, у вас благородное сердце.
В эту минуту до нас донесся шум отъезжавшего экипажа; это уезжал супрефект.
– Вы благородная душа, – повторял мой добрый друг, учитель фехтования, крепко, до боли сжимая мне руки. – Да, вы благородная душа… Больше я вам ничего не скажу, но вы должны понять, что я никому не позволю жертвовать собой ради меня.
Говоря это, он все ближе подходил к двери.
– Не плачьте, господин Даниэль, – я сейчас же пойду к директору, и, клянусь вам, что не вы будете выгнаны из училища.
Он сделал шаг к выходу, потом вернулся с таким видом, точно он что-то забыл, и шепотом проговорил:
– Выслушайте внимательно то, что я скажу вам на прощанье. Ваш друг Рожэ не один на свете; у него есть дряхлая мать, которая живет далеко, в глуши… Мать!.. Бедная святая женщина!.. Обещайте мне, что вы ей напишете. Я снова прошу вас о письме, но уже о последнем… Обещайте же мне, что напишете ей, когда все будет кончено.
Это было сказано спокойно, но таким тоном, что я почувствовал страх.
– Что же вы хотите сделать? – вскричал я.
Рожэ ничего не ответил; он только слегка распахнул свою куртку, и я увидел в его кармане блестящее дуло пистолета.
Я бросился к нему в испуге.
– Вы хотите лишить себя жизни, несчастный?! Застрелиться?..
Он холодно ответил:
– Мой милый, когда я был на военной службе, я дал себе слово, что если когда-либо в результате безрассудного поступка буду разжалован, то не переживу позора. Настало время сдержать это слово… Через какие-нибудь пять минут я буду выгнан из коллежа, другими словами – «разжалован»… А через час… прощайте!.. Все будет кончено для меня…
Услышав это, я с решительным видом заградил ему путь к двери.
– Нет, нет! Рожэ, вы не выйдете отсюда!.. Я лучше потеряю место, чем соглашусь быть причиной вашей смерти.
– Не мешайте мне исполнить мой долг! – мрачно ответил он, и, несмотря на все мое сопротивление, ему удалось приоткрыть дверь.
Тогда мне пришло в голову заговорить о его матери, об этой «бедной матери, жившей где-то в глуши». Я доказывал ему, что он должен жить ради нее, что мне всегда удастся найти себе другое место; говорил, что у нас еще целая неделя впереди и что, во всяком случае, нельзя принимать такого ужасного решения до самого последнего момента. Это соображение на него, по-видимому, подействовало. Он согласился отложить на несколько часов свой визит к директору и то, что должно было последовать за этим…
В это время раздался колокол, мы обнялись, и я спустился в класс.
Но какова человеческая натура! Я вошел в свою комнату полный отчаяния, а вышел из нее почти сияющий… Малыш так гордился тем, что спас жизнь своему доброму другу – учителю фехтования!
И все же я должен сказать, что, когда я занял свое место на кафедре и первый порыв энтузиазма прошел, я задумался о своем собственном положении. Рожэ соглашался остаться жить, разумеется, это было очень хорошо, но я сам… что я сам буду делать после того, как мой самоотверженный поступок выставит меня из коллежа?..
Положение было не из веселых. Я уже видел мать в слезах, отца в гневе, восстановление домашнего очага неосуществимым… К счастью, я вспомнил о Жаке: как хорошо, что его письмо пришло как раз сегодня утром! В конце концов все может уладиться: мне стоит только поехать к нему. Ведь он пишет, что в его кровати места хватит для нас обоих! К тому же в Париже можно всегда найти заработок…
Но тут мне пришла в голову ужасная мысль: чтобы уехать, нужны деньги… на железнодорожный билет, во-первых, а затем я должен пятьдесят восемь франков швейцару, десять – одному из учеников старшего класса, и еще громадные суммы, записанные на мой счет в кафе «Барбет»! Где раздобыть столько денег?!
«Да что там, – сказал я себе после некоторого раздумья, – стоит беспокоиться о таких пустяках. А Рожэ? Рожэ богат. У него в городе много уроков, и он будет, конечно, только счастлив достать мне несколько сотен франков, мне, человеку, спасшему ему жизнь».
Мысленно уладив свои дела, я забыл обо всех катастрофах этого дня и стал думать о своей поездке в Париж. Я был так радостно настроен, что не мог усидеть на месте, и господин Вио, явившийся в класс, чтобы насладиться зрелищем моего отчаяния, был очень разочарован, увидав мою веселую физиономию. За обедом я ел с большим аппетитом, а во дворе, во время перемены, простил нескольких шалунов. Наконец колокол возвестил об окончании занятий.
Самым неотложным делом было повидать Рожэ. Одним прыжком я очутился у него в комнате, но она была пуста. «Понимаю, – подумал я, – он, конечно, отправился в кафе “Барбет”». При наличии таких драматических обстоятельств в этом не было ничего удивительного.
Но в кафе «Барбет» тоже не было никого. «Рожэ, – сказали мне там, – отправился с унтер-офицерами на Поляну». Но что же, черт возьми, могли они там делать в такую погоду… Меня это начало беспокоить и, отказавшись от предложенной мне партии на бильярде, я подвернул брюки и устремился по снегу на Поляну, на поиски своего доброго друга, учителя фехтования.
Глава XII
Железное кольцо
От Сарлаидских ворот до Поляны добрых полмили, но я так быстро шел, что проделал этот путь менее чем в четверть часа. Я дрожал за Рожэ. Я боялся, что бедный малый, вопреки своему обещанию, все расскажет директору во время урока, и мне казалось, что я вижу перед собой блеск его пистолета… Эта мрачная мысль несла меня вперед, как на крыльях.
Но вскоре я заметил на снегу следы многочисленных ног, направлявшихся к Поляне, и мысль, что учитель фехтования был не один, меня немного успокоила.
Замедлив шаги, я принялся думать о Париже, о Жаке, о своем отъезде… Но минуту спустя мои страхи возобновились.
Несомненно, Рожэ решил застрелиться… Иначе зачем бы он пошел сюда, в это пустынное место, так далеко от города. Если же он привел с собой своих друзей из кафе «Барбет», то это для того, чтобы выпить с ними «прощальный кубок», как они называют… О, эти военные!.. И при этой мысли я опять пустился бежать.
К счастью, до Поляны было теперь недалеко; я видел уже большие покрытые снегом деревья.
«Бедный друг, – думал я, – только бы поспеть вовремя!»
Следы шагов привели меня к кабачку Эсперона.
Этот кабачок пользовался очень дурной славой. В нем сарландские кутилы устраивали свои утонченные пиршества. Я не раз бывал там в обществе «благородных сердец», но никогда еще он не казался мне таким зловещим, как в этот день. Желтый и грязный посреди белоснежной равнины, с низкой дверью, ветхими стенами и плохо вымытыми окнами, он прятался за рощицей невысоких вязов, точно сам стыдясь своего гнусного промысла…
Подходя к кабачку, я услышал веселые голоса, смех и звон стаканов.
«Боже! – воскликнул я, содрогаясь. – Так и есть… Прощальный кубок…»
И я остановился, чтобы перевести дух.
Я находился в это время позади кабачка и, толкнув калитку, вошел в сад. Но какой сад! Ветхая поломанная изгородь, голые кусты сирени, на снегу кучи мусора и всяких нечистот и несколько низеньких беседок, совершенно белых от лежащего на них снега, похожих на хижины эскимосов… Вид до того унылый, что можно было заплакать.
Шум доносился из залы первого этажа. Попойка была, очевидно, в самом разгаре, судя по тому, что, несмотря на холод, оба окна были раскрыты настежь.
Я занес уже ногу на первую ступеньку крыльца, как вдруг услышал нечто такое, что заставило меня сразу остановиться и оцепенеть: это было мое имя, прозвучавшее среди громких взрывов хохота. Обо мне говорил Рожэ и, – странная вещь, – всякий раз, когда произносилось имя Даниэля Эйсета, слушатели покатывались со смеху.
Движимый мучительным любопытством, чувствуя, что я услышу сейчас что-то необычайное, я отошел и, не замеченный никем, благодаря снегу, заглушавшему, подобно мягкому ковру, мои шаги, проскользнул в одну из беседок, находившуюся как раз под открытыми окнами.
Всю жизнь я буду видеть перед собой эту беседку. Всю жизнь буду видеть покрывавшую ее сухую, мертвую зелень, грязный сырой пол, маленький зеленый стол и деревянные скамейки, с которых стекала вода… Сквозь лежавший на ней снег еле проникал дневной свет; снег медленно таял, и на голову мне одна за другой падали холодные капли…
Там, в этой черной и холодной, как могила, беседке, я узнал, как злы и подлы могут быть люди; там я научился сомневаться, презирать, ненавидеть… Да сохранит тебя Бог, читатель, от такой ужасной беседки!.. Неподвижный, затаив дыхание, красный от гнева и стыда, я слушал, что говорилось в кабачке Эсперона.
Мой добрый друг, учитель фехтования, болтал без умолку… Он рассказывал о случае с Сесиль, о любовной переписке, о приезде супрефекта в коллеж и не жалел красок и выразительных жестов, которые, вероятно, были очень комичны, судя по восторженным возгласам его аудитории.
– Вы понимаете, голубчики, – говорил он насмешливым тоном, – что я недаром в течение трех лет играл в комедиях на сцене театра зуавов[23]23
Зуав – изначально название военнослужащего частей легкой пехоты французских колониальных войск.
[Закрыть]. Клянусь вам, была минута, когда я думал, что дело мое проиграно и что мне никогда уж больше не придется пить в вашей компании доброе винцо старика Эсперона… Правда, маленький Эйсет ничего не рассказал, но время для этого еще не ушло, и, между нами говоря, я думаю, что ему только хотелось предоставить мне честь самому на себя донести… А потому я сказал себе: «Смотри в оба, Ружэ, и начинай свою главную сцену!»
И мой добрый друг, учитель фехтования, немедленно принялся играть свою «главную сцену», то есть изображать все то, что произошло между нами в это утро у меня в комнате. А! Негодяй! Он ничего не забыл… Театральным тоном он кричал: «Моя мать! Моя бедная мать!» Потом, подражая моему голосу: «Нет, Рожэ! Нет! Вы отсюда не выйдете!» Главная сцена была действительно в высокой степени комична, и все присутствующие умирали со смеху. Я чувствовал, как горькие слезы катились у меня по щекам, меня трясло, в ушах звенело. Я понял теперь всю омерзительную комедию этого утра; понял, что Рожэ умышленно посылал мои письма непереписанными, чтобы оградить себя от всяких случайностей; узнал, что его мать, его бедная мать, умерла двадцать лет назад и что я принял металлический футляр его трубки за пистолетное дуло.
– А прекрасная Сесиль? – спросил один из благородных людей.
– Сесиль уехала, ничего не рассказав. Она славная девушка.
– А маленький Даниэль? Что с ним теперь будет? – Ба!.. – ответил Рожэ.
За этим последовал жест, заставивший всех рассмеяться. Этот смех окончательно вывел меня из себя. Мне захотелось выскочить из беседки и внезапно предстать перед ними подобно привидению. Но я сдержал себя. Я и без того был достаточно смешон. Подали жаркое. Начались тосты.
– За здоровье Рожэ! За здоровье Рожэ! – кричали собутыльники.
Я не мог дольше там оставаться, – я слишком страдал. Не думая о том, что меня могли заметить, я кинулся бегом через сад. Одним прыжком я был у калитки и пустился бежать, как безумный.
Ночь надвигалась безмолвная, и на всем этом громадном снежном поле, уже окутанном вечерними сумерками, казалось, лежала печать глубокой тоски.
Я бежал так некоторое время, подобно раненому козленку, и если бы «разбитые, истекающие кровью» сердца не были только поэтической метафорой, то вы нашли бы там, позади меня, на этой белой равнине, длинный кровавый след…
Я чувствовал, что погиб. Где достать денег? Что сделать, чтобы уехать отсюда? Как добраться до моего брата Жака? Если бы я и выдал Рожэ, все равно это не помогло бы мне… Теперь, когда Сесиль уехала, он стал бы все отрицать.
Наконец, измученный и обессиленный ходьбой и отчаянием, я упал на снег у каштанового дерева. Я, может быть, пролежал бы там до утра, плача и не имея даже сил думать, как вдруг далеко, далеко, в стороне Сарланда, я услыхал звон колокола. Это был колокол коллежа. Я обо всем позабыл, – этот звон вернул меня к жизни. Надо было возвращаться и наблюдать за игрой детей в гимнастическом зале во время перемены… Когда я вспомнил об этом зале, в голове моей мелькнула новая мысль… В ту же минуту рыдания мои прекратились. Почувствовав себя сразу более сильным и более спокойным, я встал и твердыми шагами человека, только что принявшего непоколебимое решение, направился по дороге в Сарланд.
Если вы хотите знать, какое непоколебимое решение принял Малыш, последуйте за ним в Сарланд через всю эту белую равнину и дальше по темным грязным улицам города до самого здания коллежа; войдите вслед за ним во время перемены в гимнастический зал и обратите внимание на то, с каким странным упорством он смотрит на большое железное кольцо, раскачивающееся посреди комнаты; а по окончании перемены последуйте за ним в класс, поднимитесь вместе с ним на кафедру и через его плечо прочтите полное скорби письмо, которое он пишет среди шума и гама бушующих детей..
«Господину Жаку Эйсету
Улица Бонапарта. Париж.
Прости мне, мой дорогой Жак, то горе, которое я сейчас причиню тебе. Я еще раз заставлю тебя заплакать, – тебя, переставшего уже плакать… Но это будет в последний раз… Когда ты получишь это письмо, твоего Даниэля уже не будет в живых…»
«…Видишь, Жак, я был слишком несчастен. Мне не оставалось ничего другого как покончить с собой… Моя будущность погублена: меня выгнали из коллежа… В эту историю замешана женщина… Сейчас слишком долго рассказывать все это… Кроме того, я наделал долгов, разучился работать, мне стыдно, я скучаю, мне все надоело, жизнь меня пугает… Лучше совсем уйти!..»
Малыш опять вынужден остановиться:
– Пятьсот стихов Субейролю! Фук и Лупи в воскресенье без отпуска.
Затем он возвращается к письму.
«Прощай, Жак! Мне еще многое нужно было сказать тебе, но я чувствую, что расплачусь, а ученики смотрят на меня… Скажи маме, что во время прогулки я поскользнулся и свалился с утеса или что я утонул, катаясь на коньках Одним словом, выдумай какую-нибудь историю, пусть только бедняжка никогда не узнает правды!.. Покрепче поцелуй ее за меня, дорогую мою маму, обними также отца и постарайся поскорее восстановить домашний очаг… Прощай, я люблю тебя. Вспоминай Даниэля».
Окончив это письмо, Малыш тотчас же начинает другое.
«Господин аббат, прошу вас доставить моему брату Жаку прилагаемое письмо. Вместе с тем прошу также отрезать прядь моих волос и положить в маленький пакет для моей матери.
Простите меня за причиненную вам неприятность. Я покончил с собой потому, что был здесь слишком несчастен. Вы один, господин аббат, были всегда очень добры ко мне. Благодарю вас.
Даниэль Эйсет».
Затем Малыш кладет оба письма в один конверт и делает следующую надпись: «Прошу того, кто первый найдет мой труп, передать это письмо аббату Жерману».
Покончив с этими делами, он спокойно ждет конца урока.
Уроки кончились; ужинают, молятся и отправляются в дортуар.
Ученики ложатся. Малыш ходит взад и вперед по комнате, ожидая, чтобы они уснули. Вскоре раздается звяканье ключей господина Вио и шум его шагов по паркету. Он делает свой обход.
– Покойной ночи, господин Вио! – бормочет Малыш.
– Покойной ночи! – отвечает вполголоса инспектор. Потом он удаляется, и его шаги замирают в коридоре.
Малыш остается один. Он тихонько открывает дверь и на момент останавливается на площадке послушать, не проснулись ли ученики. Но в дортуаре все тихо.
Тогда он спускается вниз, пробирается медленно, неслышными шагами вдоль стен. Врываясь из-под дверей, уныло завывает северный ветер… Проходя по галерее, Малыш видит двор, белый от снега среди четырех совершенно темных корпусов коллежа.
Только наверху под самой крышей светится одно окно: там аббат Жерман работает над своим сочинением. От всего сердца Малыш посылает прощальный привет доброму аббату; потом входит в зал…
Старый гимнастический зал Морского училища полон холодного зловещего мрака. Сквозь решетчатое окно льется слабый свет луны и падает прямо на громадное железное кольцо… – Ах, это кольцо… Малыш, не переставая, думал о нем в течение последних часов. Оно блестит, как серебро. В одном углу зала дремлет старая скамейка. Малыш берет ее, ставит под кольцо и становится на нее. Он не ошибся: высота подходящая. Тогда он снимает галстук, длинный шелковый фиолетовый галстук, который он повязывает вокруг шеи, как ленту, прикрепляет его к кольцу и делает затяжную петлю… Бьет час. Пора! Нужно умирать… Дрожащими руками Малыш растягивает петлю… Его трясет лихорадка. Прощай, Жак! Прощайте, мама…
Вдруг на него опускается чья-то железная рука. Он чувствует, что кто-то схватывает его за талию, поднимает и ставит на пол около скамейки. В то же время резкий и насмешливый, хорошо знакомый голос произносит:
– Вот странная фантазия упражняться на трапеции в этот час!
Малыш с изумлением оборачивается.
Перед ним аббат Жерман. Аббат Жерман без рясы, в коротких штанах и в жилетке, с болтающимися на ней брыжжами. Его прекрасное, обезображенное оспой лицо, слабо освещенное луной, грустно улыбается… Он снял самоубийцу с табурета, действуя одной рукой; в другой он все еще держит графин, полный воды, за которой он спускался во двор.
Видя испуганное, взволнованное лицо Малыша и его полные слез глаза, аббат Жерман перестает улыбаться и повторяет на этот раз более мягким, почти растроганным голосом:
– Какая странная фантазия, милый Даниэль, упражняться на трапеции в такой час!
Малыш стоит, весь красный от смущения.
– Я не упражняюсь на трапеции, господин аббат. Я… Хочу умереть…
– Как!.. Умереть?.. Ты, значит, очень несчастлив?
– О, да!.. – только и может произнести Малыш, и крупные жгучие слезы катятся у него по щекам.
– Даниэль, ты пойдешь сейчас ко мне, – говорит аббат.
Малыш качает отрицательно головой и показывает на железное кольцо с привязанным к нему галстуком… Аббат Жерман берет его за руку:
– Послушай, идем сейчас в мою комнату; если ты хочешь с собой покончить, то сделаешь это у меня наверху; там тепло и уютно.
Но Малыш противится:
– Дайте мне умереть, господин аббат! Вы не имеете права мешать мне…
Глаза аббата вспыхивают гневом.
– А-а! Вот как! – И, схватив Малыша за кушак, он уносит его под мышкой, точно какой-нибудь сверток, несмотря на его сопротивление и мольбы…
И вот мы у аббата Жермана. В камине пылает яркий огонь; около камина на столе горит лампа, лежат трубки и целая груда исписанных каракулями бумаг.
У камина сидит Малыш. Он очень возбужден и не переставая говорит. Рассказывает о своей жизни, о своих несчастьях, о том, почему он хотел с собой покончить… Аббат слушает его, улыбаясь; потом, когда Малыш все высказал, выплакал все свое горе, облегчил свое бедное наболевшее сердце, – добрый аббат берет его за руку и говорит ему спокойно:
– Все это пустяки, мой мальчик, и было бы глупо из-за такой малости лишить себя жизни. Твоя история весьма проста: тебя выгнали из коллежа, что, откровенно говоря, большое для тебя счастье. Ну, следовательно, тебе нужно отсюда уезжать, уезжать немедленно, не выжидая этой недели… Ты ведь не кухарка какая-нибудь, черт возьми!.. О деньгах на дорогу и об уплате долгов не беспокойся. Я беру это на себя… Деньги, которые ты хотел занять у этого негодяя, ты возьмешь у меня. Завтра мы все это уладим… А теперь – ни слова больше! Мне нужно работать, а тебе – спать… Но я не хочу, чтобы ты возвращался в этот ужасный дортуар: там тебе будет холодно и страшно… Ложись здесь, на мою постель, белье на ней свежее, чистое… Я буду всю ночь писать, а если сон меня одолеет, лягу на диван… Ну, спокойной ночи! Больше со мной не разговаривай!
Малыш ложится. Он не протестует… Все происшедшее кажется ему сном. Сколько событий за один день! Быть так близко к смерти и очутиться в спокойной, теплой комнате, на прекрасной постели. Как хорошо Малышу!.. Время от времени, открывая глаза, он видит в мягком свете, падающем из-под абажура, доброго аббата Жермана, который курит трубку и, тихонько поскрипывая пером, исписывает своими каракулями листы белой бумаги…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































