Текст книги "Тартарен из Тараскона (сборник)"
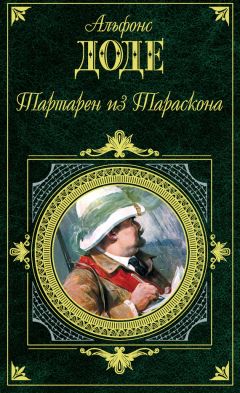
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +8
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Наконец!..
По прошествии чреватой событиями и трагической ночи, когда наш герой пробудился чуть свет и окончательно удостоверился, что князь сбежал со всей его мошной, – сбежал и уже не вернется, а он остался один в маленькой белой гробнице, обманутый, обворованный, брошенный, один в этом диком Алжире, не считая верблюда, и в кармане у него завалялось всего-навсего несколько мелких монет, – только тут впервые тарасконец разочаровался. Разочаровался в Черногории, разочаровался в дружбе, разочаровался в славе, разочаровался даже во львах, и, как Христос в Гефсиманском саду, великий человек горько заплакал.
И так он, все еще в раздумье, сидел у входа в марабут, уронив голову на руки, зажав карабин между колен, а верблюд не спускал с него глаз, как вдруг кустарник зашевелился, и ошеломленный Тартарен в десяти шагах от себя увидел гигантского льва; лев приближался, высоко закинув голову и издавая страшный рев, и от этого рева задрожали стены марабута, сплошь увешанные всякой всячиной, и подпрыгнули даже туфли святого, покоившиеся в нише.

Один лишь тарасконец не дрогнул.
– Наконец! – воскликнул он, подскочив, и приставил приклад к плечу.
Бах! Бах! Фюить! Фюить!.. Готово… В голове у льва две разрывные пули… В одну минуту к огнедышащему небу Африки ужасающим фейерверком взметнулись кусочки мозга, капли дымящейся крови и клочья рыжей шерсти. Затем все рассеялось, и Тартарен увидел… двух рослых разъяренных негров, которые мчались на него с дубинами. Двух негров из Милианаха!
О, горе! То был ручной лев, жалкий слепец из Мухаммедовой обители, – вот кого сразили тарасконские пули.
На сей раз, клянусь Магометом, Тартарен отделался дешево. Негры-сборщики, эти исступленные фанатики, конечно, разорвали бы его в клочки, не пошли христианский бог ему на помощь ангела-хранителя в образе сельского стражника Орлеанвильской общины, с саблей под мышкой прибежавшего на место происшествия по глухой тропе.
При виде муниципального кепи негры тотчас же присмирели. Величественный и невозмутимый, человек с бляхой составил протокол, велел взвалить на верблюда львиные останки и, предложив истцам и ответчику следовать за ним, направился в Орлеанвиль, а там это дело было передано в суд. Началась длинная, томительная процедура.
После Алжира диких племен Тартарену из Тараскона довелось познать другой Алжир, не менее забавный и не менее страшный – Алжир городской, Алжир судов и адвокатов. Он познакомился с подозрительными стряпчими, обделывающими грязные делишки в кофейнях, с судейской богемой, с делами в папках, пропахших абсентом, с белыми галстуками, залитыми дешевым шампанским; он познакомился с судебными исполнителями, поверенными, ходатаями по делам, со всей этой тощей и голодной саранчой, облепляющей гербовую бумагу, съедающей колониста со всеми потрохами, обдирающей его по листку, точно маисовый початок…
Прежде всего надлежало выяснить, на чьей территории был убит лев: на гражданской или на военной. В первом случае дело подлежало рассмотрению в гражданском суде; во втором случае Тартарен должен был предстать перед военным трибуналом, и при одном слове «трибунал» впечатлительный тарасконец уже рисовал себе, как его расстреливают у крепостной стены или как его гноят в подземелье…
Эти две территории недостаточно четко разграничены в Алжире – вот что самое ужасное… Наконец, после целого месяца беготни, хлопот, ожидания на солнцепеке во дворах арабских присутственных мест, было установлено, что хотя, с одной стороны, лев был убит на военной территории, но, с другой стороны, Тартарен, когда стрелял, находился на территории гражданской. Дело, следовательно, слушалось в гражданском суде, и наш герой был приговорен к возмещению убытков в размере двух тысяч пятисот франков, не считая судебных издержек.
Откуда взять такие деньги? Несколько пиастров, уцелевших от налета, совершенного князем, давным-давно ушли на оплату гербового сбора и на абсент для судейских.

Несчастный истребитель львов вынужден был продавать по частям, карабин за карабином, свои оружейные ящики. Он продал кинжалы, малайские криссы, кастеты… Бакалейный торговец купил у него консервы. Аптекарь – все, что осталось от липкого пластыря. Высокие сапоги, и те вслед за усовершенствованной походной палаткой перекочевали к старьевщику, который поставил их рядом с кохинхинскими диковинами… После того как вся сумма была выплачена, у Тартарена ничего больше не осталось, кроме львиной шкуры и верблюда. Шкуру он тщательно упаковал и отправил в Тараскон бравому командиру Бравида. (Что сталось с этой необыкновенной добычей, мы увидим дальше.) С помощью же верблюда он рассчитывал добраться до Алжира, но только не сев на него верхом, а продав его и купив на эти деньги место в дилижансе, что, конечно, является наилучшим способом путешествия на верблюдах. К несчастью, сбыть с рук верблюда не так-то просто – никто не давал за него ни лиара.
Тем не менее Тартарен решил добраться до Алжира во что бы то ни стало. Ему не терпелось увидеть вновь голубой корсаж Байи, свой домик, фонтаны и в ожидании денег из Франции отдохнуть под белыми пальметтами своей галереи. И наш герой не колебался: измученный, но не сломленный, без гроша в кармане, он решил, делая частые привалы, идти пешком.
Верблюд не покинул его в беде. Странное животное прониклось к своему хозяину непостижимой нежностью и видя, что тот уходит из Орлеанвиля, благоговейно двинулось следом за ним, приноравливаясь к его шагу и не отставая ни на пядь.
Первое время Тартарен был даже растроган: эта верность, эта прошедшая через все испытания преданность умилила его; к тому же верблюд был крайне неприхотлив и питался неизвестно чем. Однако по прошествии нескольких дней тарасконцу наскучил унылый спутник, неуклонно следовавший за ним по пятам и напоминавший ему все его злоключения; к ощущению скуки постепенно примешалось чувство досады: его уже раздражал печальный вид верблюда, горб, гусиный шаг. Одним словом, Тартарен его невзлюбил и думал теперь только о том, как бы от него избавиться, но животное проявляло упорство… Тартарен попробовал потерять верблюда – верблюд отыскал его; попробовал спастись бегством – верблюд бегал быстрее… Он кричал на него: «Пошел!» – бросал в него камни. Верблюд останавливался и грустно смотрел на него, а потом, выждав с минуту, снова трогался в путь и неукоснительно каждый раз догонял его. Тартарен вынужден был смириться.
Когда же, прошагав восемь нескончаемо долгих дней, тарасконец, запыленный, выбившийся из сил, завидел издали, как сверкнули в зелени белые террасы окраинных домов Алжира, когда он оказался уже в пригороде, на шумной Мустафской улице, среди зуавов, бискарийцев, маонцев, толпившихся вокруг него и глазевших, как он шествует со своим верблюдом, последнее терпение у него лопнуло. «Нет, нет! – подумал он. – Это невозможно. Я не могу войти в Алжир с верблюдом!» Воспользовавшись затором в уличном движении, он свернул в поле и залег в канаве… Мгновение спустя он увидел, что наверху, по шоссе, встревоженно вытянув шею, вскачь промчался верблюд.
Тогда только, облегченно вздохнув, герой наш вылез из своего укрытия и окольной тропинкой, огибавшей его садик, возвратился в город.
VIIКатастрофа за катастрофой
Подойдя к своему мавританскому домику, Тартарен остановился в полном изумлении. День склонялся к закату, улица была безлюдна. Низкую стрельчатую дверь негритянка забыла притворить, и из дома неслись смех, звон бокалов, хлопанье пробок от шампанского, а покрывал весь этот очаровательный содом женский голос, веселый и чистый; он пел:
Красавица Марко! Ты любишь
Потанцевать среди цветов?..
– Что за черт! – бледнея, прошептал Тартарен и бросился во двор.
Несчастный Тартарен! Какое зрелище его ожидало!.. Под арками галереи среди бутылок, печенья, разбросанных подушек, трубок, тамбуринов и гитар стояла Байя без голубой кофты, без корсажа, в рубашке из серебристого газа, в широких бледно-розовых шароварах, в заломленной набекрень фуражке морского офицера и пела «Красавицу Марко»… У ее ног, на циновке, пресыщенный любовью и вареньем, Барбасу, коварный капитан Барбасу, слушал пение и помирал со смеху.
Появление Тартарена, отощавшего, изможденного, запыленного, с горящими глазами, в дыбом стоящей шешье, мгновенно прекратило эту прелестную оргию в турецко-марсельском вкусе. Байя взвизгнула, как испуганная левретка, и шмыгнула в дом. Барбасу, однако, ничуть не смутился, – он только еще громче захохотал.
– Ну, ну, господин Тартарен, что вы на это скажете? Убедились теперь, что она говорит по-французски?
Тартарен из Тараскона в бешенстве ринулся на него:
– Капитан!
– Нэ волнэйся, дрэжэчек! – крикнула мавританка и полным очаровательного задора движением перевесилась через балюстраду.
От неожиданности бедняга тарасконец плюхнулся прямо на тамбурин. Его мавританка умела говорить даже по-марсельски!
– Я вас предупреждал – держитесь подальше от алжирок! – наставительно заметил капитан Барбасу. – Это вроде вашего черногорского князя.
Тартарен насторожился:
– Вы знаете, где князь?
– Да, он отсюда недалеко! Он поселился на пять лет в уютной Мустафской тюрьме. Этого жулика поймали с поличным… Впрочем, его упрятывают не в первый раз. Его высочество где-то уже отбыл три года тюрьмы… Да позвольте! По-моему, как раз в Тарасконе.
– В Тарасконе?.. – воскликнул Тартарен, которого внезапно осенило. – Так вот почему он знает только одну часть нашего города!..
– Ну разумеется!.. Вид на Тараскон из окон тюрьмы… Ах, дорогой господин Тартарен, в этой проклятой стране надо вечно быть начеку, иначе нарвешься на большие неприятности… Взять хотя бы вашу историю с муэдзином…
– Какую историю? С каким муэдзином?
– Вот тебе раз!.. С тем муэдзином, что напротив, с тем, что ухаживал за Байей… На днях об этом было в «Акбаре», и весь Алжир до сих пор покатывается со смеху… В самом деле, забавно: муэдзин, распевая молитвы на своем минарете, перед самым вашим носом объяснялся девице в любви и, призывая имя аллаха, назначал ей свидания…
– Стало быть, в этой стране все сплошь прохвосты? – взревел несчастный тарасконец.
Барбасу ответил на это философическим жестом.
– Понимаете, дорогой мой, новые страны… Ну, да не в этом дело! Послушайтесь вы моего совета: возвращайтесь как можно скорее в Тараскон.
– «Возвращайтесь»… Легко сказать… А деньги?.. Разве вы не знаете, как меня обчистили в пустыне?
– Эка важность! – со смехом сказал капитан. – «Зуав» отбывает завтра, – если хотите, я вас доставлю на родину… Согласны, дружище?.. Ну и отлично. Теперь вам только вот что надо: тут еще осталось на несколько бокалов шампанского, полпирога… Присаживайтесь! Кто старое помянет, тому глаз вон…
Поколебавшись с минуту для приличия, Тартарен наконец согласился. Он сел, чокнулся с капитаном, на звон бокалов Байя сошла вниз и допела «Красавицу Марко», пиршество зашло далеко за полночь.
Часов около трех утра, проводив своего друга-капитана, добрый Тартарен с легкостью в мыслях, но с тяжестью в ногах возвращался домой, а когда он проходил мимо мечети, то невольно вспомнил проказника-муэдзина; это его насмешило, и в голове у него тут же составился блестящий план мести. Дверь была отперта. Он вошел, миновал длинный ряд коридоров, устланных циновками, поднялся наверх, потом еще выше и наконец очутился в маленькой турецкой молельне, где под самым потолком качался железный фонарь, отбрасывая на белые стены причудливые тени.
Муэдзин был тут: в высоком тюрбане и белом балахоне, он сидел на тахте и курил мостаганемскую трубку, а перед ним стоял большой стакан холодного абсента, к которому он, в ожидании того часа, когда ему надлежало призвать правоверных на молитву, благоговейно прикладывался… При виде Тартарена он от ужаса выронил трубку.
– Ни слова, поп… – сказал приводивший свой план в исполнение тарасконец. – Давай сюда тюрбан и балахон!..
Турецкий поп, весь дрожа, отдал тюрбан, балахон – все, что от него потребовали. Тартарен облачился и торжественно прошествовал на минарет.
Вдали сверкало море. Белые кровли поблескивали в лунном свете. Ветер, дувший с моря, доносил запоздалые звуки гитар… Муэдзин из Тараскона собрался с духом, а затем, воздев руки, начал выкрикивать тонким голосом:
– Ла алла ил алла… Магомет – старый шут… Восток, Коран, башага, львы, мавританки – все это не стоит ломаного гроша!.. Нет больше тэрок… Остались одни прощелыги… Да здравствует Тараскон!..
Славный Тартарен, пользуясь диким наречием, представлявшим собой смесь арабского с провансальским, на все четыре стороны, на море, на город, на равнину, на горы, изрыгал весело звучавшие тарасконские проклятия, а ему внятно и торжественно отзывались муэдзины, сначала с ближних минаретов, потом с дальних, и правоверные, жившие на самом краю Верхнего города, набожно били себя в грудь.

Тараскон! Тараскон!
Полдень. «Зуав» разводит пары, сейчас отойдет. С балкона кофейной «Валентин» господа офицеры наводят подзорную трубу, а затем, по старшинству, с полковником во главе, подходят взглянуть на счастливый кораблик, который отправляется во Францию. Это любимое развлечение всего штаба… Внизу искрится водная гладь рейда. Казенная часть старых турецких орудий, врытых в землю вдоль набережной, ослепительно сверкает на солнце. Торопятся пассажиры. Бискарийцы и маонцы грузят вещи в лодки.
А у Тартарена из Тараскона вещей нет. Вот он со своим другом Барбасу идет по Морской улице, мимо небольшого базара, заваленного бананами и арбузами. Незадачливый тарасконец оставил на мавританском берегу вместе с оружейным ящиком и свои мечты, и теперь он с пустыми руками собирается отплыть в Тараскон… Только успевает он прыгнуть в капитанскую шлюпку, как с высокой площади, тяжело дыша, скатывается на набережную какое-то животное и галопом несется к нему. Это верблюд, преданный верблюд, целые сутки искавший своего хозяина по всему Алжиру.
Тартарен меняется в лице и делает вид, что верблюд не его, но верблюд приходит в исступление. Он мечется по набережной. Он зовет своего друга, он умильно смотрит на него. «Возьми меня с собой! – кажется, говорит его грустный взгляд. – Возьми меня в лодку и увези прочь, прочь от этой бутафорской Аравии, от этого нелепого Востока с локомотивами и дилижансами, где такому одногорбому отщепенцу, как я, нет больше места в жизни. Ты – последний турок, я – последний верблюд… Так зачем же нам разлучаться, о Тартарен?..»
– Это не ваш верблюд? – спрашивает капитан.
– Нет, что вы! – отвечает Тартарен, содрогаясь при одной мысли, как бы он появился в Тарасконе с такой потешной свитой. И, без зазрения совести отрекшись от товарища по несчастью, он отталкивается от алжирской земли и приводит в движение лодку. Верблюд нюхает воду, вытягивает шею так, что хрустят суставы, со всего размаху бросается в море, плывет за шлюпкой к «Зуаву», и горб его пляшет на волнах, как тыква, а длинная шея торчит из воды, как водорез триремы.
Лодка и верблюд подплывают к пакетботу одновременно.
– А мне жаль дромадера! – говорит растроганный капитан Барбасу. – Возьму-ка я его, пожалуй, на борт… Приеду в Марсель и подарю Зоологическому саду.
С помощью канатов и блоков верблюда, отяжелевшего от морской воды, еле-еле втащили на палубу, и «Зуав» отвалил.
Плавание продолжалось двое суток, и все это время Тартарен отсиживался у себя в каюте – не потому, чтобы море было неспокойно, и не потому, чтобы очень страдала шешья, а потому, что чертов верблюд, стоило хозяину появиться на палубе, оказывал ему преуморительные знаки внимания… Свет еще не видел такого навязчивого верблюда!..
В иллюминатор, куда Тартарен время от времени заглядывал, ему было видно, что синева алжирского неба час от часу бледнеет, и, наконец, однажды утром он, к великой своей радости, услышал, как в серебристом тумане звонили марсельские колокола. Приехали… «Зуав» бросает якорь.
У нашего героя вещей не было, а потому он тотчас же молча сошел с «Зуава», быстро зашагал по марсельским улицам, то и дело в испуге оглядываясь, не бежит ли за ним верблюд, и облегченно вздохнул лишь после того, как расположился в вагоне третьего касса, в прямом поезде до Тараскона… Обманчивая безопасность! Поезд и на две мили не отошел от Марселя, как уже все пассажиры прильнули к окнам. Кричат, чему-то удивляются. Тартарен тоже смотрит, и… что же он видит? Верблюда, милостивые государи, неотвратимого верблюда – он мчался по шпалам за поездом среди равнины Кро и не отставал. Тартарен в отчаянии забился в угол и закрыл глаза.
После такой неудачной экспедиции он рассчитывал вернуться домой инкогнито. Но присутствие этой громадины путало его карты. Как он возвращается, боже мой! Без единого су, без львов, без ничего… Зато с верблюдом!..
– Тараскон!.. Тараскон!..
Пора выходить…
О, ужас! Стоило шешье нашего героя показаться в раскрытой дверце, как громкий крик: «Да здравствует Тартарен!» – потряс застекленные своды вокзала. «Да здравствует Тартарен! Да здравствует истребитель львов!» Тут заиграла музыка, грянул хор… Тартарен рад был сквозь землю провалиться – он решил, что над ним издеваются… Но нет! Весь Тараскон в сборе, бросает шляпы, смотрит приветливо. Вот бравый командир Бравида, оружейник Костекальд, председатель суда, аптекарь, наконец, вся доблестная рать охотников за фуражками обступает своего вождя и с триумфом несет по вокзальной лестнице…
Вот он, особого рода мираж! Шкура слепого льва, отосланная командиру Бравида, – такова причина всей этой шумихи. Скромный трофей, выставленный в Клубе, поразил воображение тарасконцев, а затем и всего юга Франции. О Тартарене заговорил «Семафор». Была сочинена целая эпопея. Тартарен убил уже не одного, а десять, двадцать, невесть сколько львов! Благодаря этому Тартарен, когда высаживался в Марселе, был уже знаменитостью, сам того не подозревая, а восторженная телеграмма прибыла в его родной город на два часа раньше него.
Но своей высшей точки всеобщее ликование достигло, когда некое фантастическое животное, покрытое потом и пылью, показалось позади нашего героя и, спотыкаясь, стало спускаться по лестнице. На мгновение Тараскону почудилось, будто вновь объявился Тараск.
Тартарен успокоил своих сограждан.
– Это мой верблюд, – пояснил он.
И, уже находясь под влиянием тарасконского солнца, чудного солнца, от которого люди простодушно лгут, прибавил, поглаживая дромадера по горбу:
– Благородное животное! Всех моих львов я убил на его глазах!
Тут он дружески взял под руку командира Бравида, побагровевшего от счастья, и, сопутствуемый верблюдом, окруженный охотниками за фуражками, приветствуемый всей толпой, чинно направился к домику с баобабом и уже по дороге начал рассказ о своих необычайных охотничьих приключениях.
– Представьте себе, – говорил он, – однажды вечером, в Сахаре…
Тартарен на Альпах
I
Появление незнакомца в «Риги-кульм». Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на шестьсот персон. Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П.К.А.
Десятого августа 1880 года, в час сказочно прекрасного заката на Альпах, прославленного путеводителями Жоанна и Бедекера, непроницаемый желтый туман и хлопья снега в виде белых спиралей заволакивали вершину Риги (Regina montium)[3]3
Царицу гор (лат.).
[Закрыть] и громадный отель, крайне необычно выглядевший среди этих диких горных хребтов: то был знаменитый «Риги-Кульм», сверкавший стеклами окон, словно обсерватория, построенный не менее прочно, чем крепость, – отель, куда на одни сутки толпами стекаются туристы, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца.
В ожидании второго звонка к обеду постояльцы этого необъятного роскошного караван-сарая скучали наверху, в своих номерах, или, пригретые влажным теплом калориферов, развалясь на диванах в читальном зале, уныло смотрели, как вместо обещанного дивного зрелища в воздухе кружатся белые мухи и как зажигаются у подъезда огромные фонари, поскрипывая на ветру двойными дверцами.
Стоило для этого тащиться такую даль, взбираться на такую крутизну… Эх, Бедекер!..
Вдруг что-то выплыло из тумана и, лязгая железом и производя нелепые телодвижения, вызывавшиеся обилием каких-то необыкновенных приспособлений, направилось к отелю.
Скучающие туристы, все эти английские мисс, забавно подстриженные «под мальчика», прильнули к стеклам и, шагах в двадцати различив сквозь метель некую фигуру, приняли ее сперва за отбившуюся от стада корову, потом за обвешанного инструментами лудильщика.
Шагах в десяти фигура вновь изменила обличье: за плечами у нее вырос арбалет, а на голове шлем с опущенным забралом, но чтобы среди горных высей возник средневековый лучник – это показалось еще менее вероятным, чем появление коровы или лудильщика.
Когда же владелец арбалета остановился на крыльце отдышаться и стряхнуть снег с желтых суконных наколенников, с такой же фуражки и вязаного шлема, из-под которого торчали лишь клочья темной с проседью бороды да огромные зеленые очки, похожие на стереоскоп, то оказалось, что это самый обыкновенный человек, толстый, коренастый, приземистый. Ледоруб, альпеншток, мешок за спиной, связка веревок через плечо, «кошки» и стальные крючья у пояса, стягивавшего английскую куртку с широкими язычками, дополняли снаряжение этого безукоризненного альпиниста.
На пустынных высях Монблана или Финстерааргорна такая оснастка показалась бы естественной, но в «Риги-Кульм», в двух шагах от железной дороги!..
Впрочем, альпинист шел с противоположной стороны, и вид его наколенников свидетельствовал о долгом переходе по снегу и грязи.
Недоуменным взглядом окинул он отель и все его пристройки, – по-видимому, он никак не ожидал встретить на высоте двух тысяч метров над уровнем моря столь внушительное здание, семиэтажное, многооконное, со стеклянными галереями, с колоннадами, с широким крыльцом, освещенным двумя рядами фонарей, придававших этой горной вершине сходство с площадью Оперы в зимние сумерки.
Но как ни был удивлен пришелец, а постояльцы отеля были еще больше удивлены, и едва он вошел в просторную прихожую, толпа любопытных повалила туда из всех зал: мужчины с биллиардными киями и развернутыми газетными листами, дамы с книгами или рукодельем; на верхней площадке лестницы тоже показались люди и, перегнувшись через перила, уставились на него.
Пришелец заговорил громоподобным голосом, этаким «южным басиной», звучащим, как цимбалы:
– Разэтакий такой! Ну и погодка!..
Внезапно смолкнув, он снял очки и фуражку.
У него захватило дух.

Слепящие огни, тепло, исходившее от газовых рожков и калориферов, после мрака и холода снаружи, затем эта пышная обстановка: высокие потолки, привратники в галунах и в адмиральских фуражках, на которых золотыми буквами было написано Regina montium, белые галстуки метрдотелей, целый батальон сбежавшихся по звонку швейцарок в национальных костюмах, – все это огорошило его, впрочем, только на одну секунду.
Заметив, что все на него смотрят, он приосанился, как артист перед битком набитым зрительным залом.
– Чем могу служить?.. – процедил сквозь зубы шикарный директор в полосатой визитке, с холеными бакенами, завитой на манер дамского портного.
Альпинист, нимало не смутившись, спросил себе номер, «маленький удобный номерок», спросил так непринужденно, будто перед ним стоял не величественный директор, а старый школьный товарищ.
Он даже чуть было не вспылил, когда к нему подошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в руке, в плотно обтягивавшем ее золотом корсаже, с пышными тюлевыми рукавами, и спросила, не угодно ли ему подняться на лифте. Он был бы не менее возмущен, если б ему предложили совершить преступление.
– Чтобы я… чтобы я… на лифте!.. – И от его крика, от его жеста пришли в движение все его доспехи.
Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке:
– Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка…
И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее широкую спину и всех по дороге расталкивая, меж тем как по отелю пробегала одна и та же скороговорка: «Это еще что такое?» – повторявшаяся на всех языках земного шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о необыкновенном человеке тотчас же все позабыли.
Столовая в «Риги-Кульм» – зрелище воистину потрясающее.
На шестьсот персон накрыт был огромный, в виде подковы, стол, на котором длинными рядами, вперемежку с живыми растениями, стояли блюда, полные рису и черносливу, и в их светлом и темном отваре отражались неподвижные огоньки люстр и позолота лепного потолка.
Как за всеми швейцарскими табльдотами, рис и чернослив делили здесь обедавших на два враждебных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали вы заранее на то или иное десертное блюдо, взгляд, исполненный ненависти или вожделения, – можно было сразу определить, к какой партии вы принадлежите. Рисолюбы отличались худобой и бледностью, черносливцы – полнокровием.
В тот вечер черносливцев оказалось, во-первых, больше, а во-вторых, к ним примкнули наиболее важные особы, европейские знаменитости, как, например, выдающийся историк, член Французской академии Астье-Рею, старый австро-венгерский дипломат барон фон Штольц, лорд Чипндейл (?), член Джокей-клоба со своей племянницей (гм! гм!), знаменитый профессор Боннского университета Шванталер и перуанский генерал с восемью дочерьми.

Между тем рисолюбы могли им противопоставить лишь таких светил, как бельгийский сенатор с семейством, супруга профессора Шванталера и возвращавшийся из России итальянский тенор, щеголявший своими запонками величиною с чайное блюдечко. Неловкость и натянутость, которые чувствовались за столом, по всей вероятности вызывались именно тем, что здесь столкнулись два противоположных течения. Иначе как же объяснить, что все эти шестьсот персон, надутые, хмурые, подозрительные, хранили упорное молчание и смотрели друг на друга с величайшим презрением? Поверхностный наблюдатель приписал бы это нелепой англосаксонской чванливости, которая в мире путешественников всюду задает теперь тон.
Нет, нет! Существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с первого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задирать нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное.
Я вам уже сказал: рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в «Риги-Кульм», а между тем, принимая во внимание многочисленность разноплеменных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если б он был устроен у подножия Вавилонской башни.
Когда альпинист вошел, вид залитой светом люстр трапезы молчальников привел его в некоторое замешательство; он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания, – тогда он сел с краю стола, в самом конце залы. Без доспехов, это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека, плешивого, с брюшком, с остроконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц, было что-то особенно привлекательное.
Кто же он: рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку.
Только успев сесть, он беспокойно заерзал на стуле, потом испуганно вскочил.
– А чтоб его!.. Сквозняк!.. – воскликнул он и устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спинкой к столу.
Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его:
– Это место занято, сударь…
Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь, с сильным акцентом:
– Нет, оно свободно… Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу.
– Болен? Болен? – участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол. – Надеюсь, не опасно, а?
Он произнес – «э». Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде: «Что, ну что, а ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, э-эх, все-таки», которые еще резче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз.

Сосед справа тоже не очень к себе располагал; это был итальянский тенор, ражий детина с низким лбом, масляными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенькой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой, он считал, что это полезно для здоровья.
– Ишь ты! Какие красивые запонки!.. – вслух заговорил он сам с собой, посматривая на манжеты итальянца. – На яшме вырезаны ноты – прррэлэстно!..
Его голос, в котором слышался металл, рокотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзвука.
– Вы, наверно, певец? Чтэ?
– Non capisco…[4]4
Не понимаю (итал.).
[Закрыть] – пробурчал себе под нос итальянец.
Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала митенка, к горчичнице, он предупредительно подвинул ее.
– Пожалуйста, барон…
Он слышал, что все именно так обращались к дипломату. Но вот горе: бедный фон Штольц, несмотря на то, что он производил впечатление человека хитроумного, искушенного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице, затем молча опустил. Нужно было, по крайней мере, десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности.
При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало! Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой вполголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке и не слыхала, что он к ней обратился. Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьким прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос… Кто она: полька, русская, норвежка?.. Во всяком случае, северянка. Тут южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать:
Севера звезда, графиня!
Вижу я: вас нынче вновь
Серебром осыпал иней,
Чистым золотом – Любовь.
Все обернулись: уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся – только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































