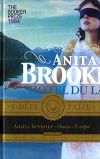Текст книги "Отель – мир"
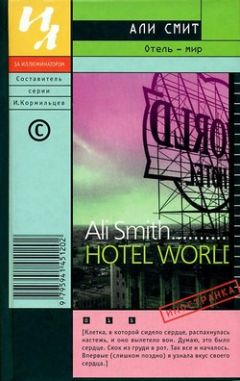
Автор книги: Али Смит
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Так продолжалось три недели по рабочим дням, даже по субботам. У нее был скользящий график работы, и на обед она ходила когда как. Он мог прийтись на любое время между половиной двенадцатого и четырьмя. Всю третью неделю она обедала в половине первого; каждый день вдруг открывалась дверь, звякал колокольчик, и, помахав рукой кому-то в магазине, она шла через тротуар, потом через дорогу – сюда, прямо на меня – и проходила мимо, почти вплотную. Она была красивая; проходя мимо, она смотрела сквозь меня, будто сквозь стекло.
Любовь превратила меня в невидимку.
На восемнадцатый день слежки я решила, что провожу взглядом ее коричневый пиджак в последний раз. И пошла домой. Я закрылась в нашей спальне. Сложила квитанцию как можно плотнее, в маленький квадратик, готовый разжаться в моей ладони, и спрятала в музыкальную шкатулку, что стояла на туалетном столике. Эта шкатулка была у нашей матери с шестидесятых, с самого детства. Когда поднимаешь крышку, пластмассовая балерина на сцене разгибается, поднимается и начинает вращаться; у нее одна ножка, приклеенная к пьедесталу. Ну, как бы две, прижатые друг к дружке. Руки балерины сложены над головой, образуя овал, пальцы сплавлены друг с другом. Пока она вращается, звучит мелодия. Тема Лары из «Доктора Живаго». Убого, как из шарманки. Я засунула сложенную квитанцию в щель под сценой у самой ножки балерины. Крышка захлопнулась, музыка смолкла, балерина сгорбилась. Я поставила шкатулку на место и быстро собралась. Я торопилась. Мне предстояло первое дежурство на новой работе.
В первую же ночь парень, обслуживающий номера, обещал показать мне, как тут «дергать за веревочки». Было воскресенье, дел по горло. На вторую ночь мы поднялись на последний этаж. Это был понедельник. Наверху было мало постояльцев. Не помню, как его звали. Он рассказывал мне историю отеля. Карманы у него топорщились от бутылочек с напитками для мини-баров. Мы валяли дурака, сидели на кроватях в пустых номерах, смотрели по телеку передачи с субтитрами, убрав звук, чтобы нас не застукали. Было еще довольно рано, примерно пол-одиннадцатого. Он убирал тарелки в этот чертов подъемник. На тарелке под металлической крышкой лежала целая отбивная и почти нетронутая порция картошки. Я съела пару ломтиков. Не ешь, сказал он. Лично я бы не рискнул, ты ведь новенькая и не знаешь, как тут готовят жратву. Я сказала, спорим на пятерку, я туда помещусь. Вынула поднос. Я боялась, что пролью подливку на ковер, но все обошлось, я поставила поднос на пол и забралась внутрь, вписалась идеально, и когда высунула голову, чтобы сказать: теперь ты мой должник, и вдруг…
Остальное ты знаешь, сказала она. Ты же там была.
Наше разбитое тело на дне шахты. Да, я там была. О-ооо-гого-гого-ооо, да, вот что я почувствовала. Теперь вспомнила. Сколько секунд? спрашиваю.
Твое время вышло, сказала она. Конец фильма. Уходи.
И все-таки сколько? повторила я. Неужели ты не помнишь, сколько времени мы падали?
Нет, отвечала она.
А что за веревки он имел в виду? спросила я. Короткие или длинные? Как от них зависела скорость падения?
Какого хрена, сказала она. Я рассказала все, что знаю.
Контакт терялся. Я зашла с другого боку. Кстати, о бассейне, говорю. Ты когда-нибудь прыгала с самого верхнего трамплина? Это очень высоко? А в других бассейнах? Спорим, это то-ооо-
– ого-ооо же самое, даже покруче.
Конечно, прыгала. Сама знаешь. И у меня неплохо получалось. Я могла сделать в воздухе двойное сальто. Слушай, боль усиливается. Уходи. Ты же обещала. Я тебе все рассказала. Тебе что, некуда податься? Разве ты не должна отправиться в рай, ад или еще куда?
Да, уже скоро, отвечаю. (Бог знает куда.)
Чем скорее, тем лучше, сказала она. Я устала. Уходи. И не возвращайся. Нас с тобой больше ничто не связывает.
И захлопнулась, словно крышка. Тогда я поднялась наверх. Она погрузилась обратно в сон, а я стала распускать каждую букву нашего с ней имени, бросая прочь маленькие пестрые ниточки, из которых было сплетено наше единственное и неповторимое имя.
Мне хочется еще раз спросить ее, как называются штуки, которыми видят. Как называется поджаренный хлеб.
Я опять забыла, как называется этот лифт для посуды. Утомилась, пересказывая вам эту историю – всем вам, кому есть чем шагать по тротуару, кто имеет зрение и слух и снует туда-сюда перед главным входом в отель. Я забываю слова; они устилают землю подобно бесчисленным осколкам гранита, летевшим из-под резца, который выводил на плите ее имя. Я поднялась сквозь землю. Хорошо бы набить рот землей, темной, вязкой, с дерном и камушками, она прилипает к языку, застревая под ним и между зубами, как зернышки горчицы. Вот бы взять горсть земли; если растереть ее между пальцами, дерн с травой и тонкий слой почвы будут крошиться, как рассыпчатый кекс, а смочишь ее слюной, и она пристанет к коже, словно краска.
Будь у меня слюна, пальцы, рука, рот.
Ты-то можешь набить рот землей, а? Да-да, вот ты. У тебя есть рука. Есть чем зачерпнуть землю. Я прошла сквозь землю, но не смогла ухватить ни щепотки. Я пролетела над эстакадами, стонущими под тяжестью автомобильного потока. Видела чахлую травку по периметру железнодорожных станций; видела выброшенный холодильник; сгоревшую машину; старую мебель, гниющую под дождем. Вот подо мной провал бассейна. Из него слили воду, осушив на холодное время. Темнело. На глубоком конце жухлая листва водила хороводы.
По обе стороны бассейна дребезжали шеренги запертых на зиму дверец. Воробей дождался, пока листья улеглись, поскакал по дну бассейна, наклонил головку набок. Никого. Нечем поживиться.
Я обратилась к воробью и пустому бассейну: у меня для вас новость. Слушайте. Помните: надо жить.
Верхний трамплин еле качнулся подо мной от слабого порыва ветра.
Куда я могла податься? Обратно в отель. По пути я видела стремительно низвергающийся водопад лиц. Вот они: молодая женщина с трудом плетется по улице, тащит битком набитые сумки. Мужчина на крыше у открытого люка, волосы и нос в чем-то белом; за ухом карандаш. Вот очередь; мужчина запустил руки под юбку стоящей рядом подруги. Он поднимает ее, ухватив за пах; у обоих пьянчужек счастливые лица, они хохочут. Остальные люди в очереди колеблются между вежливым безразличием и яростью. Я заглянула в мысли одного мужчины и увидела поножовщину.
Я видела, как старик тянул руки вслед мужчине намного моложе, который уносился прочь в нагруженной скарбом машине. Рука старика маячила в воздухе еще долго после того, как машина скрылась, потом он просто стоял у стены своего сада среди птичьего гомона и пустоты. До меня донесся слабый запах булочек. За столиком в кафетерии женщина читала газетную статью про семью, которая отправилась покататься на лодке, и всех, кроме одного, съели акулы. Она читала вслух про откусанные ноги и изуродованные головы женщине за стойкой, а та нервно хихикала. Сигаретный дым извивался и застаивался у нее в горле, образуя налет. Ранним дождливым вечером на неприметной автостоянке я видела машину с буквой У спереди и сзади; внутри сотрясали сиденье юноша и женщина. А, любовь. Испытать тяжесть другого тела. Женщина держала под мышкой папку с зажимами, а другой рукой обнимала парнишку, бедняга прямо кипел. От обоих шел пар и оседал на стеклах машины.
Я сказала им всем.
Людям в очереди в кино. Они хотели что-то посмотреть. Людям в аптеке «Бутс»[9]9
«Boots» – сеть аптек в Великобритании.
[Закрыть]. Они ждали рецептов. (Представьте, что у вас насморк, о, этот божественный дар. Или что вас щиплет за причинное место молочница. Представьте, что это значит, каково это – иметь цвет.) Я пошла в супермаркет. Ряды с лотками ломились от еды. Я сказала девушкам-кассиршам. Они ждали полудня субботы, чтобы пойти домой. Для них суббота – не день, а каторга.
Помните все: надо жить.
Почти стемнело. Я набрела на магазин, где все окна пестрели часами. Там в одиночестве сидела девушка, положив руку на стеклянную гладь прилавка. Часы были и под ней, и над ней. Она уставилась на свое запястье; стрелка ее часов дергалась и замирала, шаг-стоп, шаг-стоп.
Я прошла сквозь нее. Не удержалась. И не ощутила ничего. Надеюсь, это был тот самый магазин. И та самая девушка. Она передернула плечами и стряхнула меня.
Я прижалась сбоку к ее голове не существующим больше ртом. И сказала:
У меня для тебя новость. Слушай.
Она тряхнула головой, поправляя волосы. Почесала шею у затылка. Снова опустила руку на прилавок и стала смотреть, как ее часы по секунде отмеряют время.
О-ооо-
– ого-ооо? Что на этот раз? Да ничего. Я пробую снова и снова. По нулям. Только сон наваливается. Мое время почти вышло.
Сегодня мое последнее «ночное дежурство». Я кружу по отелю, заклиная камни, пыль, фундамент. Одни комнаты поменьше, другие побольше. Размер диктует цену.
Я брожу по коридорам невидимкой, воздухом из кондиционера. В ресторане порхаю от столика к столику, от обычного блюда к диетическому. Я просачиваюсь сквозь дверь на кухню; там в глубине, у задней стенки стоят пять баков, доверху полных нетронутой еды.
Я парю в регистратуре дежурной мелодией отеля. Вы меня узнаете; я – набивший оскомину мотивчик. Я скольжу вверх по сверкающим перилам на самый верхний этаж, сквозь дверь какого-то номера, над ковром, сквозь окно, делаю пируэт – и опускаюсь вниз, ко входу в здание (где на тротуаре выложено плиткой название отеля, и каждое утро в половине седьмого, в любую погоду, темно ли, светло ли, ее приходит мыть изможденная женщина с ведром и шваброй; завтра я ее не увижу, а жаль). О-ооо-
– ого-оооу меня для вас новость, кричу я черному небу над отелем и окнам по периметру, где в половине пятого зажигается свет, кричу с фасада и сзади, кричу двери-вертушке, что вдыхает и выдыхает людей.
Только что дверь заглотнула девушку. Она хорошо одета. Никакого груза за плечами. Возможно, ее жизнь скоро изменится. Там, внутри еще одна девушка, в служебной форме, она работает в регистратуре. Она больна, но пока об этом не знает. Жизнь, она скоро изменится. А вот третья девушка, рядом со мной, она сидит, закутавшись в одеяла, недалеко от входа в отель, прямо тут, на тротуаре. Ее жизнь тоже изменится.
Вот и все.
Помните: надо жить.
Помните: надо любить.
Мните: да фюить.
(Мне будет не хватать дождя. И листвы. Мне будет не хватать этого… Как же он называется? Забыла слово. Так называется… Ну, знаете. Нет, не дом. И не комната. Я имею в виду, так устроен… Не от сего… Уйти в лучший… Слово.
Я вишу падаю разбиваюсь между этим словом и другим.
Засеки время, ладно?
Ты. Да, вот ты. Я к тебе обращаюсь.)
Настоящее историческое
Же на улице. Пока ее улов – одна мелочь, в основном медяшки, в пять-десять пенсов. Случайная серебряная монетка блестит среди них, словно только что из кассы «Маркс энд Спенсер»[10]10
«Marks and Spencer» – сеть супермаркетов в Великобритании.
[Закрыть], но большинство монет потускнели от употребления и от холода. Кто пожалеет о каком-то пенсе, что выпал из пальцев или из кармана на тротуар? Вот лежит монетка, совсем рядом с ногой Же. Кому сдался один пенс? Да никому, на хрен – конечно, если говорить о нормальных людях. А что, забавно: трахнуться ни с кем – с пустотой, где лишь могло находиться тело – ритмично дергаясь взад-вперед.
Если она наклонится вперед, то сможет дотянуться до пенса, не вставая.
Она наклоняется. Наклоняться больно.
Она передумала. Подберет его, когда двинется в путь. Она
(Пдт мнтк)
сидит у вентиляционной решетки, из которой поднимается слабое тепло. Здесь рядом с отелем – отличное место, оно в ее полном распоряжении, стоит только забиться в стенную нишу, удобную и вполне приличную, к тому же расположенную на приличном расстоянии от входа, чтобы Же не доставали служащие отеля. Она смотрит вверх. Потолок для нее – небо. Оно все ниже, сейчас рано темнеет. На верхнем карнизе здания напротив собрались скворцы, вроде бы уселись и снова всполошились, устроив кучу-малу из лап и клювов. Яйца скворцов бледно-голубого цвета. Они строят гнезда из травы и перьев, а порой из разного сора, на деревьях, высоких карнизах или В углублениях каменной кладки. Это настоящие городские птицы. Грудки у них в звездочках. В сумерках они собираются в стаю, вытирая небо дочиста одним размашистым жестом.
А сумерки уже спустились; улица, разделяющая здания, залита сиянием фонарей, светом из окон отеля, из витрин, от фар проезжающих машин. Оттого что Же так долго смотрела вверх, у нее заболела шея. Она опускает взгляд к подножию здания напротив. Так и есть. Девчонка опять там, сидит на ступенях выставочного зала Мира ковров. Да, это она. Видно, входит во вкус. Все знают, что это территория Же. А девчонка ведет себя так, словно не знает. Лица под капюшоном не разглядеть, но это точно она.
Же наблюдает за девушкой. Та смотрит куда-то мимо Же. Тут Же отвлекается. Мимо проходит женщина, она увидела Же, но решает не замечать; большинство людей вообще ее не видит, так что тут верный расчет: если Же попросит, ей что-нибудь перепадет.
(Пдт мнтк. Спсб.)
Две по десять пенсов.
Если положить в рот десятипенсовик и попробовать надкусить, слабые зубы могут и не выдержать. Какой металл прочнее – серебро или медь? Это не настоящее серебро. Какой-то сплав. Она посмотрит название в библиотеке, когда снова будет дождь, а там будет открыто. Она уже как-то смотрела, но забыла. Лично ей кажется, что десятипенсовик прочнее, и на то есть основания. Однажды они с Эйдом набили рты мелочью, так, что чуть щеки не лопались. У Эйда поместилось гораздо больше, чем у нее; у него-то рот побольше, ха-ха. Щеки у него раздулись, как у хомяка; сквозь щетину можно было разглядеть ребрышки монет. Берегись: кто набил деньгами рот, тот башкой не шевельнет.
Эти воспоминания вызывают у нее смех. Смеяться больно. Потом все деньги у них были в слюне; он выплюнул всю блестящую массу ей в ладони, вот гадость. Держи, сказал он, тебе они больше пригодятся. Господи, должно быть, они были пьяны или обкурились; ведь знали, что на монетах полно микробов, а все равно запихали их в рот. Вкус во рту был металлический. Когда потом Эйд поцеловал ее, поцелуй тоже отдавал металлом. Раздвинув ее зубы языком, он протолкнул десятипенсовик ей в рот и сбросил плашмя на язык, как облатку, она подержала монетку на языке, словно ждала, пока та набухнет от слюны, а потом открыла рот и вытащила. Монета выпуска 1992 года. О, боже. Они перецеловали
(Пдт мнтк)
все монетки разной величины, которые у них нашлись, толкая туда-сюда изо рта в рот, устроив игру, чтобы вкусить от каждой.
Же пытается вспомнить.
Она помнит вкус поцелуя даже лучше, чем самого Эйда, его внешность, лицо. Бывает, целое событие сводится к одному-единственному ощущению, к краткому мигу. А целая личность к блику лика. Сейчас она иногда протирает монетку о джемпер и кладет в рот; вкус серебра острее, чем вкус меди. Медь отдает гнилым мясом. У монеток в один и два пенса ребро гладкое; а у пяти– и десятипенсовиков – с такими узенькими прорезями; но если прикоснуться кончиком языка, они кажутся довольно широкими. Кончик языка очень чувствительный. А вес фунта ее просто поразил. Nemo mе impune lacessit[11]11
«Никто не тронет меня безнаказанно» (лат.) – девиз Ордена Чертополоха, высшего шотландского ордена, учрежденного королем Яковом II в 1687 г.
[Закрыть]. Он предупреждает. Вот что читает кончик языка по ребру тяжелых монет.
Этот вкус пристал к ее пальцам, сидит у нее в глотке. А может, у ангины просто-напросто тот же вкус, что у денег, да и у любви.
Же вскинула голову, смотрит через дорогу. Сегодня девчонка напялила капюшон, и люди будут давать ей меньше денег, потому что им не видно, парень это или девушка. Сняв капюшон, она заработала бы намного больше. Впрочем, она и так недурно загребает. Во всяком случае, куда больше Же. Но без капюшона дело пошло бы гораздо лучше. Же должна пойти на ту сторону и сказать ей. Она ничего не понимает. Она пришла в десять минут пятого. На вид ей лет четырнадцать, от силы пятнадцать; у нее на лбу написано: школьница. Она просто
(Пдт мнтк)
воплощение прилежной ученицы. Волосы у нее под капюшоном слишком блестящие и ухоженные. Она не похожа на нищенку. Она меняет одежду. У нее несколько курток. Она больше смахивает на беглянку, из новоиспеченных, сегодняшнего «призыва». Поэтому она и собирает деньги с легкостью, еще бы, это все равно что растерявшийся звереныш с шоколадной коробки, какие продавали много лет назад, по сравнению со взрослой кошкой или собакой. Единственное, что можно сказать точно, – вид у нее несчастный, какой-то заиндевелый. Цвета треснувшего ледка на луже. Же ей сочувствует.
Но, похоже, девчонке не нужны деньги. Она даже не замечает, что люди бросают ей монеты. Всякий раз повторяется одно и то же; она зарабатывает золотые горы, до которых ей, по всей видимости, нет никакого дела. Же помнит, что значит быть юной и плевать на все. Это заставляет их, прохожих, давать тебе больше, чтобы оставить хоть какой-то след в твоей жизни. Некоторые даже предлагают девушке купюры. Же сама видела. Они садятся перед ней на корточки и что-то говорят, покачивая головой и кивая с серьезным видом, а у девушки на лице такое выражение, словно, словно… Же пытается подобрать слова. Вот: словно она проснулась утром, встала с постели, спустилась по лестнице, вышла на улицу
(Пдт мнтк Спсб.)
и вдруг обнаружила, что все люди вокруг, весь город почему-то говорит на совершенно непонятном языке, норвежском, польском, или на каком-то неведомом наречии.
Мимо идут люди. Они не замечают Же – или решают не замечать. А Же на них смотрит. Некоторые прижали к уху мобильные телефоны, будто схватились за щеку в приступе дикой боли. А обладатели новинки, мобильного с наушниками, бродят по улицам, словно психи, которые болтают сами с собой, пребывая в мире грез. Же становится смешно, а от смеха – больно. Небо – потолок, здания – стены; а за спиной у нее сейчас стена отеля, которая позволяет ей держаться прямо. А внутри еще одна стена не дает ей упасть; слепленная из мокроты, она поднимается от живота до горла, и в такие моменты, когда Же не в силах сдержаться, когда она кашляет и не может остановиться, стена начинает пошатываться. Же кажется, она крошится, как дрянной цемент. Но и польза от стены есть. Она не дает Же свалиться. Она поддерживает ее изнутри, как сзади – стена отеля.
Же представляет себе: вот ее сердце, мышцы, вот кровь омывает ребра и легкие. Ей кажется, что ее легкие издают резкий свист, захлебываясь кровью, ее мышцы – плохонькие провода, причем совсем устаревшие, и что кто-то решил с их помощью провести телефон там, где это невозможно в принципе. Словно приезжает человек с кучей проводов, чтобы подключить, куда надо, вылезает из фургона и видит перед собой офигенный замок со смотровыми щелями вместо окон, – а дело происходит в пятнадцатом веке, когда никакого электричества не было и в помине.
(Пдт мнтк)
Только представьте: телекантроп, эволюционный выкидыш дарвинской системы, этакий футуристический неандерталец в комбинезоне – на плечах мотки проводов, за спиной фургон, набитый здоровенными катушками, – стоит столбом, почесывая голову на манер шимпанзе, потому что в земле не видать люка, чтобы спуститься куда следует и выполнить работу, а дамочка с покрывалом на голове глядит на него в бойницу как на марсианина, ведь на дворе – пятнадцатый век, и таких фургонов еще не изобрели. Представляю себе их лица. От смеха она закашлялась. Кашель – давай, Господи, думает она во время приступа – посылает ей в грудь сноп стрел из пятнадцатого века с острыми крюками и зазубренными железными наконечниками, а ведь она сейчас справилась всего лишь с «детским» кашлем, а настоящий (она все еще борется, делая микроскопические вдохи, чтобы восстановить силы) сотряс бы ей все нутро и отправил бы в ров добрый кусок ее внутренней крепостной стены. Настоящий кашель (мышцы рук и плеч успокаиваются, она встряхивает головой) – это когда все старье Национального треста рассыпается на хрен, обращаясь в никчемное каменное крошево.
Же должна остановить бег мыслей. Должна обуздать свое
(Мнтк пдт.)
воображение. Она не смеет больше смеяться; не смеет кашлять. Кто знает, что она может выхаркать? Судя по ощущениям, какую-нибудь хрень размером с поросенка, да еще покрытого щетиной. Черт. Вот паскудство, блин. Кашель так и прет, неся освобождение и боль. Она кашляет от смеха. Оттого, что дышит. Можно предположить, что и реальный хрен вызвал бы у нее кровотечение. Она кашляет от любого движения, от простого поворота плеч или головы. Же не смеет шевельнуться, еще не время.
Когда она решит подняться, то сделает вот что. Она в третий раз подряд направится через дорогу к девушке и соберет деньги, которые набросали той под ноги. Они, Же и девушка, сами установили правила игры, сейчас вы их узнаете. Сначала Же поднимается. Потом переходит дорогу. Девушка видит, что она приближается, и убегает. Же собирает деньги. Это справедливо. У нее есть право. Все знают, что отель – территория Же. Но ей надо сыграть свою роль без сучка, без задоринки. Надо правильно рассчитать время. Если двинуться с места слишком рано, можно спугнуть девчонку и лишиться потенциального барыша. Но если она засидится, девчонка может сама встать и уйти, а вдруг на этот раз она заберет деньги с собой? Вдруг она решит, что деньги ей пригодятся? Же восстанавливает дыхание. Все обойдется. Скоро хлынет поток людей с работы и еще скорее сойдет на нет; кто его знает, за это время девушка может заработать целое состояние. Же подождет. Будет тихонько сидеть и ждать, потому что там может оказаться десять, а то и все пятнадцать дармовых фунтов,
(Пдт мнтк)
ровно на пятнадцать больше, чем заработала Же, поскольку сегодня она наскребла считай что ничего. С этим чертовым кашлем ни хрена не заработаешь. Тебя обходят стороной, делая большой крюк. Три фунта сорок два пенса – вот и все, что она заработала за целый вечер. Она, того и гляди, привяжется к девчонке. Ведь они, можно сказать, деловые партнеры. Сегодня Же сможет хорошо поесть, а возможно, и заплатить за ночлег.
Если только девушка не уйдет первая, забрав деньги.
Если Же переждет час пик, а девушка все будет сидеть.
Если никто не сгонит их с места.
Двигай отсюда.
Люди не хотят это видеть.
И я не хочу.
Ясно?
Вот и умница.
Спасибо.
Вот что еще время от времени говорили Же полицейские:
Это твои вещи? Тогда собирайся. Иначе мы все выбросим. Давай. Двигай отсюда. (мужчина)
Сколько вам лет? Этак вы и года не протянете. Сами знаете, верно? Я ведь не выдумываю. Такова статистика. Такие, как вы, умирают каждый день. Я не выдумываю. Мы каждый день это видим. Человек вдруг падает прямо на улице. Вы что, не хотите дожить до тридцати? (женщина)
У тебя есть дом. У всех где-то есть дом. Иди домой, вот так, молодец. (мужчина)
Уходи, Же, так не положено; сама знаешь, не положено. (женщина)
Ты никогда не хотела поработать? Другие почему-то вкалывают. Не все хотят шляться без дела, как ты. (женщина)
(шепотом) Говорю тебе без экивоков и повторять не собираюсь. Хочешь, чтобы тебя изнасиловали – пеняй на себя. Еще раз тебя здесь увижу – получишь по полной. Я серьезно. Я не угрожаю. Я гарантирую. Ты меня слышишь? Слышишь, нет? (мужчина, в участке)
Неужели до тебя никак не дойдет, тупица, что нормальные люди ненавидят такую мразь? Вы – отбросы общества. Вы портите жизнь всем остальным. Вы – отбросы общества, мать вашу. (женщина, в участке)
Держи, моя хорошая. Тебе с молоком и сахаром? Размешай как следует, там на дне порошок. (мужчина, в участке)
Ты не читала нашу доску объявлений, Дженет? Нет? А ведь ты имеешь право ходить к нашему психотерапевту. Он принимает по четвергам здесь, на четвертом этаже. Ты имеешь право. Это значит, что занятия бесплатные, бедняки ничего не платят. Пойми, мы здесь для того, чтобы помогать людям. Тебе нужно только записаться. Только захотеть. (женщина, в участке)
Же помнит это слово из школы. Бедняки. Она узнала его на уроке истории: когда-то давным-давно жили филантропы (тоже слово из прошлого), к ним принадлежал, в частности, Роберт Оуэн, который построил для рабочих своей фабрики церковь, школу и больницу и не нанимал на работу малышей, дети начинали работать у него с более старшего возраста, чем было принято у тогдашних коммерсантов. Его фабрика называлась Нью-Ланарк, Новый Ланарк, вроде как новое место обетованное на Земле. Бедняки. Вот для кого история исправляла свои ошибки, кому хотела облегчить жизнь. Но одно дело – тогда. А другое – теперь. На одной из газетных страниц, которыми она обернула ступни (ботинки слишком велики), есть статья, в которой автор предлагает установить ящики для добровольных пожертвований нищим в магазинах вроде «Сейнсбериз»[12]12
«Sainsbury's» – сеть супермаркетов в Великобритании.
[Закрыть], чтобы все желающие по-прежнему давали попрошайкам деньги, а остальных людей они
(Пдт мнтк)
оставили в покое. При таком повороте событий (она отваживается на короткий смешок; что-то отдается эхом в груди, потом замирает) Же останется без работы.
Пенс, который она подберет через минуту-другую, лежит у ее ноги решкой вверх, Же видит чеканку, монетка совсем новая, с рельефным портретом королевы в преклонные годы. Монетка под надежным присмотром. Она никуда не денется. Же обретет ее совсем скоро.
Она любит обертывать ноги подходящим материалом. В ЦЕЛОМ СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СЕЙЧАС ВЫШЕ, ЧЕМ 20 ЛЕТ НАЗАД. КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ. Этот заголовок у нее под пяткой. Ха-ха. Она вырвала эту страницу из газеты в библиотеке. Старинный город, на тротуаре которого она сидит, с кварталами средневековых и современных зданий над средневековой канализацией, – вот и все, что осталось от истории; надо же туристам где-то тратить летом свои дорожные чеки. Истинная история умерла, Же знает, она же умница; она всегда отличалась умом. Сегодня она помнит, как пишется филантроп. Но все-таки не может вспомнить назначение стрелок на часах, то ли короткая показывает минуты, то ли длинная.
(Пдт мнтк Спсб.)
Мнтк. Пдт.
Сл в прчт т бвлн, т смжт ст скртрм и плчт хрш рбт.
Сначала она представляет, что плчл хрш рбт, и выходит из офисного здания вроде того, что высится над Миром ковров, с уложенной прической, в стильном узком покупном костюмчике, на модных нейлоновых ножках добротные туфли. Потом она вспомнила, как в детстве во время поездки в Лондон, сидя в метро с отцом, который читал все объявления про хрш рбт, она, востроглазая девочка с зачесанными назад волосами, в чистеньком платьице, сшитом матерью, прочитав тогда это объявление и все смекнув, вообразила, что верная расшифровка стенографической записи – лишнее доказательство ее ума. Тут Же становится смешно. Смех вырывается наружу; она не может его сдержать. А со смехом вырывается и кашель, громкий, внезапный, трусившая мимо собака пугается, дергается на бегу и разражается лаем, кашель и лай звучат в унисон, рука оттаскивает собаку, и тогда кашель начинает причинять боль, это девочка, засевшая в ней острым осколком, причиняет боль, это дитя кашля и прошлого схватило ее зубами и треплет, как собака тряпку.
Чтобы остановить эту трепку, эти мысли, она начинает думать о секретаршах, обо всех на свете секретаршах с хрш рбт, о вереницах
(Пдт
(она закашлялась
надолго и упустила прохожего)
мнтк)
стенографисток, 100 слов в минуту. Только вообразите, они аккуратно потрошат слова, а поток выкинутых и, о, у, э, я, е, а переполняет мусорные корзины. Но теперь их отправили в отставку, всех этих стнгрфстк, думает она. Они вымерли. Ха-ха. Их вытеснила поросль безукоризненных деловых девушек с диктофонами и компьютерами, которые печатают слова, как только они вылетают изо рта. Может, все стнгрфстк оказались на улице и занимаются той же работой, что Же. Ей тоже не нужны гласные. Она владеет всеми видами стенографии. Она представляет, как тротуар усыпают буквы, что выпали из произносимых ею слов-калек (целые слова ей ни к чему). Представляет объяснение с полицейским, или муниципальными дворниками, или недовольными прохожими. Я все уберу, обещает она им про себя. Это ведь просто буквы. Между прочим, это органический мусор. Он гниет, как листва. Получается отличный компост. Птицы выстилают ими гнезда, чтобы держать яйца в тепле.
У скворцов яйца бледно-голубые. У малиновок – белые с красными штрихами. У дроздов – в коричневых мазках. У воробьев – серые и коричневые, крапчатые. У зябликов – розовые с переходом в коричневый. У черных дроздов – зеленовато-синие в коричневую крапинку. Она различает яйца городских птиц; с детства, еще когда гуляла в саду позади дома и разглядывала в гнезде черного дрозда, устроенном в изгороди, три маленьких сине-зеленых яичка в ложе из травинок и прутиков. Не трогай их, сказала мать. Если прикоснешься к яичкам, птичка-мама об этом узнает и больше не прилетит, и тогда они умрут. А как она узнает? спросила Же. Узнает, и все, сказала мать, не трогай, говорят тебе. На Же было желтое кримпленовое платье с розовой лентой-каймой вокруг ворота, на манжетах и по краю юбки. Стоял месяц май семьдесят девятого года, тысячу лет тому назад. Яйца были такие хорошенькие. Она взяла одно и подержала в руке. Оно было невесомое, его было так легко повредить. Она могла без труда раздавить его; стоит чуть нажать, и оно треснет. Она положила его обратно, рядом с двумя другими. Никто ничего не видел.
Но на следующий день дроздиха не вернулась. Через три дня яйца были холодные. Птенчики там внутри превратились в слизь, их кости не успели сформироваться, разве что сгибы-локотки крыльев.
Хватит реветь, сказала ей мать. Бедным птенчикам это не поможет. Она подарила Же книгу с птицей на обложке. Книга только растравляла рану. Же стала заучивать из нее разные факты. К началу следующего лета, когда разреженный воздух в конце дороги дрожал от зноя и гнезда, притаившиеся на ветках и в изгороди, кишели оперившимися птенцами, а история с прошлогодними яйцами казалась дурным сном, Же (в новеньком синем переднике с вырезом у шеи, на кармашке вышиты маргаритки) уже знала назубок: у стрижей яйца белые, продолговатые, у сорок – синеватые в коричневую крапинку.
Же часто снится один и тот же сон: она входит в комнату, где все стены заставлены платяными шкафами. Открывает дверцу первого, а там на полке швейная машинка матери, накрытая толстым целлофановым чехлом от пыли. Вокруг машинки, снизу и сверху, идут полки с ящиками. Внутри каждого – сложная система отделений. А в каждом отделении – ставший мал нарядец. Платье, кардиган, жилет, брюки, передник. И каждая вещица сшита специально для нее. Отделения заполняют ящики, ящики – шкафы, а шкафы так загромождают комнату, что в ней почти нет свободного места, и каждый наряд в своем отделении лежит сплющенный до предела, без единого вздутия, словно в вакуумной упаковке. У Же кружится голова. Она распаковывает первую одежку, вторую, и они одна за одной ложатся в кучи у нее в ногах и по бокам, и хотя она достала уже сотни тряпок, перед ней еще сотни нераспакованных вещей, среди которых нет и двух одинаковых, и все ручной работы, с аккуратной стежкой, а ее ждут еще тысячи закрытых ящиков. Рукава-фонарики. Маечки и жилетки. Подолы с фестонами. Черная кайма зигзагом. Кримплен и хлопок, нейлон и шерсть, полиэстер, терилен, замша, и все на выброс; слишком маленькое, слишком тонкое, слишком чистое, все слишком; шкафы, набитые неизношенной любовью, бесконечны, но с острой безнадежностью Же сознает, что это сон, и хотя ничего с собой не унесешь, ее старые рубцы в который раз заноют оттого, что надо проснуться, вновь утратив навсегда эти кофточки и платьица с пустыми рукавами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?